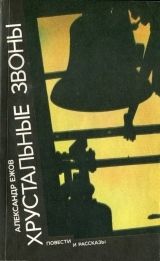
Текст книги "Преодолей себя"
Автор книги: Александр Ежов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
Он прижал сверток и вдруг понял, что он тут лишний, совсем чужой и никому не нужный в этом доме. У порога спросил:
– А Вера где?
– Это сестрица-то? Ушла на станцию еще утром. Торопилась к поезду.
Пришел к Блинову. Не хотел идти к нему, совсем не хотел, а вот пришел. Гешка сидел на табурете и подшивал старые валенки.
– Садись, друг, садись,– пригласил Федора.– Что невеселый такой?
– Дела неважнецкие. – Федору нужна была чья-либо поддержка, хотя бы друга-фронтовика. А какой друг Гешка? Собутыльник, пьяница. Не по пути ему с ним.
– Может, тяпнем по махонькой? – предложил Гешка и весело крикнул: – Марья!
– Нет, пить не буду,– отказался сразу Федор. – Горе самогоном не зальешь.
– А что у тя за горе?
– Жена родила. Настя.
– Ой-хо-хо! – Гешка закатил глаза, озорно засвистел.– Вот это новость! Подарочек, значит, преподнесла. Я же говорил тебе, что принесет. Ну, и что думаешь делать?
– Уеду, чтоб с глаз долой.
– Куда поедешь? Куда?
– А хоть куда. Нельзя оставаться здесь. Сапрыкин – отец ребенка.
– Сапрыкин? – Гешка скрипнул зубами. – А может, не он? Кто другой, может?
– Он. Видел его там, в Ивановском, разговаривал.
– Ну и что?
– А то, что прохвост он препорядочный. Гад!
– И все-таки, может, другой кто у ней, у Насти-то? В партизанах была. Разведчицей. Может, понапрасну на Сапрыкина грех накладываешь? У самой спроси.
– И спросил бы, да к ней не пускают. А вообще, что толку теперь спрашивать? Не все ли равно от кого?..
– Давай выпьем с горя-то. Все полегчает.
– Нет, не буду,– опять отказался Федор. – Водка – она что? Человека калечит. Сопьешься – пропал.
– Самогончик тяну – не пропадаю. И совесть свою всю еще не пропил. Всегда чуток про запас берегу. Без совести, брат, нельзя. Она без зубов, совесть-то, а все одно загрызет...
– Это хорошо, что в тебе, Геша, совесть ласточкой приютилась, гнездышко маленькое свила. Значит, человек в тебе не пропал. – Федор строго поглядел на Гешку. – Чтоб не грызла совесть, пить брось. Самогонка, она и остатки совести слопает, а то и всего съест.
– Брось ты, брось! Без водки нельзя. Горюшко свое инвалидное чем зальешь? Вином, больше нечем. Выпьешь – оно и легче. Словно те после исповеди – все грехи напрочь.
– Не прав ты, Геннадий! Водка погубит.
– А что делать? Инвалид – нога болит. Куда денешься? Вот и плывешь по волнам – нынче здесь, завтра там... Не знаешь, куда и занесет, к какому берегу прибьет. А вот ты со своими культяпками что будешь делать?
– Учиться буду. С азов начну, а добьюсь своего. Мы с тобой не пропащие, Геша. Войну прошли, да еще какую войну! Победители мы с тобой – вот кто! Гордись! На обочину не сворачивай. А если и толкнет кто – не сдавайся. Иди прямой дорогой. Прямо к цели.
– Ишь ты какой идейный! – замахал руками Гешка. – А если я по-своему жить
хочу? И не мешай мне, не агитируй. Жисть – она корявая штуковина, суковастая. И по головке погладит, и на лопатки положит. Кто сильней да похитрей – тот и выиграл. А? Вот, к примеру, твое, Федя, дело. Жену от тебя отбили. Борись не борись, а сильным оказался не ты – другой посильней тебя.
– Это еще посмотрим!
– И смотреть нечего. Я бы ему морду набил, этому Сапрыкину, по число по первое. И ушел бы... – У Гешки заиграли скулы. – Но ты даже этого сделать не можешь: без рук ты, и он, этот Костя, сильней тебя.
Горько было слушать Федору Гешкины слова. Хоть и возражал ему, кипятился, а правда была безутешной. Ему хотелось непременно повидаться с Настей, объясниться раз и навсегда, чтоб разрубить этот туго затянутый узел, прояснить все до конца. И он решил опять пойти в Ивановское, в больницу, добиваться свидания.
Отправился в путь на другой день. Погода была пасмурной. Шел по скользкой дороге и думал, что увидит Настю, поговорит – и все уляжется, все встанет на свои места. Ему казалось, что он любит ее настолько сильно, настолько властно завладела им эта роковая любовь,– он просто не может жить без нее, без Насти. Он готов был простить ей все – измену и позор, только бы она сказала ему, что по-прежнему любит его, Федора.
Свидания с Настей снова не разрешили. Он стоял у больницы, заглядывал в окна, но увидеть ее так и не удалось. Долго ходил без цели по улице села и не заметил сам, как оказался возле дома Сапрыкина. Костя опять был во дворе, складывал дрова в поленницу. Федор почувствовал, как хлынула кровь в голову, обожгла всего. Красивый и ладный, Сапрыкин, взглянув на Федора, улыбнулся, спросил:
– Опять к жене?
– К ней. Только что навестил и с тобой хочу поговорить, откровенно, как бывший солдат.
– О чем же пойдет разговор?
– О том же, что и вчера. Не договорили до конца.
– А я думал, все сказали, все прояснили. Жена твоя родила. Как говорят: хозяюшка в дому – оладышек в меду.
– Ты брось эти штучки-подковырочки.
Перед Федором, как и вчера, стоял Костя Сапрыкин. На нем было добротное пальто с каракулевым воротником, что еще больше украшало Костю. А у Федора на плечах шинелька, прохудившаяся, фронтовая. И вдруг он понял в какой-то миг, что на Косте пальто его, Федорово пальто. «Так вот кому теща спровадила мою одежку, а может, и сама Настя подарила»,– подумал и, подойдя к Сапрыкину, култышкой толкнул его грудь:
– Снимай давай! Приоделся в чужое!
– Не лезь! – Сапрыкин побледнел, отступил.
– Сними, шкурник! В чужое приоделся!
Федор рогулькой правой руки вцепился в каракуль. Сапрыкин свалил его с ног, нагнулся, прошипел:
– Уходи по добру, не то дам пинка!
– Это мне?
– А кому ж еще!
Федор ударил Сапрыкина сапогом в живот.
– Не подходи! Еще раз получишь!
– Ах, так! – Сапрыкин ответил ударом.
Удар был тяжелый и сильный, отозвался тупой болью в животе. Дышать было трудно, и Федор распластался плашмя на снегу.
– На инвалида поднял руку? Стервец, негодяй!
Сапрыкин начал его поднимать, но Федор не давался, схватил его обрубками рук за
ноги, пытаясь свалить. И вдруг увидел, что и бурки на ногах у Кости его, Федоровы бурки. Сапрыкин топтался, пытаясь вырваться, и в какой-то момент понял, что нечаянно каблуком наступил на Федорову культю. Кровь запачкала фетровые голенища. Сапрыкин отскочил, глаза у него округлились, и он стал пятиться, растерянно и торопливо.
– А, испугался! – Федор неуклюже сел. Кровь скатывалась в снег, капля за каплей. – Вот она, фронтовая, священная! – И он прижал культяпку к груди.
Сапрыкин и на самом деле перепугался. Воровато смотрел по сторонам – никого не было, и он рысцой побежал прочь.
– Стой! Куда? Трус! Будешь ответ держать! – крикнул вдогонку Федор, но Костя
даже не оглянулся – через минуту исчез за поворотом улицы.
Федор нашел мешочек в снегу, долго надевал его на левую культяпку. Шапка валялась тут же, рядом. Отряхнул ее, надел и почувствовал неприятность снежной влаги. Снег таял, и струйки воды скатывались за шиворот. Встал на ноги и как-то сразу успокоился – лишь озноб разливался неприятной прохладой по всей спине.
Неторопливым шагом пошел обратно домой. А куда домой – и сам не знал.
Шел и думал, мучительно думал о своей и Настиной судьбе и вдруг услышал позади
себя шаги: кто-то догонял его. Оглянулся. К нему бежал Костя. Запыхавшись, остановился
поодаль.
– Ты прости меня, Федор Иванович! Прости! Не подавай в следствие! – срывающимся голосом начал умолять инвалида Сапрыкин. – Я ведь нечаянно... Прости! Погорячился я...
Федор глядел на него с отвращением.
– Такое не прощают вовек,– сказал и отвернулся.
Он хотел было пойти, но Сапрыкин забежал к нему наперед, упал на колени:
– Не губи, Федор Иванович. Ради бога, прошу, не губи!
– Прощаю формально,– ответил Федор,– а в душе не прощу. Скользкий ты человек, Сапрыкин! Смолоду грязной пеной по чистой воде плывешь. Подавать на тебя не буду, хотя и следовало бы. Обесчестил фронтовика. Можно сказать, обокрал...
– Пальто бери, я тебе отдам. – И Костя стал раздеваться. – Я его не даром взял. Дом
у твоей тещи чинил, пуд муки дал...
– Не возьму пальто, хотя оно и мое. Носи его, раз плечи твои не горят от стыда. А вот бурки возьму: сапоги прохудились. Бурки тоже мои...
Сапрыкин не знал, что делать – то ли снимать, то ли нет: как пойдешь босиком по снегу?
– Разувайся, да побыстрей,– торопил Федор, – Иль тоже за муку обувку-то у Спиридоновны выменял?
– У нее, у нее купил. Может, пальто возьмешь? – начал торговаться Сапрыкин. – Без обувки-то как?
– А как хошь.
Костя нехотя разулся, подал Федору бурки и снова спросил:
– Так подавать не будешь, Федор Иванович?
– Сказал – нет, значит, не буду. – Помолчал, добавил:– А ну, марш отсюда! Чтоб с глаз долой!
Сапрыкин не уходил, стоял и смотрел на него, хотел что-то еще сказать.
– Ну, что? – спросил Федор.
– Не виноват я перед тобой, Федор Иванович. Совсем не виноват.
– Ну, давай иди, чтоб больше тебя не видел.
Костя потрусил мелкой рысцой. Ноги его, обтянутые шерстяными носками, печатали на рыхлом снегу следы из крученых ниток.
Глава двадцать восьмая
Когда Настя родила и ей сказали, что мальчик, она испытала такое чувство, какое не испытывала никогда раньше: это – чувство материнства, чувство сопричастности к чему-то новому, еще не изведанному и таинственному. Она поняла, что стала матерью, и вместо радости почему-то к ней пришло неизбывное беспокойство, и это мучительное состояние неопределенности особенно мучило ее. Когда она услышала резкий, пронзительный крик ребенка, сердце зашлось, сжалось неуемной болью: этот маленький, живой, розовый комочек, который держала няня, был ее сыном.
– Сынок, сынок,– сказала няня и повернула младенца к матери: – Радуйся, сын!
Настя слабо улыбнулась и закрыла глаза: все в ней еще переламывалось болью, поясница ныла и в животе были рези – везде боль, и так хотела бы она в эти минуты забыться и уснуть глубоким сном.
На другой день разговаривала с медицинской сестрой Глашей, первым делом спросила:
– Он приходил?
Сестра уже знала, о ком она спрашивает, немного подумав, ответила:
– Приходил.
– Ну, и что? – спросила Настя, и сердце снова зашлось, застучало сильно, тревожно.
– Странный какой-то. Вроде бы ненормальный.
– Спрашивал что?
– Спрашивал, как жена. Сказала, что родила мальчика, сына.
– Так и сказала? А он?
– Что он? Зашатался и на улицу выскочил как чумовой.
Настя лежала ни живая ни мертвая. И все думала, думала, терзалась муками и не могла уснуть. Ночью в полузабытьи видела Пауля, видела словно бы в последний раз, словно бы там, на улице латышского городка, слышала его последний приказ: «Настя, беги! Спасайся!..»
И она бежала, повинуясь его приказанию, снова плутала по огородам, ждала его и не дождалась... Так ушел он от нее и остался с ней уже в новой своей ипостаси, в ребенке, которого она родила... И от этой мысли, что она точно бы воскресила из мертвых своего возлюбленного, ей становилось легче, она дышала свободней, к ней приходила тихая радость. И с этой тихой радостью она засыпала, счастливая и в то же время несчастная, виноватая перед тем, который вернулся. Что он скажет? Какое примет решение? Она задавала сама себе эти вопросы и готова была в эти горькие минуты умереть.
Но был ребенок, ее ребенок, и она понимала, что должна ради него жить, только ради него. Услышав плач младенца, всякий раз вздрагивала, сердце замирало то ли от счастья, то ли от неуемной боли, и этот пронзительный крик новорожденного звал к действию, к воскрешению, к жизни.
И она поняла, что должна жить.
Федор шел по дороге к недалекому лесу. Таял снег. Небо было печальным и хмурым, вроде бы траурным, словно бы плакало. Он шел и думал о своей судьбе и не знал, что делать дальше, как жить. Появился у Насти ребенок. Чей он? От кого? Но от кого бы ни был он, все равно же родился человек, новый человек появился на этой растерзанной земле. А почему такая печаль у него на душе? Почему?
Очнувшись от раздумий, Федор зашагал обратно к деревне. Возле дороги лес был голый и неприютный. Он долго стоял под большой березой, глядел на мокрые ветви, с которых скатывалась изумрудная капель. Он заметил, что и на еловых иголках поблескивает ледяной бисер. Лес, молчаливый и торжественный, сбрасывал холодные капли в снег. Федору стало жутко в этой тишине, и он зашагал прочь от леса. Вышел в поле, посмотрел на небо. Оно было мутным и сырым, сыпало на землю мелкую холодную сеянь дождя. Ведь родился новый человек, а у него, у Федора, холод на душе. Почему так? Ему казалось, что он в своей жизни утратил что-то важное и значительное, утратил навсегда. Шел и страдал. Культяпкой смахивал слезы, протирал глаза, смотрел на деревья и ничего не видел...
А война все еще полыхала, откатываясь на запад неумолимым возмездием, калеча и коверкая на своем пути все живое и неживое. И время тянулось томительно и длинно, и казалось, что этому военному времени не будет конца...








