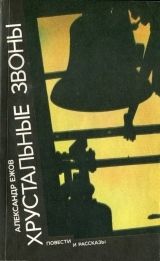
Текст книги "Преодолей себя"
Автор книги: Александр Ежов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Уже в конце июля в Большой Городец нагрянула беда, может быть, и не самая большая беда, но она, эта беда, была словно бы предвестницей новых больших бед и новых тяжких испытаний. Из райцентра фашисты прислали комиссию по определению урожая на корню. А что это обозначало – знал почти каждый: после уборочных работ все заберут подчистую. Тут уж как ни крути, а вынь да положь: сам не отдашь – возьмут силой.
Комиссия отправилась в поле, где наливалась рожь. Немецкий интендант, низенький и кривоногий, выпячивая пузцо, быстро перебирая короткими ножками, пошел вдоль полосы, сорвал несколько колосков и своими пухленькими ладонями быстро-быстро начал растирать их. Затем пофукал на ладони, сдунув шелуху, и горсточку зерен ловким броском отправил в рот, начал жевать. Пожевав, проглотил. Лицо расплылось в улыбке и, подбежав к старосте, на ломаном русском языке начал говорить:
– Путь, путь... Скольки? – И сам себе ответил: – Путь сто. Тяк?
– Так-то оно так, да не совсем так,– ответил Максимов.
– Скольки с гектар?
– Пудов шестьдесят – больше не получится. – Максимов упрямо мотнул головой. – А посередке поля – и того меньше. Плешин не сосчитать, голых мест.
– Плесин... Что такое плесин?
Максимов снял кепку, наклонился и показал немцу на свою плешивую голову. Плешь у старосты была небольшая, с редкими волосинками на макушке.
– Вот как тут плешь,– проговорил Максимов.– Почти голо,– и, махнув рукой в поле, добавил: – И там голо – плешь.
Немец разгадал хитрость старосты, насупился и, разгребая короткими руками стебли, направился к середине поля.
– Пошель, пошель,– манил он за собою старосту, тот нехотя поплелся за интендантом.
Вернулись минут через десять. Настя услышала, как немец угрожающе твердил одно и то же:
– Сто путь. Сто.
– Ну сто так сто! Пускай будет сто,– махнул рукой Максимов. – Пишите хоть двести. Цыплят по осени считают...
Задание на сдачу хлеба было дано заведомо нелояльное. И как выкрутиться из этого положения, подпольные правленцы и сами не знали. Вносились разные предложения, но ни одно из них не было принято. Хлеб решили убирать. Надеялись на то, что немецкий гарнизон уйдет из села. А когда немцев не будет, и выход из положения найдется сам собой.
Так оно и получилось. Немцы ушли. Хлеб убрали весь. Сразу же в поле его обмолотили и распределили по трудодням. Часть зерна была надежно упрятана в лесных тайниках для сдачи партизанам и на семена. Снопы сложили в скирды и ночью их подожгли.
Когда вернулся Грау со своей зондеркомандой, то обнаружил в поле один лишь пепел. Максимов сказал фашисту, что скирды, еще не обмолоченные, кто-то ночью поджег. А кто – в селе никто толком не знает: то ли партизаны, то ли еще кто. Деревенские не поджигали – самим вот как хлеб нужен.
Через два дня в Большой Городец приехал карательный отряд гестапо. Начались допросы. Вызывали женщин, подростков, даже детей. Все в один голос заявляли, что не знают, кто подпустил красного петуха под скирды, может, от молнии загорелись. Горели скирды ночью, все в это время спали, а когда утром проснулись, скирд уже не оказалось. Поохали, поахали и разошлись. Староста тоже, как мог, оправдывался, говорил, что он тут ни при чем, не мог же он поджечь сам: германскому рейху верой и правдой служит. Но, как ни оправдывался, вся вина легла на него.
Максимову связали руки, связанного, били по лицу, а затем, упавшего,
шпыняли сапогами в бока. А когда бить устали, бросили в курную баньку под строжайшую охрану. Утром опять его вывели на улицу, снова били, требовали сказать, куда спрятан хлеб. Ничего не добившись, объявили приговор: за невыполнение приказа вермахта сжечь живым на костре.
Максимов стоял на коленях в разорванной рубахе, с запекшимися пятнами крови, лицо в синяках, редкие седые волосы багряно слиплись, один глаз выбит, и окровавленный, багрово-темный провал глазницы слезился тоненькой струйкой алой крови. Староста слегка постанывал, и единственный глаз его вонзался в палачей угрожающе строго.
Настя стояла тут же, в толпе, ей было больно и жутко глядеть на этого истерзанного пытками большого человека. Она словно бы принимала в себя всю ту боль и все те муки, которые так мужественно переносил Алексей Поликарпович.
Двое солдат подхватили Максимова и повели к сараю. Он не шел, а волочился ногами по земле, нисколько не сопротивляясь. Сарай подожгли с двух сторон, а когда пламя стало облизывать крышу и стены, солдаты в открытую дверь втолкнули Максимова прямо в прожорливую пасть огня. Он успел приподнять голову и выкрикнул:
– Держитесь!
И его поняли все, в ужасе отпрянув от полыхающего костра. Прошло еще несколько мгновений – пылающее покрытие сарая с треском и воем обрушилось, словно огненная крышка гроба.
Народ зашумел, одни плакали, другие истово крестились, кто-то издал протяжный стон. Все знали: Алексей Поликарпович Максимов никого не выдал, ничего не сказал палачам и тайну унес с собой навсегда.
Глава третья
Подпольное правление колхоза собралось ночью в избе Бавыкиной. Люди приходили поодиночке, и Ольга Сергеевна каждого встречала в сенях с фонарем в руке. Когда все собрались и расселись по местам – кто на пол, кто на скамейке, кто на стульях,– хозяйка обвела всех внимательным взглядом и тихо сказала:
– Разговор будет серьезным и секретным. Я думаю, вы поняли меня?
– Поняли, поняли,– сразу ответило несколько голосов. – Слушаем тебя, Ольга Сергеевна.
Она молчала и пристально всматривалась в лица то одного, то другого, как бы проверяя верность и надежность каждого. Каратели только что побывали в Большом Городце. Еще одна жертва. Фашисты могли в любую минуту появиться снова – кого-то убить, кого-то схватить. Не исключено, что в деревне появился предатель: ведь кто-то выдал сестер Степачевых.
– Положение, товарищи, тревожное,– начала Бавыкина,– только выдержка и высочайшая бдительность могут спасти нас в этом крайне тяжелом положении. Колхоз, как и прежде, должен работать по законам Советской власти.
Голос Бавыкиной вздрагивал от чрезвычайного волнения, и в такт ее голосу слегка подмигивал и колебался слабый язычок керосиновой коптилки. Настя слушала Ольгу Сергеевну, и сердце ее тоже отстукивало секунды, будто било в набат.
– Убили Антонину, арестовали Светлану,– продолжала Ольга Сергеевна,– вырвали еще одно звено из нашей цепи, но цепь сомкнулась и не разорвать ее. Я верю, твердо верю – Светлана выстоит! А мы постараемся вызволить ее.
– Жива ли? Может, тоже убили?
– Все может быть, но фашистам она живой нужна. Попытаются вырвать от
Светланы нужные сведения.
– Значит, пытать будут? – кто-то спросил из темноты.
– Могут,– ответила Ольга Сергеевна.
Все притихли, и эта тишина, такая робкая, точно траурная, продолжалась
несколько минут, потом Бавыкина снова начала говорить. Голос ее – спокойный,
ровный и в то же время призывный:
– Враг коварен и хитер, но и мы не лыком шиты. За два года войны кой-чему научились. Помните ту зиму, первую военную? Было трудно. Фашисты пытались превратить нас в послушных рабов. Но что у них из этой затеи получилось? А ровным счетом ничего. Как ни старались поставить на колени – не сработала машина. Ведь отправили через линию фронта в осажденный Ленинград две подводы с хлебом!
– Помним, помним! – раздались голоса.
– Все было сделано так, что комар носа не подточит. Хлеб убрали, а фашистам кукиш показали. Партизанам же отправили больше двух тонн. Только жаль Алексея Поликарповича...
Снова все приутихли. Гибель Максимова была еще так свежа в памяти у всех, что когда вспоминали о нем, то казалось, Алексей Поликарпович все еще живой, что ушел, может быть, в соседнюю деревню, загостевался у милого дружка, что пройдет день-другой – и вернется как ни в чем не бывало. Но дни бегут, за днями – недели, прошел уже почти год, а Максимова нет и нет, только память осталась о нем.
Правленцы засиделись допоздна. Все обговорили. Прикинули, как сберечь урожай. Хлеба были хорошие, колос тяжелый. Такой богатый хлеб надо было убрать и спасти. Раз в сорок втором фашистов обманули, то уж в сорок третьем хлеб надо было убрать и упрятать. Немцы взяли на учет все и наверняка будут следить за уборкой и обмолотом, но следи не следи – сила была уже на нашей стороне. Партизаны действовали все решительней и смелей. Теперь уже не отдельные деревни, а целые районы контролировались народными мстителями.
Когда все разошлись, Ольга Сергеевна попросила Настю остаться.
– Дело есть, и неотложное,– сказала она. – Завтра пойдешь в Рысьи Выселки. На связь.
– На связь? Я там еще не была.
– Дорогу знаешь. Маша Блинова сначала встретит. А затем скажет, как дальше идти.
Значит, теперь она должна быть связной вместо Светланки Степачевой. Обрадовалась, что доверяют: будут встречи с новыми людьми, тайные явки. Возможно, придется побывать в партизанском лагере, может, отправят на Большую землю...
Подруги вышли на улицу. Над притихшей землей сверкал бесчисленными звездочками огромный купол неба. Безмолвие охватило землю. Окна домов слепо глядели на улицу, иногда кой-где вздрагивал слабый огонек, вздрагивал и гас, точно боялся ярко вспыхнуть. За речкой виднелась еле различимая, окутанная сумраком стена леса. Все притаилось и замерло в неподвижности: и деревня, и речка, и лес, и, конечно же, притаились люди – ждали чего-то, каких-то перемен. Все было зыбко в этом мире, неопределенно, загадочно. Какая судьба уготована Насте – об этом она тоже ничего не знала.
На другой день отправилась на связь в Рысьи Выселки. С кем конкретно предстоит встреча, не могла предполагать, и какие получит инструкции для Ольги Сергеевны – тоже неизвестно.
Было утро. Обогнув озеро, углубилась в лес. Дорога глухая и узкая, по ней давно не ездили, вдоль колеи по бокам росли небольшие деревца ольхи и вереск, а между ними из-подо мха проклюнулись коричневатые шляпки маслят. В лесу полусумрачно: косые лучи солнца еле пробивались сквозь крону могучих деревьев, струились мерцающими снопиками. Где-то совсем рядом зачирикала варакушка и тотчас умолкла, за овражком захрустел старый сушняк – видимо, пробирался в низинные заросли сохатый.
А вот и лужайка налево от дороги, густо поросшая травой. На траве – капельки
росы поблескивают алмазными зернышками. И опять недалеко пропела варакушка, и в ответ ей напевно ответила иволга. Настя остановилась. Тихо вокруг, кажется, и нет войны.
В Выселках Настю встретила Маша Блинова, молодая, кареглазая, расторопная и работящая; про таких говорят – огонь баба. Здесь Маша обряжала коров, приглядывала за телятами.
– Не хочешь ли молочка? – первым делом предложила она Насте. – Свеженькое, парное. Только что подоила.
– От молочка не откажусь,– ответила Настя.
Ответ ее был паролем. Она поняла, что этот ответ сработал, Маша заулыбалась, приобняла Настю за плечи, тихо проговорила:
– Гость ждет тебя там, в сторожке, у озера. Завтрак ему только что носила.
– А кто – не знаешь?
– Свой человек. Хороший. Иди, не бойся.
Настя шла по тропинке вдоль ручья. Солнце уже припекало изрядно, над головой назойливо гудели слепни. Она отломила ольховую веточку и начала отмахиваться. Тропинка углубилась в сосновый лес, где была легкая прохлада и терпко пахло хвоей и папоротником.
А вот и озеро, небольшое, круглое, окаймленное густыми зарослями ольхи и березы. По водной глади бесшумно плавают утки, кормятся тут чем бог послал – озерной травкой, мелкой рыбешкой. Это ее, Настина затея: она настояла, чтобы сохранили утиную ферму Уток осталось десятка три, не больше, но и то хорошо. Закончится война – пригодятся для развода.
Она остановилась у берега, наклонилась и зачерпнула в ладони воды. Капли, искрясь на солнце, стекали обратно в озеро, и Настя плехнула воду от себя. По зеркальной глади прокатилась серебряная рябь. Потом снова зачерпнула и начала обмывать лицо. Вода была приятной, освежающей. Затем взошла на мостки и стала звать уток:
– Ути, ути...
Но утки не слушались, поплыли на середину озера. Она повернулась к берегу и вдруг увидала его, того человека, к которому шла. Человек стоял и пристально глядел на нее черными пронзительными глазами. Он был невысок и плотен, лет сорока пяти, лысая голова. Одет просто: синяя косоворотка навыпуск, черные галифе, аккуратно заправленные в сапоги.
– Здравствуйте, Усачева,– сказал он по-домашнему, словно знал ее давно.
Она подошла к нему, подала руку.
– Заждался я вас,– продолжал он, поглаживая лысину.– Давайте знакомиться. – Фамилия моя – Филимонов, Степан Павлович.
– Да я вас знаю, Степан Павлович. Вы – секретарь райкома.
– Теперь уже подпольного райкома,– пояснил он.
– А как вас звать? Фамилия мне известна – Усачева, а по имени вот не знаю.
– Настя.
– Хорошее имя – Настя, Анастасия. Очень хорошее.
– Да уж как родители нарекли,– смущенно ответила она. «Да что это я,– подумала она,– ведь он такой простой, и слова у него такие простые, и взгляд теплый, ласковый. А я растерялась потому, что вот здесь, в лесу, так неожиданно повстречалась с секретарем райкома партии. И разговаривает он – словно бы с давней знакомой. Значит, доверяют, значит, нужна».
Посмотрев на тихое озеро, он начал непринужденно вести разговор:
– Ну что ж, Настя. Я – человек дела. Хочу знать все подробно, что у вас произошло.
– Что в Городце были фашисты, вам известно?
– Кое-что знаем. «Гости» пришли, «гости» и ушли. Беду принесли?
– Убили Антонину Степачеву, а Светлану увезли.
– И об этом знаем. Были аресты и в других деревнях. Люди гибнут... Изучаем причины. Сделаем соответствующие выводы. Будем думать, как освободить арестованных. Задача трудная. А что вы собираетесь делать у себя?
– Правленцы совещались. Хлеб решили убрать. А как уберечь от фашистов?
– И об этом тоже подумаем.
– Приедут и закрома очистят. Где-то надо спрятать зерно.
– Разумеется, этот вариант предусмотрим. Хлеб фашистам не отдадим. Он наш хлеб, советский. Часть сдадите в счет хлебопоставок. Партизанам. Остальное распределите по трудодням.
– Легко на словах, Степан Павлович. А как на деле получится?
Филимонов задумался. Он сидел на пеньке и глядел на зеркальную гладь озера. Достал кисет, свернул самокрутку и долго кресалом высекал огонь. Прикурив, глубоко затянулся, приглушенно закашлялся. Настя внимательно смотрела на него: под глазами глубокие морщинки и синеватые тени, на висках густая проседь, лицо его выражало глубокую усталость и озабоченность.
– Да, тяжело нам,– произнес наконец Филимонов и вздохнул. – Теряем людей, и таких хороших людей... Но что поделаешь? Слышали новость? Разгромили фашистов под Курском. Освобождены Орел и Белгород.
Настя почувствовала, как возбуждающая радость переполняет ее. Наши победили! Под Курском. Значит, будет свободен и Большой Городец, другие села, другие города. Скорей бы это времечко пришло! Скорей бы! Она смотрела на Филимонова сияющими глазами. Он заметил, как она волнуется, и в ответ заулыбался.
У Насти от радости перехватило дыхание, и, немного отдышавшись, она продолжала вслух:
– Степан Павлович, какую радость принесли вы нам! Какое счастье! Давайте я вас расцелую. – И она припала к его щетинистой щеке. – Вот обрадуются колхознички! Вот обрадуются! И надо же – Орел и Белгород освободили! Теперь скоро и к нам наши придут. Ведь придут же, Степан Павлович?
– Непременно придут. А когда – пока не знаем. Может, скоро. А может быть... – Он замолчал, и лицо его стало непроницаемым и суровым.
– Придут, придут избавители! Сердце мое чует, что скоро придут!
– Этот день не за горами. Салют прогремел в Москве в честь Победы. Вся страна радуется.
– Салют?
– Да, салют из орудий. По радио слушал. Ликует Москва!
– Так и улетела бы туда! Хоть бы одним глазком поглядеть... А ведь самого-то главного и не сказала вам, Степан Павлович. Боязно и говорить об этом.
– Это о чем же?
– Немецкий офицер с полицаем Синюшихиным были в нашем доме. Матушка перепугалась. Синюшихину я самогону не дала. Пожалела. Полицай противный. А офицерик-то немецкий молоденький такой, форсистый. Я с ним по-немецки вела разговор. И ловко так у меня получилось, как по-писаному. Приглянулась, видать. И что бы вы думали? Предложил переводчицей в управу.
– Переводчицей? Так сразу и предложил?
– Предложил. Хорошо отвечала. Почти без запинки.
– А где же выучила немецкий?
– В средней школе азы прошла, в институт готовилась поступать... А когда пришли немцы, я уж тут по-настоящему тренировалась. Переводила Максимову, с солдатами часто разговаривала. И теперь говорю довольно сносно по-немецки.
– Вот это да! Задала ты мне, Настенька, задачку. Можно сказать, непростую. Тут надо все обмозговать. Все взвесить...
– Не пойду я к ним,– отмахнулась Настя.
– Как не пойдешь? А если прикажем?
– Если прикажете, все равно не пойду. Там у них надо роль играть, притворяться.
– Верно. Играть надо. Артисткой надо быть самой что ни на есть настоящей. Играть так, чтоб не заподозрили.
– А если не смогу? Натура не выдержит. Грубить начну. И считай – пропало.
– Если надо, все выдержишь, Настя. Ради нашей обшей победы. А где тебе быть – особо решим. На подпольном райкоме.
Филимонов взял небольшой камушек и пустил его по озерной глади, высекая блинчики. В этом броске было что-то озорное, мальчишеское, что-то разудало-русское. Он повернулся к Насте и, улыбаясь, сказал:
– Через неделю встретимся. В этот же самый день недели, на этом же месте. Тогда и решим, что предпринять. Согласна? – Он достал из портфельчика вчетверо сложенную пачку газет и протянул Насте: – Это комсомольцам-агитаторам. Пусть прочитают колхозникам.
Он крепко пожал ей руку, и она пошла в обратный путь, по той же тропинке. Встреча с секретарем подпольного райкома взбудоражила, окрылила. Весь облик этого человека: его голос, спокойный и ровный, его улыбка, такая непосредственная и приветливая, и такая убежденность в правоте святого дела – все это для Насти было так важно, так необходимо в данный момент, что она хоть сейчас готова была пойти на любое опасное задание.
Шла, смотрела на деревья и думала, что вот тут, в лесу, хорошо и вольготно, кажется, никто не угрожает тебе, нет никакой опасности, кругом безлюдье, а если и встретится человек, то непременно хороший, такой, как Степан Павлович или как доярка Маша Блинова. Лес словно убаюкивал в ветвистой колыбели, нашептывая сказки о безвозвратном и далеком детстве.
И все же на душе было тревожно. Что ждет впереди? Какие подстерегают опасности? Она ничего об этом не знает. Возможно, придется жить и работать в логове врага, вести опасную игру. В ней боролись два чувства. Одно подсказывало: будь благоразумна, не лезь в пекло, живи при относительном спокойствии и в относительной безопасности с матерью – и будешь цела. Другое же чувство как бы подталкивало ее, будоражило и звало: нет, иди туда, где ты нужна, где ты больше сделаешь для пользы дела.
Так думала она, когда шла к Рысьим Выселкам, и не заметила, как подошла. Маша Блинова обтирала мокрой тряпкой бидон, на лужайке горел костер, над ним, держась на подставках, висел черный котел, в котором подогревалась вода. Кругом было тихо, лишь слепни кружились назойливо, не давая покоя всему живому.
– Пришла? – спросила Маша. – Домой торопишься?
– Пойду,– сказала Настя. – Ты тут за уткам пригляди, чтоб не одичали, не отбились...
– Ладно, ладно. От мужа-то не слышно чего?
Про мужа, про Федора своего, Настя давно ничего не слыхала.
– А что? Почему спрашиваешь?
– Мой-то Гешка, говорят, жив. Видели его под Псковом. В лагерях сидел, в
немецких. Без ноги, говорят. Может, и твой Федор жив? Ненароком объявится!
У Насти кольнуло в груди. Муж, Федор! Как проводила жарким июльским полднем, получила несколько писем, а потом немцы заняли деревню, и весточек – никаких. Живой или мертвый Федя – она не знала. На фронт уходил вместе с Геннадием Блиновым. И вот объявился Гешка. А Федор? Что с ним, где он?
А Маша улыбалась и смотрела на нее счастливый глазами:
– Жду Геннадия со дня на день, гляди, прискачет! Раз живой – обязательно объявится. Он уж такой у меня, Геша. Где бы ни мотался, а к дому всегда стежки-дорожки проложены. Гляди, придет и твой.
– Живой ли?
– Может, и живой. На свете каких чудес не бывает! Только жди, Настенька, жди.
У Насти сладостно потеплело в груди. Хорошо б хоть одним глазком взглянуть на него, ободрить теплым словом.
Глава четвертая
Гешка пришел, точно с неба свалился, всем на удивление: как это он, безногий солдат, прикостылял от железнодорожной станции, такую даль и на костылях? Мария вскрикнула, увидев мужа, бросилась на шею, запричитала:
– Гешенька, Геша... Без ноги!..
Гешка растерялся, костыли загрохотали, и сам он чуть было не упал, Мария усадила его на лавку. Пришли соседи, а в полдень уже набилась полная изба. Бабы всплакивали, утирая платками глаза, старики трясли Гешку за руку, приговаривая:
– Ну, вот и вернулся... Как же ты ухитрился-то?
Гешка ухмылялся, теребил грязной пятерней голову, глядел на односельчан виноватыми глазами.
– Сквозь ад прошел,– отвечал глуховатым голосом. – Не знаю, как и в живых остался... По лагерям мотало месяцев шесть. Молодуха одна пожалела, приходила в лагерь, харчишки носила. А потом немцы выпустили: ненужным оказался, словно бы кочерыжка обглоданная, безногий-то. Ни на работу, ни еще куда. Ну, и отдали меня той женщине. Спасла. Подкормила. А теперича вот дома...
– А моего сынка не видал там, в лагерях-то? – спрашивала его пожилая женщина. – Может, встречал?
– Нет, не встречал,– отмахивался Гешка. – Народу там – что те муравьев в муравейнике. А сколько перемерло, бедных, с голодухи-то! Вот про Федора Усачева кой-какие весточки есть. Передайте Насте – пусть придет. Вам ничего не скажу, а ей все как на духу выложу.
Настя пришла вечером. Кто-то сказал, что Федор жив, что будто Гешка видел его в немецких лагерях. И другой слух прошел, что погиб он в первом же бою, где-то в белорусских болотах. Настя не знала, кому и верить. К Блиновым боялась идти.
И вот пришла, села на лавочку, глядела печально на Гешку, словно на спасителя, ждала, что он скажет. А солдат молчал, поглядывал на Настю, на жену, на стены, на потолок, точно привыкал к новой для него обстановке и не мог привыкнуть. Настя пригляделась к нему и заметила: приобкатала война Гешку, хоть и храбрится он, а не тот мужичок. Лицо серое, и морщинки под глазами, и шея, как у петуха, вытянулась, еле голову держит. На Гешке была гимнастерка немецкого покроя и линялые галифе, правая штанина подогнута и заправлена за пояс. Левая нога, обутая в старый валенок, неестественно подрагивала, казалось, безногий солдат вот-вот поднимется со скамейки. Но Гешка сидел и криво улыбался, глядя на Настю,– видать, надоели ему частые гости: пристают с расспросами, жалеют, а к чему она ему, эта людская жалость? Совсем ни к чему. Пришел живой – и то ладно.
– Ну что, Настя? – спросил Гешка, – Не признаешь?
– Как же, признаю,– спокойно проговорила она и все смотрела на него: словно бы не деревенский он, а пришел откуда-то из дальних краев, постучался в дверь к Марии, впустила она его и приняла
– Где мыкался? – спросила она. Хотела спросить, где муж Федор, но не спросила, ждала, когда сам об этом поведает.
– Где был – там уж нет меня,– уклончиво ответил Гешка,– Там ветер гуляет.
Он судорожно сжал пятерней пустую штанину, скомкал ее, и Настя теперь поняла, что нога у него отнята высоко, и жалость к Гешке начала шевелиться в ней, все нарастая и нарастая.
– Как же теперь без ноги-то? – спросила она и смахнула слезу, а сама подумала: «Вот Федор, пускай бы и без ноги, но живым вернулся, с радостью приняла бы. Только бы пришел, только бы живым был...»
Гешка насупился, очевидно, не понравился ему такой вопрос, да и сама она уже спохватилась: зачем так спросила?
– Хорошо, что живой,– вступила в разговор Мария. – Люди головы сложили или мучаются там, в фашистских лагерях. А Геннадий, слава богу, пришел…
– Заладила одно и то же – живой да пришел... Гешка схватился за культю, вскрикнул, будто бы боли, уставился вопросительно на жену: – Раз живой, достань самогончику. Горлышко размочить не мешает, прежде чем разговоры вести. Вот с Настеной-то, с ней. Не скаредничай, доставай!
– С утра угостился – и хватит! – отмахнулась Мария.– Что у меня, питейное заведение аль ресторан какой? Иль шинкарка я?
– Шинкарка не шинкарка, а жена. Муж из дальней дали прикостылял, значит, угости как следоват! Иначе разговор не пойдет. Трезвому страшно правду говорить. А выпью – все легче.
Настя затихла, притаилась, вся в ожидании. А Гешка тянул и тянул, будто бы воды в рот набрал, ждал, когда Мария принесет выпивку. И она медлила, не несла.
– Ну, что молчишь-то, рассказывай! – крикнула на него жена. – Не томи. Ведь за делом пришла Настена-то, про мужа хочет узнать.
– Бутылку поставь, тогда и разговор пойдет
– Ладно, бог с тобой,– махнула рукой Мария.– Сейчас принесу. Только не томи Настю. Изболелась душа, поди, у нее в ожидании-то...
– Рассказ невеселый будет. Смочить его надо, этот рассказ.
Настя смотрела на Геннадия и ждала с замиранием сердца, что он скажет. А он медлил, словно бы изматывал ее ожиданием. Наконец срывающимся голосом она спросила:
– Ну, что с ним, с Федором-то моим? Что? Говори!
– Сейчас расскажу все по порядку. Вот только горлышко смочу малость, пересохло оно...
Мария подала бутылку мутноватой жидкости. Выдернув бумажную пробку, Геннадий налил в стакан, залпом выпил. Потом взял огурец и начал хрустко жевать. Жевал долго, кряхтел и мотал головой. И когда съел, пучеглазо уставился на Настю, начал свой невеселый рассказ:
– Да, попали мы, значит, с Федором-то в один полк и в одну роту. Сначала в резерве были. С месяц, не больше. А потом бросили на передовую нас, значит, на Западный фронт. Сразу, с ходу, и в бой. Немец-то дюже напирал, тогда в силах он был, в сорок первом году. А мы оборону держали. Держали на одном месте, на другом. И сдержать не могли: силенок не хватало и техники...
Он говорил не торопясь. Подробно рассказывал, где, когда и какой шел бой. Где отступали, где в окружение попали, как вырывались из этого окружения. Говорил с полчаса, и Настя томилась, жадно слушала, ожидая, что скажет о судьбе Федора. Но Гешка снова пускался в рассуждения о том, как тяжело было войскам в сорок первом году, как пропадали люди, погибая от пуль или попадая в плен.
– А Федор-то, что с ним? – опять спросила она и вся затаилась.
– Федор? – Он уставился на нее выпуклыми, мутноватыми от выпитого самогона глазами, сказал: – Был твой Федор, да весь скукосился. Сам видел.
У нее перехватило дыхание, в первое мгновение она чуть не задохнулась, не могла выговорить ни слова, молчала и тупо глядела на Гешку. Он тоже смотрел на нее и тоже молчал, словно ждал, когда она заплачет, но она не плакала, побелела вся: испуг не отпускал ее долго, хотя она и не совсем поверила в то, о чем сообщил ей Гешка.
– Нет! Нет! Не верю! – наконец прокричала она, – Не верю я в это! Не верю!
Гешка глядел на нее немигающими серыми глазками и думал: почему ж она не поверила ему, фронтовику, прошедшему через кромешный ад? Со злорадством глядел на свою жертву, как бы говоря всем своим видом: «Федора нет твоего, а я вот живой, хоть и без ноги, а вот пришел, прикостылял и самогон пью, и жена меня ночью уложит спать в теплую и мягкую постель, и завтра утром проснется и снова опохмелится. Три дня подряд. Вот так, красоточка Настя, не пошла за муж за меня, за Гешку Блинова... Пошла за Федора, а его, Федора-то, и нет. Лежит в земле сырой и никогда не вернется...»
Настя уронила голову и беззвучно заплакала. Спина Насти вздрагивала, а пальцы рук, положенные на стол, судорожно сжимались и разжимались, словно ловили что-то и не могли поймать. Гешка молчал, и жена его, Мария, молчала, и стены в доме зловеще молчали
Настя должна была выплакаться, вылить из себя всю горечь, чтоб стало легче. Когда, наконец, подняла голову и с мольбой посмотрела на Гешку, словно прося у него других слов, не таких беспощадных и страшных, а более мягких, утешительных, в которых была бы надежда, хоть маленькая, но была б. Ведь может, он и живой, Федор-то? Не убит? Может, мыкается в плену или в другом каком месте? Она очень хотела, чтоб именно так оно и было, хотя знала, что на фронте гибнут тысячи, миллионы людей, что вероятность остаться живым невелика. У нее была надежда. И чтобы увериться в этой надежде, спросила:
– Это правда, Геннадий? Не выдумал ты все это? На самом деле видел?
– Да, видел,– ответил он бесстрастно и спокойно. – Видел, Настя.
– А чем докажешь? Ну чем?
– А вот чем. – Гешка поднялся со скамейки. – Просил Федор перед самой смертью передать своей жене кой-что. И это кой-что я сохранил. Рисковал, но сохранил.
Гешка вытащил из-под лавки вещевой мешок, развязал его, долго шарил рукою в мешке, что-то искал. Наконец нашел... В руках у него был кожаный бумажник,
сильно потертый. Настя сразу же узнала, что это его, Федора, бумажник. Она настолько растерялась, что чуть не уронила его, принимая от Гешки. Потом раскрыла – в одной из ячеек оказалась красноармейская книжка Федора. Она долго глядела на эту книжку, не веря своим глазам, потом из другой ячейки вынула пожелтевшую фотографию. Фотография была ее, Настина. Она подарила ее своему жениху месяца за два до свадьбы. Смотрела на себя, на ту Настю со светлыми глазами, с длинными косами, ниспадающими на грудь, круглолицую, чернобровую. Да, она была красива тогда. Такая ли теперь?
Настя перевернула фотографию и увидела надпись красными чернилами. Это была ее надпись, буквы прижимались плотно друг к дружке, словно бежали куда-то внаклонку, торопились. На фотографии было написано:
«Дорогому Феде. Будь счастлив на всю жизнь. Настя».
Поглядела, прочитала и вдруг поняла, что его нет. Эта страшная мысль, что нет его и уже никогда она его не увидит, болью отозвалась в сердце. Она опять чуть не заплакала, но сдержалась, взглянув на Гешку, спросила:
– Как это было? Как?
– В сорок первом, в августе,– ответил Гешка.
– Так давно?
– Почти два года прошло,– продолжал Гешка.– Два долгих года.
– А ты вот живой все же. Пришел...
– Как видишь, пришел. Сам себе не верю.
Она хотела как можно скорей узнать все подробности о судьбе Федора и в то же время боялась этой страшной правды. А Гешка медлил, не рассказывал, ждал, когда она немного отойдет, не любил бабьих слез.
– Было это, как я уже говорил,– наконец начал Гешка свой невеселый рассказ,– было в сорок первом, в конце августа...
Настя, страшно волнуясь, ловила каждое слово рассказчика, словно эти слова произносились не Гешкой, кем-то другим из непроглядной дали, из тех лесов и нолей, где стогласным эхом громыхала война.








