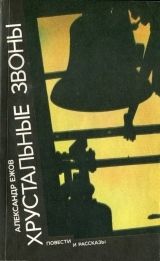
Текст книги "Преодолей себя"
Автор книги: Александр Ежов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ
Глава первая
Рано утром над Большим Городцом грохнул выстрел, залаяли собаки, с надрывом кто-то заголосил в соседнем доме, словно хоронили покойника. За окном закричали по-немецки, опять хлопнул выстрел, этак глухо хлопнул, отдаленно, затем совсем близко прострочила автоматная очередь. Настя Усачева подбежала к окну, отодвинула край занавески, вся напряглась, вся превратилась в слух и зрение.
На улице немцы и полицаи бегали, строча из автоматов, офицер давал отрывистые команды. Свернули к дому Степачевых, кто-то ударил прикладом в калитку. Настя отпрянула от окна, перевела дух, потом снова отодвинула занавеску. Немцы ломились в соседний дом. «Ужели конец? – подумала она. – Ужели кто-то выдал? Что делать? Куда спрячешься? На чердак? В подвал?»
У Степачевых с калитки сорвали дверь. Солдаты ринулись во двор. Случилось что-то страшное. Провал. Кто-то предал... Кто? Она вышла в сени и снова прислушалась, ожидая, что вот-вот придут и за ней. В сенях темно и прохладно, и она хотела бы затеряться в полутьме, зарыться в сено, а может быть, через огород задами и... в лес. Подумала так и сразу отогнала эту мысль. А как мать? Могут схватить ее. Они все могут, решительно все: могут убить, арестовать, поджечь
дом, увести корову.
Мать Насти – Екатерина Спиридоновна – стояла на коленях перед образами, истово крестилась.
– Господи милостивый! Упаси нас, грешных... От напасти юродивых упаси!
Настя села на скамейку, тихо сказала:
– К Степачевым вломились.
– К Степачевым? Сколько говорила тебе: не якшайся с этими Степачевыми. Они что? Пустышные. Незамужние... Ветер у них в голове... Ах, Настя, Настя! Попадешь в лапы к эсэсям окаянным – изуродуют, а то и просто застрелют. Им что...
Старуха заплакала, утирая слезы. И чувство жалости переполняло Настю, она готова сама была заплакать. И на самом деле: вот ее, Настю, заграбастают, и как мать будет жить одна, кто поможет ей? Братья – неведомо где. На фронтах, в партизанских отрядах – никто не знает. Да и живы ли? Единственная опора – она, дочка. И кормилица и защитница – только она, и никто больше.
– Ладно, мама, ладно, не бойся. Ничего плохого не случится. Поверь мне – ничего.
– Супостатов боюсь. Сколько людей погубили!
Да, фашисты многих обездолили, осиротили. Поруху принесли, тяготы. Страх. Смерть... Пришли, словно рать озверелая. Что натворят – никому не ведомо. Настя встревожена. Тоже страшно. Боялась за Степачевых. Дома ли они? Светланка Степачева сегодня ночью должна пойти на связь к леснику Прохорычу. А вдруг ее уже схватили? Что тогда? Провал и новые жертвы. Может, и Настю схватят? Все может быть. Решительно все.
Не терпелось выйти на улицу, разузнать, что и как. И все же боязно выходить: улица стала чужой, опасной– там разгуливают фашисты, полицаи. Лютуют не без причины. Настя уже знала: партизаны в селе Ракушеве раскокошили фашистский гарнизон, а на станции Лесная взорвали эшелон с боеприпасами. От воздушной волны сорвало крышу вокзала, в домах вылетели стекла, загорелись склады. Получилась развеселая карусель: фашисты бегали по улицам в подштанниках, кричали и ругались, стреляли из автоматов в непроглядную темень. Очухались лишь под утро. И вот злобствуют. Хватают людей без разбора. Поджигают дома. Не обошли стороной и Большой Городец. Кого схватят? Кто станет очередной жертвой?
Настя подошла к окну, снова отодвинула занавеску – на улице тихо и безлюдно. «Ушли, – обрадовалась,– значит, пронесло...» Только она подумала, как вдруг на огородных задах прогремела автоматная очередь, короткая, отрывистая. Поняла – расстреляли кого-то. Стриганули из автомата – и поминай как звали. Но кого же, кого? Она отпрянула от окна, поняла: опасность все еще кружит по деревне. Мать истово крестилась и, посмотрев с укором на дочь, что-то невнятно пробормотала.
В калитку Усачевых громко застучали. Настю точно током обожгло. Идти открывать? Не откроешь – дверь выломают, так что надо открывать. Она вышла в сени. Вышла, прислушалась. Да, там, за дверью, были они. Что принесли с собой? Что? Может, смерть?
– Кто там? – спросила громко, хотя и знала, что это они, фашисты.
– Открывай! – кто-то рявкнул по-русски.
«Кто бы это? Голос вроде знакомый, с хрипотцой». И, осмелев, она отворила дверь.
На крыльце были трое – немецкий лейтенант, полицай Синюшихин (теперь она поняла, что это он сказал: «Открывай!») и еще солдат с автоматом. В лицо Насти пахнул непривычный запах духов вперемешку с табачным и сивушным запахом.
Духами пахло от лейтенанта, самогонкой и табачиной – от Синюшихина.
– Принимай гостей! – громко сказал полицай и, широко осклабившись, показал беззубый рот.
Синюшихин был из соседней деревни Нечаевки, жил с матерью-бобылкой, известной на всю округу Дарьей Синюшихой. Синюшихина в колхозе не работала, приторговывала самогоном. Сын перед самой войной пришел из отсидки. За что сидел, Настя не знала. Синюшихину – за тридцать, не молод уже, но не женат; в пьяной драке лет двенадцать назад кто-то выбил ему правый глаз, и в армии он не служил. А когда пришли оккупанты, он, Синюшихин, и подался к ним, так сказать, готовеньким. И вот выслуживается.
Лейтенант – этакий красавчик, черноволосый и белолицый. Военная форма ладно сидела на нем, хромовые сапоги припорошены дорожной пылью. Лейтенант высок и худощав. Синюшихин, приземист и косолап, нагло глядел единственным глазом на молодую хозяйку.
– Ай, гут, фрау! Партизан есть?
– Нет никого. Вот мать да сама.
Немец улыбнулся. У Насти немного отлегло. «Авось пронесет»,– подумала так и заулыбалась в ответ немецкому офицеру:
– Милости просим. Садитесь, садитесь... – Эти слова она еле выдавила из себя, чуть не проглотила их, чуть не захлебнулась от избытка воздуха, но делать было нечего, нужно разыгрывать радушную хозяйку.
Синюшихин, точно близкий родственник, подмигивая белесой бровью, спросил как ни в чем не бывало:
– Хорошо бы опохмелиться, хозяйка... «Божья слеза» небось найдется?
– Для кого найдется, а для кого и нет.
– Значит, есть? – Полицай засопел. Широкие ноздри вздрагивали в предвкушении скорой выпивки, а левый глаз начал косить к двери, куда только что ушла Спиридоновна.
– Не нат, не нат! – замахал рукой офицер и сморщил лицо. – Самокон не нат...
– Господин офицер не желают. Значит, и самогона нет,– подойдя к Синюшихину, ответила Настя.
– Ах, так!– У полицая нервной рябью запрыгали морщинки возле выбитого глаза, кожица неестественно вздрагивала, иссиня-темное веко в глазном проеме так и не открылось. – Я тебе покажу, как с господином полицейским разговаривать в присутствии господина офицера! – заорал Синюшихин. – Покажу! – Брызжа слюною, он начал выплевывать одну угрозу за другой: – Повесить мало! Братья – коммунисты! Я все знаю, господин лейтенант. И сама с партизанами связана. А муж кто? – Синюшихин пружинисто, по-петушиному подпрыгнул и в самое лицо прокричал Насте: – Все знаю, голубка! Решительно все! К партизанам ходишь? – Из гнилого рта выплескивалась тягучая слюна вместе с крошками хлеба. Эти слюнявые и мокрые комочки противно ударялись в лицо Насте. Сразу захотелось пойти к рукомойнику и умыться.
Офицер спросил:
– Эти верни, что он сказаль?
– Нет, неправда,– по-немецки ответила Настя.– Насчет братьев ничего не знаю, где они и что с ними. Откуда мне знать! И муж не знаю где. О его судьбе ничего не известно. А сама – вся тут, на виду... Живу тихо, смирно. Мать еще со мной. Спросите любого – все подтвердят. А он лжет, Синюшихин. Не верьте ему, господин лейтенант.
– Почему по-немецки так хорошо говорите? – спросил офицер на своем языке. – Не арийка ли?
– Нет, я русская,– ответила Настя. – А немецкий выучила в школе, потом в
институт собиралась поступить.
– Карош, карош,– по-русски одобрил лейтенант. Он заулыбался и продолжал уже на своем родном языке:– Могу устроить переводчицей в комендатуру. Согласны, мадам?
– Я подумаю.
Настя бойко отвечала по-немецки офицеру. Синюшихин оторопело слушал, ничего не понимал, о чем шел разговор, просто был ошарашен подобным поворотом ситуации. Опохмелки не выгорело,– лицо полицая потемнело, злобный огонек в левом глазу потух, и вся неуклюжая фигура его, одетая в казенное обмундирование, обмякла, плечи опустились, пальцы правой руки лихорадочно сжимались и разжимались. Как только наступила пауза, он ядовито прохрипел:
– Не верьте ей, господин лейтенант. Она хитрая.
– Хитри? Что такое хитри?
Настя перевела это слово по-немецки. Немец заулыбался, погрозил предупреждающе пальцем:
– Русская хитри... Карош хитри, карош...
Настя не поняла – то ли ругает ее, то ли хвалит – и сказала отчетливо по-русски:
– Хитрая, но без задней мысли...
Офицер опять заулыбался, поднял правую руку к козырьку, словно отдавал приветствие, щелкнул каблуками, повернулся и, четко печатая шаг, направился к выходу. Синюшихин и солдат последовали за ним. У самого порога полицай скособочился, приподнял к косяку двери кулак:
– Смотри, Усачева! Гляди! Сейчас повезло. Потом припомню!.. – Он злобно хлопнул дверью. Настя вздрогнула. «Да, этот мерзавец на все способен, решительно на все,– подумала она,– надо с ним поосторожней. Опохмелить бы негодяя». И поняла, что допустила оплошность.
Волнение распирало ее, и она не знала, что делать, что предпринять. Хотелось выскочить на улицу, посмотреть, что там. Кого схватили, кого убили? Она была так ошеломлена случившимся, что не могла понять, въяве это или во сне. Все еще не верила, не могла поверить в то, что вот пришли, поговорили и... ушли. Ждала ареста, чего угодно ждала, но только не такого финала.
Можно сказать, повезло. Здорово повезло на этот раз. Может быть, ненадолго избавилась от беды, но все же... Так боялась зловещего стука в дверь и этого нежелательного визита. Так боялась! Фашисты без причины не заходят в дом. Ищут кого-то, в чем-то заподозрили, что-то, может быть, уже знают. Возможно, арестовали Степачевых. Может, кого убили. А она, Настя, тоже связана с подпольем одной веревочкой. А вдруг эта нить порвется? Что тогда? Она торопливо сглатывала воздух, каменела от напряжения и страхов. Подошла к окну, отодвинула занавеску и посмотрела на улицу. Там все еще расхаживали фашисты и полицаи. Многие были навеселе. Кто-то угостил пришельцев самогоном. Незнакомый полицай хриплым голосом тянул похабную частушку.
«Веселятся,– подумала Настя,– скорей бы уходили...» Она боялась повторного стука в дверь, очень боялась... Глядела на мать. Та опять опустилась на колени, шептала молитвы, крестилась:
– Господи, помоги нам, грешным! Избавь от напасти... Спаси и помилуй...
Эти призывы к богу раздражали Настю. Разве поможет бог? Разве услышит молитвы? «На бога надейся, а сам не плошай»,– вспомнила она народную поговорку. Только на самих себя и надо надеяться, на свою смекалку. Кто хитрей, тот и победит в этой смертельной схватке. Многие погибнут, но правда победит,
жизнь победит.
Мать все еще молилась, истово шептала призывы к всевышнему.
– Перестань молиться! Перестань,– сердито сказала Настя. – Бог не поможет. Вот уйдут каратели, сходи к Ольге Сергеевне, разузнай, что понатворили фашисты.
Мать обиделась. Поднялась с колен, с укоризной проговорила:
– Не хули бога, не охальничай! Он, всевышний, все слышит. Кабы не молилась, кабы не услышал молитвы бог-то... Чтоб тогда? Какая напасть на нас свалится?
– Ох, мама, мама! – завздыхала Настя. – Мы еще не знаем, что каждого ждет впереди. И богу ничего не ведомо. Держаться надо – вот что. Друг за дружку держаться. Крепко. Руками. Всей деревней. Будем держаться– и врага победим. А к Сергеевне сходи. Тебя, старушку, не тронут.
– Ладно, схожу,– согласилась Спиридоновна.– Вот поутихнет, и схожу.
Немцы ушли только в полдень. И Спиридоновна пошла. Ольга Сергеевна Бавыкина жила на другом конце деревни. Не все знали, что она верховодит подпольным колхозом. Не знала об этом и Спиридоновна, и все же шла с опаской, боялась за Настю. Да и как было не бояться, когда нехристи врываются в дома, грабят, убивают людей. Словно бы все посходили с ума, все в этом мире стало ненадежным и зыбким, и старухе казалось, что само небо вот-вот обрушится на землю и придавит все живое, все уничтожит. Страхи-то какие! И за что наказанье такое? За какие грехи? Спиридоновна крестилась и охала, и перед глазами у нее расплывались и таяли оранжевые круги.
Улица была пустынной, словно вымерла. Золотистое солнце разливалось повсюду, ласкало землю, а Спиридоновне казалось, что и солнца-то нет, что это не лучи, а огненные стрелы сверкают и пляшут, будто бы хотят поджечь Большой Городец, и заречный лес, и даже землю. Не потому ли и деревня слепо молчит? В каждой избе затаилась тревога. Люди боялись выходить на улицу. Ведь бывало и так, что каратели, сделав утром погром, снова приходили вечером или на другой день, и все начиналось сначала. Немало людей погибло в окрестных селах, немало семей ограблено. И люди как могли сопротивлялись, повсюду действовали незримо, тайно. Действовало подполье и в Большом Городце. И душой подполья была учительница Ольга Сергеевна Бавыкина.
Спиридоновна уважала Бавыкину, и в то же время в душе у нее шевелилась неприязнь к этой смелой и открытой женщине. Привязалась к ней Настя, точно бы неотрывным клеем прилепили ее к этой учителке. А учителка – подозрительная для немцев, против фашистов, видать, народ поднимает. Сорвется – и в пропасть. И Настя с ней. Что тогда? Так думала Спиридоновна и злилась на дочку. Не бережет себя, играет с огнем. И доиграется.
Ольга Сергеевна встретила Спиридоновну у крыльца, сразу же пригласила в дом, усадила на табурет спросила:
– Настя дома?
– Дома, матушка, дома,– торопливо начала изъяснять суть дела Спиридоновна. – Заходили супостаты. Заходили. Перепужалась я, милая ты моя! Думала, Настю сграбастают. Уведут. Офицер-то так и рыскал глазищами, так и шнырял. А она по-ихнему, по-германски, значит, так ловко отвечала. Этим и спаслась, видать. Полицай-то Синюшихин шнапсу вспотребовал. А Настя, дуреха, отказала беспохмельному. Окаянный угрожал...
– Угрожал? И что?
– Пока ничего. Не увели.
– Это хорошо, что цела. А Светланку арестовали.
– Светланку? – Спиридоновна от страха выпучила глаза. – Допрыгалась
девка. А Антонина?
– Антонину убили. Из автомата на задах.
– Ой, страсти господни! До чего дожили! Так и Настю могут застрелить. В одночасье могут. Шушукалась со Светланкой и Тонькой. Светланка к бесям, говоришь, в лапы попалась? Потянет за собой и Настю. Я все вижу, все разумею.
– Разумеешь – помалкивай. Рот на замке держи.
– Молчу. Молчу. От страхов молчу. Боязно. За Настю боязно.
– Пускай зайдет Настя. Дело есть.
– Како еще дело? – Спиридоновна испугалась пуще прежнего. Она понимала, что дружба Насти с такими людьми, как Ольга Сергеевна, как Степачевы, к добру не приведет, она догадывалась, что в действиях и поступках этих людей скрывается что-то тайное, опасное, связанное с большим риском для жизни.
– Пускай зайдет! – повторила просьбу Ольга Сергеевна.
– Ладно, скажу,– неохотно ответила Спиридоновна. – Но ты, голубушка, особливо-то не втягивай ее в тенета. Втянешь, а потом что? Не вытянешь. Жалко мне Настю. Одна теперь у меня. Без нее куда? – Старуха заплакала.
Ольга Сергеевна, приобняв за худенькие плечи гостью, стала утешать ее:
– Ничего не случится с Настей, поверь мне, тетя Катя. Решительно ничего. И Светланку вызволим. Чай, на своей мы земле, на советской. А они, фашисты, временно гостюют. Красная Армия наступает, и гляди, как теперь у этих «гостей» под ногами земля горит. Не горит – полыхает. Пламенем-то этим и нас иногда подпалит. Не без этого. Но дышать стало легче. Теперь мы играем, а они под нашу музыку пляшут. Слыхала, как на станции-то прогремело?
– Слыхала. Как же.
– Ну вот то-то. Пусть боятся они нас, а не мы их...
Старуха смотрела на Ольгу Сергеевну, смотрела недоверчиво, с опаской: беду принесет в деревню, такую бедовуху, что сам черт не расхлебает.
– Стреляли-то на задворках в людей. Антонину убили. А завтра кого?
– На то и война, тетя Катя.
– Но ведь сгубили человека...
– Антонину сгубили, а их человек десять на тот свет отправим. Мстить будем, тетя Катя. Так что иди, иди и не бойся...
Спиридоновна пришла домой и накинулась на Настю:
– Антонину убили. Светланку увели! И ты за ними? Туда метишь? И когда ума наберешься, непутевая?
У Насти екнуло сердце, нехорошо так сжалось и опустилось, будто бы раскололось надвое. Она глядела на мать и не знала, что сказать в ответ, о чем спросить. Понимала, что впереди опасная дорога, может, опасная для жизни, но она должна была пройти этой дорогой до конца.
Глава вторая
Притаилась деревня Большой Городец, словно бы окунулась в дремоту, словно бы вымерла: улица пустынная и тихая – никто не выходит из дому. И собаки притаились в подворотнях, и куры не кудахтают, да и кур-то осталось десятка полтора, не больше. Притаились люди в ожидании перемен, к лучшему или худшему. Но хорошего ожидать было нечего: фашисты могли повторить налет.
И счастье Большого Городца состояло в том, что деревня как бы на отшибе от главной дороги. От большака к ней шел узенький проселок. Глухое место, темное для чужака, в лихую годину небезопасное. Потому не так часто заглядывали сюда фашисты – опасались на рваться на партизанскую засаду.
На взгорках возле деревни рос хвойный лес, а дальше, в распадках – береза, ольха, осина. Меж ольховых густых зарослей протекала речка Радожка, мелководная и неширокая, она впадала в нижнем своем течении, километрах в трех от деревни, в небольшое продолговато озерцо. Озеро это языкасто врезалось в непролазную лесную глухомань. Туда и ходили на связь деревенские подпольщики, приносили вести от партизан, и в послед нее время все более обнадеживающие. Партизаны били фашистов все смелей и решительней, и люди чувствовали, что приближается час освобождения.
В Большом Городце действовал подпольный колхоз. Действовал уже не первый год, люди работали артельно, и урожай распределялся по трудодням. В этом подпольном колхозе Настя Усачева вела бухгалтерский учет, хранила протокольные записи.
Когда пришли фашисты, старостой в деревне назначили Алексея Поликарповича Максимова, человека степенного, уравновешенного, рассудительного и справедливого. Уже тогда, в августе сорок первого, по предложению Максимова хлеб и картофель были убраны артельно,– часть урожая все же пришлось отдать оккупантам, остальное распределили среди колхозников с добавкой на сохранность семян под посев будущего года. Большегородцы надеялись, что Красная Армия освободит деревню к весне и семена пригодятся.
Колхоз вроде бы распался и вроде бы действовал. Глубокой осенью в дом к Максимову пришли Ольга Сергеевна Бавыкина и Настя Усачева. Пришли с предложением избрать новое правление и записали все это в протоколе.
– Существует он и так, колхоз-то,– сказал Максимов. – Урожай распределили, коровы и овцы – в Рысьих Выселках. За ними люди приглядывают, обряжают.
Староста сидел на лавке, большой и неуклюжий, бородатый, и руки его большие неподвижно лежали на коленях. В глазах не то испуг, не то удивление.
– Коров сберегли и уток даже, вот чем кормить будем?– Максимов вопросительно глядел на Бавыкину и ждал ответа.
– Часть скота партизанам сдать надо, на мясо,– предложила Ольга Сергеевна. – Заприходовать все корма и выдавать строго по норме.
– Так-то оно так.– Было не понять, соглашался или не соглашался с Бавыкиной староста, долго молчал, теребил бородку, потом спросил: – Где они, эти партизаны? Их что-то не слышно.
– Как же так, Поликарпыч! – глядела на него испытующе Ольга Сергеевна. – Партизаны действуют. И не так далеко от нашей деревни.
– Ах вот как! – староста заволновался. – Где же они объявились, эти партизаны?
– Секрет, Поликарпыч.
– Ну, раз секрет, скотину не сдам,– отрезал Максимов.– Вот придет Красная Армия – тогда и разговор другой...
– А если не придет в ближайшее время? И немцы пронюхают, где наша ферма, что тогда?
– Пускай забирают немцы. Расписку с них возьму.
– С той распиской ответ держать будешь перед Советской властью.
– Не пужай, не пужай. Если надо – отвечу. Скажу, что под угрозой сдал, что некому было сдавать.
– Сдавать есть кому. И Советская власть у нас действует. Где есть советские люди – там и власть Советская. А вот колхоз, как таковой, на сегодняшний день вроде бы и существует, а вроде бы и нет. Негоже так, Поликарпыч, надо все по закону оформить. Собрать актив и на нем избрать правление. А потом как правление решит – так и будем делать.
Максимов долго думал – взвешивал все «за» и «против». Дело не шуточное – колхоз в тылу врага, а ведь он тут, в деревне, староста. Узнают немцы – головы не сносить. Его первого и вздернут. А кому охота болтаться на веревке? Нет, пускай уж так, как оно есть. Работать артельно, никаких записей не производить, немцам, что потребуют, сдать, ну, а часть и партизанам можно подбросить. Только где они, эти партизаны? Днем с огнем не найдешь. Попрятались в лесах, видать, отсиживаются, словно те медведи в берлогах. Не ведь зимой медведь пускай там и отсыпается, не ест и не пьет, лапу сосет, но живой, и небось сердечко у него постукивает. А люди есть люди, тем более свои они, пожалеть их надо.
– Обождем малость, Ольга Сергеевна,– начал возражать Максимов. – Повременим до весны. Там, глядишь, солнышко припекать начнет, и партизаны в лесах начнут пошевеливаться, и Красная Армия подойдет. От Москвы фрицев, говоришь, шуганули?
– Прогнали с треском. А партизаны – они тут рядом, свои. И если ты, Поликарпыч, пойдешь супротив них – пеняй на себя.
– Опять начала пужать! У меня сыновья в Красной Армии,– уже сердясь, сказал Максимов. – Немцам пока ничего не дадим. А насчет колхоза – подумать надо, обмозговать подетально. Дай сроку дня два-три – подумаю.
На этом и порешили. А через неделю провели собрание актива, избрали правление. Председателем утвердили Максимова, заместителем – Бавыкину. Вошла в правление и Настя. Вела она первый подпольный протокол. Секретарствовала и на других заседаниях и все документы хранила в тайнике.
Колхоз «Заря» стал жить своей необычно тревожной трудовой жизнью. Бригадиры давали наряды колхозникам, Настя вела учет, к севу готовились семена. Партизанам были отправлены мясо и мука.
Двенадцать коров и двадцать четыре овцы были упрятаны в лесу, километрах в трех от деревни, в так называемых Рысьих Выселках. Там когда-то был хутор. Жили в том хуторе эстонцы-маслоделы, но лет десять назад выехали – и место запустело, стало обрастать кустарником. Жилых построек в Выселках не сохранилось, был лишь большой крытый сарай, в котором когда-то хранилось сено, уцелело и старенькое гумно да байнюшка. В сарае и гумне разместился скот, а в байнюшке жили скотницы.
Здесь же, в Выселках, зимовали и колхозные утки. Летом и осенью кормились в лесном озерце Никольском. У самого берега была сколочена временная птицеферма и тут же – сторожка для жилья.
Всю зиму сорок первого и сорок второго года Большой Городец будто спал беспробудным сном, спал под снегами в ожидании лучших времен. Люди редко выходили из дому, а если и выходили, то только по крайней необходимости. Шла скрытая работа, на первый взгляд незаметная, на ферме и еще более скрытая – в глубоком подполье, где обсуждались важные общественные дела, налаживалась связь с партизанами. В лесные дебри на самодельных лыжах уносились связные, возвращались с газетами и листовками. Новые вести приносили и радость, и печаль, а главное – надежду на освобождение. И Большой Городец жил своей неторопкой жизнью, жил так, как мог жить в тяжелых условиях оккупации. Фашисты редко наведывались сюда, словно бы забыли, что где-то существует деревня под названием Большой Городец.
Однако весной, когда растаяли снега, немцы зачастили, а в начале мая в Большом Городце обосновался фашистский гарнизон. Правда, гарнизон был небольшим – всего человек двадцать, но все же немцы приглядывались ко всему, подмечали, что делается на улице, на полях, на лесных дорогах и тропах. Да и полицаи частенько наведывались в Большой Городец: они знали лучше, чем немцы, местных жителей и могли в одночасье сотворить непоправимую беду. Но тут выручала самогонка. Полицаи были падки на выпивку и, возвращаясь в волостную управу под изрядным хмельком, нередко везли объемистую бутыль
«божьей слезы» самому бургомистру.
В деревне стало неспокойно: люди жили с оглядкой, ежечасно опасаясь попасть в немилость незваным пришельцам. Командовал фашистским гарнизоном в Большом Городце обер-лейтенант Грау. Высокий и худощавый, лет сорока пяти, волосы ежиком, когда он сердился, глаза стекленели и по-совьи округло впивались в собеседника.
Первым делом Грау собрал всех жителей на сходку. Из бывшей читальни по его приказу вынесли стол, и Грау, взобравшись на него, картинно жестикулируя, начал свою речь:
– Сопротивление Красной Армии сломлено, и скоро доблестные войска великой Германии займут Москву и Ленинград...
«В прошлом году об этом же трубили,– подумала Настя,– и снова об этом же трубят. Недаром сказано: “Видит собака молоко, да в кувшине глубоко"».
Грау между тем продолжал:
– Кто будет хорошо служить новой власти и помогать в борьбе с партизанами и саботажниками, тот быстро разбогатеет. Фюрер добросердечен к тем, кто ему верен и кто ему служит...
Грау вылаивал слова пронзительным фальцетом, и эти слова Настя воспринимала точно грязную ругань, понимая без переводчика, и снова подумала: «Никто в холуи не пойдет к вам, никакие посулы не соблазнят» А как было бы хорошо взобраться на стол и выкрикнуть это в лицо немецкому офицеру. Подумала так и быстро подалась вперед, но вовремя спохватилась «Да что я, очумелая! Надо держаться, надо терпеть. Бороться разумно и осторожно... А там придет и на нашу улицу праздник. Обязательно придет!..»
Офицер пообещал дать семян на посев, но с обязательным условием: большегородцы должны осенью сдать германскому вермахту три тысячи пудов зерна. Шутка ли сказать – три тысячи!
– А если мы будем сеять каждый не свою полоску, а как раньше – на общем поле артелью? – спросил у немецкого офицера староста Максимов. – Остались три полудохлые лошади, а тракторов и вовсе нет...
– Сейте,– согласился Грау,– но землю разделите. Колхоза не будет. Вермахт разрешает частную инициативу. За сдачу хлеба отвечает головой староста. Потребуем сполна.
Сказал, словно отрубил, и спрыгнул со стола.
Народ зашумел, заволновался: шутка ли – три тысячи пудов!
А что самим останется? Солома да мякина... Эх, Максимов, Максимов! И зачем пообещал? А вдруг земля не родит и люди не захотят гнуть спину на фашистов?
Семена, которые обещал выделить Грау, не поступили. Собирали зерно с каждого двора по нормам, которые определило подпольное правление колхоза. Действовали осторожно. Предварительно выявили возможности каждой семьи, собирали семенное зерно в основном на добровольных началах. Все знали, что надо сеять: не посеешь, как говорят, не пожнешь. Сеяли рожь старики, женщины и подростки заборонили, и земля пустовать не осталась.
Когда подоспел сенокос, траву косили тоже сообща, артелью. В одиночку косили – что поближе, а на дальних пожнях – для общественного стада. Все шло своим чередом. Но оккупанты стали догадываться о чем-то: все от них скрыть было нельзя, просто невозможно. Грау вызывал Максимова, орал на него:
– Поощрять надо частную инициативу! А у вас что? Скопом работаете.
Максимов объяснял через Настю, изворачивался, как мог, говорил, что в России, дескать, и раньше крестьяне работали общиной и называлось это «помочью».
– Община,– квакал Грау. – Я покажу тебе общину. На веревке будешь
болтаться.
Чертыхался, грозил, стучал кулаком по столу, но Максимов был невозмутимо
спокоен, неторопливо вертел в руках кисет, не спеша свертывал самокрутку, долго высекал кресалом искру, прикуривал, молчал. Но Грау еще пуще свирепел, казалось, он выхватит из кобуры пистолет и выстрелит в Максимова. Настя толкала старосту туфлей в сапог, предупреждала об опасности, а Максимов все дымил и молчал.
– Земля была разделена. – Грау уже сбавлял крикливость на обычный разговор. – Землю поделили, а работаете как?
– Люди привыкли артельно работать,– стоял на своем Максимов. – Привыкли, господин обер-лейтенант. И до колхозов так работали.
Настя переводила слова Максимова, с беспокойством поглядывала на него и думала: «Тяжелую ношу взвалил на свои плечи Алексей Поликарпович. Надо и урожай вырастить, и фашистов обхитрить, раздать зерно колхозникам и партизанам помочь. Оккупанты наседают с каждым днем все наглей, того и гляди, раскроют все планы подпольного колхоза. И что тогда?»
Офицер между тем как бы читал мысли старосты, впивался в него совиными глазками:
– С партизанами связь держите? Под их дудку пляшете?.. Доиграешься, староста. Если хлеб не сдашь сполна, расстреляем.
Максимов отвечал с крестьянской хитрецой:
– Цыплят по осени считают.
Настя дословно перевела эту фразу. Немец не понял, погрозил пальцем:
– Каких цыплят? Я покажу тебе, старый, не только кур, но и скорлупку от яиц. Будешь жрать ее сам, скорлупу. Говори, в чем дело, мокрая курица! Выкладывай мне своих цыплят! Придет осень – новых потребую!
– На осень заглядывать не будем,– уклончиво отвечал Максимов. – Будет осень – будут и яйца. А не будет яиц – скорлупу будем есть.
Настя переводила эту фразу, переиначив:
– Куры много принесут – для всех хватит.
Грау кивал головой в знак согласия и отпускал с миром старосту и переводчицу.
Фашист не раз грозил Максимову и расстрелом, и виселицей, а в лучшем случае обещал посадить в кутузку на казенные харчи. И всякий раз Настя выручала старика, переводила слова Максимова таким образом, что немец оставался довольным и отпускал его. А бывало так: после очередной беседы в комендатуре Грау приходил в гости к старосте на дом, приглашали и Настю. Максимов угощал немца медком, самогончиком с калгановым настоем, затем, если была это суббота, приглашал в баньку, парил березовым веником сутулую спину коменданта, после баньки снова угощались медовухой, и немец добрел, хвастался тем, что в Германии у него хорошая усадьба, что породистый скот, что растет отменный картофель и что этим картофелем он откармливал свиней.
– А что тут? Дыра. И небо у вас дырявое. И лес темный, буреломный: пойдешь – ногу сломаешь.
Настя с усердием переводила Максимову все разглагольствования обер-лейтенанта, Максимов слушал, кивал головой, поддакивал, иногда хмыкал и подливал «гостю» новую порцию самогона. Грау пил, закусывал огурцом и вслух мечтал о том, что окончится война и что он как победитель вернется в свою благодатную Баварию пить пиво, выращивать картофель и отвозить на бойню откормленных свиней.








