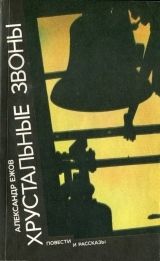
Текст книги "Преодолей себя"
Автор книги: Александр Ежов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
А скоро ли на этих землях грянет гром? Стогласный. Очистительный. Под Ленинградом и на Волховском фронте. Чтобы приблизить эти яростные вспышки грома, надо повсюду вредить врагу, не давать ему покоя. И вот она, Настя Усачева, послана подпольным райкомом со специальным заданием. Может, от ее умелых действий, от ее выдержки и хладнокровия зависит многое. Ведь на нее рассчитывают, на нее надеются – там, в партизанском штабе.
Нет, она должна действовать именно здесь, в этом небольшом городке, где оккупанты чувствуют себя еще спасительно прочно, где пока они хозяева. Чтобы быстрей от них избавиться, нужна ее четкая и безупречная работа. Назад пути не было...
На запасной явочной квартире ей открыл дверь пожилой мужчина в очках. Он ответил на пароль, как и было предписано, и, пригласив в переднюю, сразу же задал вопрос:
– На улице Гоголя были?
– Да, была,– ответила Настя и рассказала, как там встретила ее какая-то женщина.
– Положение серьезное,– потирая руки, начал рассуждать человек в очках. – Никто за вами не увязался?
– Да вроде бы нет.
– Наш человек, проживавший в доме на Гоголя, арестован. Он дальний родственник этой женщины. Подозрения падают на нее. Возможно, она повинна в том, что он провалился. Кто он – теперь для вас это не имеет никакого значения. Связь будете держать со мной. Звать меня – дядя Вася. – Он улыбнулся, сощурив близорукие глаза. – Все инструкции для дальнейших действий будете получать от меня. А через кого и каким путем—потом решим.
Настя кивнула и начала рассказывать о том, как к ней приходил полицейский Синюшихин.
– Наиподлейший мерзавец этот Синюшихин,– сказал дядя Вася.– На совести этого негодяя – не одна жертва. Однако и его надо использовать, если предоставится такая возможность. Пускай заходит, но будь осторожна. Синюшихин – хитрая бестия.
– Одного боюсь,– ответила Настя,– назойлив он.
– Говори, что замужняя, что верна только мужу.
Сказал это дядя Вася и заметил, как потухли у Насти глаза. Глубоко вздохнув, она сказала:
– Нет у меня мужа.
И она поведала ему все. Как замуж вышла, как провожала Федора на войну, как пришел Гешка с недобрыми вестями.
– Тяжело мне, очень тяжело. Я все время думаю о нем...
Дядя Вася молчал, думал о Настиной судьбе, о судьбе многих людей.
– Но ведь он не живой, убили его.
– А может, живой. Может, Гешка-то ошибается. Всякое на войне бывает – и мертвые воскресают.
– Ты не говори никому, что погиб муж, ни полицаю тому, ни немцам. Пускай
Федор твой будет словно бы живой. – Она в знак согласия кивнула, а он между тем продолжал: – И на работу устраивайся как можно скорей. Хорошо говоришь по-немецки, а это уже половина успеха.
Они условились, когда снова встретятся, и Настя сразу же пошла на биржу труда. Там ей сказали, чтобы зашла через пять дней, и предложили заполнить анкету. Сотрудник биржи, некто Сперужский, с лисьими глазами и тонким женским голосом, стал допытываться:
– По какой причине в город переехала? Почему мать оставила?
Эти вопросы озадачили ее, и сразу она не могла ответить.
– В деревне скучно,– наконец сказала и почувствовала, что сказала правильно.
– Понятно,– изрек многозначительно Сперужский. – Вы женщина молодая, красивая... Нужны кавалеры подходящие, а в деревне – там что? Серость.
– И в деревне грамотных людей теперь много.
– Немецкому рейху грамотеи не нужны. Интеллигенты только воду мутят. Германии нужны работники.
«Да, это верно. Гитлеру нужны бессловесные рабы»,– подумала Настя и примирительно ответила:
– Нужны работники, господин Сперужский, вы правильно сказали.
Ему, видимо, понравился ответ, и он благосклонно сказал на прощание:
– Приходите завтра, что-нибудь придумаем.
– Спасибо,– ответила она и пошла к выходу. Когда открыла дверь, то услышала из глубины кабинета писклявый голос:
– Усачева, вы случайно не родственница валдайским заводчикам Усачевым? Были до революции такие фабриканты, занимались изготовлением знаменитых валдайских колокольчиков.
– Нет, как будто просто однофамильцы.
– А я подумал – валдайская ты, потому и спросил. – Он обращался к ней то на «вы», то на «ты», и эта изменчивость в обращении говорила о частой смене его настроений, его отношения к тому, с кем он разговаривал. – Приходи,– повторил он еще раз,– для тебя что-нибудь придумаем. – И она поняла по тону его обращения, что он действительно для нее может что-то сделать.
Выйдя на улицу, размышляла о том, что приходится обивать пороги, унижаться перед мелкими тварями, просить, чтоб устроили. Грамотные работники им не нужны, а нужен рабочий скот, послушное стадо, бессловесное и раболепное. Не зря, видать, спросил о родстве с теми Усачевыми, что жили когда-то в Валдае. Настя бывала в этом маленьком примечательном городке: там жила подруга Верочка Иванова. Была летом, когда готовились с ней поступить в институт. Понравилось озеро с живописными берегами, с хрустальной прозрачной водой. Купались и загорали, ходили в боровые леса.
Запомнилось валдайское кладбище, расположенное на холме. У входа – кирпичной кладки красная церковь. Над могилами – высокие деревья. У подруги здесь покоилась мать. И вот Настя вспомнила, что рядом были похоронены и купцы Усачевы. На их могилах стояли массивные кресты из черного мрамора. Из надписей на них следовало, что Усачевы жили в Валдае еще в начале прошлого века. И фамилия этих Усачевых известна только потому, что они разнесли по всей России малиновый перезвон валдайских колокольчиков. И звенели эти колокольцы неумолчным звоном полтора века под дугами лихих троек.
Придя домой (дом Поликарповых она считала своим домом), Настя легла и не заметила, как уснула. Проснулась рано. На улице была несусветная пасмурь: с неба сыпался мелкий дождик, предосенний, нудный и затяжной. Сквозь эту тоскливую сеянь дождя она увидела соседку, снимавшую с вешал мокрое белье. Вспомнила, что и она вчера повесила кофточку, и, торопясь, выбежала на улицу. Сняла белье и развесила уже дома, возле печки.
Дождь не переставал и в полдень. Только к вечеру тучи побледнели, и мокрядь постепенно отодвинулась в неоглядную даль. Настя вышла в огород покопать картошки и там снова увидела соседку. Вытянув длинное сухое лицо, старуха тихо спросила:
– Новость-то слыхала?
– А что такое?
– Как что? Аресты в городе идут. Хватают людей вдоль и поперек.
– Ну?..
– Вот те и ну. Этого, главного ихнего, кто-то укокал.
– Какого главного? – спросила Настя.
– Не помню уж. Память-то у меня знашь кака. Иди-ка узнай у Семеновых. Они тут рядом живут. По другу сторону твово дома.
Настя вошла в дом сама не своя: то ли идти к Сперужскому, то ли нет.
Решила пойти.
Глава седьмая
Убит был вахтмайстер Шмитке. Убили его среди бела дня в центре города, в тот момент, когда он выходил из комендатуры и садился в автомашину. Стрелял кто-то со стороны парка, пуля попала в голову, и Шмитке упал замертво, лежал плашмя, раскинув руки. Фашисты суетились возле него, ошарашенные случившимся, и когда пришли в себя – бросились в сторону парка, но настигнуть тех, кто стрелял, не смогли. Хватали всех, кто попадался на глаза, хватали без разбора – и женщин, и подростков. В первые два часа было арестовано около тридцати человек, начались допросы, пытки, а кто на самом деле стрелял – так и не удалось выяснить.
Утром Настя сидела дома, опасалась выйти: мало ли, попадись под горячую руку в гестапо – попробуй потом вырвись из этих цепких лап, сгинешь, точно в темный омут провалишься. Посидела часа два, пошла в огород, прислушалась: в городе было тихо, казалось, и сам воздух застыл в неподвижном оцепенении. Накопала картошки, вымыла ее, поставила кастрюльку на прогар плиты, но печку топить не стала. Зачерпнула воды, взяла сухарик и начала жевать, припивая водицей. Сухарик похрустывал на зубах, было ощущение, будто жует постный сахар, такой сладкий и ароматный. Разжевала, проглотила и поняла, что это не сахар, а простая корочка хлеба, но только немножко сладкая – ведь она со вчерашнего дня ничего не ела и проголодалась. И вдруг подумала: а как же там Надюша? Небось помирает от голодухи – ведь и передачу-то не приняла. Снова стало горько на душе, ощущение сладости и покоя моментально исчезло. Решила про себя: что-то надо делать, чтобы вызволить Надю, спасти. «Действовать, только действовать! Не сидеть же на месте»,– решила она и с этими мыслями вышла на улицу.
Солнце падало под уклон, недавней пасмури как не бывало, а когда день хороший – и на душе светлей. Шла она по улице к своей цели, иногда останавливали патрули, она показывала пропуск, хотя он и был временный, но выручал надежно, и особенно выручало знание немецкого языка. С патрулями она бойко перекидывалась фразами, солдаты козыряли ей, и она шла дальше.
На бирже труда принял все тот же Сперужский. На этот раз он был хмур и нелюдим и даже выявил некоторое неудовольствие тем, что она пришла. Весь вид его говорил о том, что он подавлен чем-то и глубоко встревожен.
– Нет, нет, не могу устроить! Не могу! – проворчал он и отвернулся. – Приходите лучше завтра, после обеда.
– Я прошу вас, выслушайте меня. – Настя села на скамейку, делая вид, что не уйдет, пока не выслушают ее.– Мне работа нужна. Ведь надо на хлеб зарабатывать.
– Всем вам подай хлеб, да еще с маслом. Много вас, таких нахлебников, развелось.
– Но я ведь прошу вас, господин Сперужский. Очень прошу.
Сперужский молчал. Работу, конечно, он мог бы подыскать и сейчас, но проявлял осторожность: мало ли что? Кто она такая, эта Усачева? Пришла из деревни. Почему пришла, зачем? Может, подослали подпольщики? Всякое бывает. Вот самого Шмитке ухлопали. Кто его убил? Может, Усачева и ухлопала. Отправила на тот свет к праотцам, а сама для отвода глаз заявилась сюда. Возьмешь на работу – грехов не оберешься. Нет, надо обождать, пускай проверят в жандармерии.
– Не могу,– твердо отрубил Сперужский. – Вот если на оборонительные сооружения... Согласна землю копать или тачку таскать?
– Я могла бы переводчицей... Мне Брунс обещал.
– А, Брунс! Тогда иди к Брунсу. Пускай он и устраивает.
И на этот раз Настя ушла ни с чем. Она шла, размышляя, что же дальше предпринимать. Пойти к Брунсу – а вдруг и он откажет? Что тогда? Жить просто так, без дела она не могла. Надо найти какую-то работу, хотя бы временную, пристроиться к какому-либо месту, приоглядеться, завязать контакты. А жить просто так в городе нельзя – это она понимала и решила пойти снова к Брунсу или в жандармерию. Должны же ее, в конце концов, устроить.
Возле базарной площади она увидела ребенка лет семи, сидевшего возле забора. Подошла поближе и разглядела его. Мальчик был одет в серую поношенную куртку, на голове старенький картуз, штаны настолько износились, что сквозь внушительные дыры были видны остренькие колени ребенка. Лицо сморщилось, как у старичка, глаза полузакрыты. Настя поняла: ребенок умирает от истощения. Она окликнула его:
– Кто ты такой? Откуда пришел?
Мальчик чуть приоткрыл глаза и снова закрыл, ничего не ответив. Он настолько был слаб, что еле шевелил губами. Подойдя еще ближе, Настя увидела, что по прохудившейся одежонке ребенка ползают насекомые. «Ах ты, милый, что наделала с тобой война», – подумала Настя, и в душе ее всколыхнулась такая жалость к этому крохотному существу, что она чуть не заплакала. Надо было как-то помочь, а как – не могла придумать. Взяла за рукав и попыталась поднять мальчика, но колени его подкашивались, он настолько ослаб, что не мог самостоятельно идти. Поддерживая, она повела его к дому.
Затопила печку, чтобы согреть воду и вымыть ребенка. Одежонку тут же сожгла, порылась в шкафах Надежды и нашла кой-какие вещи. Когда вода согрелась, мальчика посадила в таз и начала мыть. Тельце было настолько хрупким, что она боялась натирать мочалкой. Потом взяла ножницы и остригла волосы. Снова мыла шею, спину, животик, совсем провалившийся почти до позвоночника.
– Господи, до чего ты дошел! Ведь и умереть недолго...
Намыв, закутала в одеяло, положила на кровать. Приготовив обед, стала кормить. Мальчик еле раскрывал рот и слабо шевелил губами. И все же помаленьку ел. Когда проглатывал пищу, кадык на шее неестественно вздувался и набухшая жилка импульсивно вздрагивала. На другой день он уже жадно хватал пищу, словно птенец, то и дело открывая ротик. Однако Настя знала, что кормить много в таких случаях нельзя, иначе может наступить непоправимое, сказала ласково и чуть слышно:
– Обождем, миленький, немножко. Обождем.
Он открыл глаза и посмотрел на нее с такой преданностью, точно перед ним была родная мать. Губки зашевелились, и до слуха Насти донеслось единственное слово, произнесенное почти шепотом:
– Мама...
– Что, сыночек, что? – спросила она и заплакала. Ее охватило чувство
жалости, неизбывной тревоги: она понимала, что ребенок не ее, но матерью теперь, хотя бы временно, должна стать она. Обязана поставить несчастного ребенка на ноги, спасти его.
Она уже думала только о нем и делала все только для него. Из старого белья сшила ему рубашонку и простенькие штаны. А вот обувку не знала, где найти. Но надеялась, что мир не без добрых людей, выручат, все будет, только бы поскорей выходить его, вдохнуть в слабенькое тельце животворную силу.
Еще через день он уже слабо улыбнулся, и она спросила как можно ласковей:
– Как звать-то тебя, родненький?
В его карих глазках заиграл огонек жизни, и он снова улыбнулся.
– Ну как, скажи, как тебя зовут? – снова спросила она.
– Федя,– ответил он слабеньким голоском.
«Федя, Федя,– пронеслось в голове,– не может быть». Это имя было ей настолько дорого, что она прониклась необъятной нежностью к маленькому Феде. Ей показалось, что он и похож на того большого и сильного Федора, на мужа ее.
– Феденька, милый, откуда ты, из какой деревни? – спрашивала она мальчика.
Он слабо замахал сухонькой восково-прозрачной ручонкой, еле слышно прошептал:
– Из Плавкова. Деревню сожгли...
– А родители где?
– Сожгли и маму, и бабушку.
– А папа?
– Папа? – переспросил он. – Не знаю, где папа.
– Господи боже мой! – всплеснула руками Настя.– Осиротила война ребенка! Обездолила... – Она приобняла худенькое тельце Феди и горько заплакала.
Через несколько дней маленький Федор начал совсем оживать. Он уже бегал по комнатам и радостно лепетал:
– Мама. Я хочу, чтобы жива была мама...
Насте было радостно глядеть на него и в то же время горько, очень горько... Заменить мать Федору она не могла, должна была пристроить его где-то, куда-то определить, чтоб не погиб ребенок, а сама должна пойти туда, куда ее пошлют.
В один из субботних дней Настя снова была в кабинете у Брунса. Гестаповец строго смотрел на нее, подошел совсем близко, смотрел, словно бы просвечивал глазами насквозь. Настя хладнокровно выдержала пристальный взгляд фашиста. Он отошел к столу, полистал какие-то бумаги и, повернувшись к ней, жестко сказал:
– Сестру вашу, к сожалению, выпустить на волю не можем.
Настя вся подалась вперед, она не знала, что сказать. Брунс заметил, как она волнуется, переживает, и уже тише проговорил:
– Пока не можем...
– Почему? – вырвалось у нее.
Он знал почему, но не хотел сказать, не мог этого сейчас сказать по некоторым
соображениям. И она догадывалась, почему он не мог: велось следствие, многие были арестованы, многие подозревались...
– Не доверяете? – спросила она.
– Нет-нет! Почему же? – замахал рукой гестаповец. – Я, Анастасия, вам вполне доверяю. Мы вас уже проверили. По всем каналам. И могу вам сообщить приятную новость. – Он с минуту помедлил, отошел к окну, поглядел на улицу и, круто повернувшись, сказал: – Принимаем вас переводчицей в жандармерию. У нас есть переводчики. Надежные люди. Но работы стало настолько много, что мы не справляемся. Приходится работать ночью. Притом выезжаем на периферию. Могут быть командировки. Согласны?
– Я подумаю,– сказала она. – Работа мне нужна, но некоторые обстоятельства меня удерживают...
– Что за обстоятельства?
– Мать дома одна. Старенькая, а дел по хозяйству немало.
– Ну, матери поможем. Не пропадет твоя мать. Будешь навещать. Не так часто, но будешь.
Он перешел с ней на «ты», это ее несколько удивило. Разговор приобретал доверительный тон, она поняла, что Брунс и на самом деле ей доверяет. Все шло как нельзя лучше, она даже не надеялась на столь быстрый поворот событий к лучшему. Осмелев, посмотрела ему прямо в глаза, застенчиво улыбнулась.
– Ну как, Усачева? – Он тоже улыбался и смотрел на нее, смотрел неотрывно и, казалось, с дружелюбием. Она это поняла сразу и загрустила, напускной этакой грустинкой, а в душе разливалась радость. «Вот хорошо, приглашают,– думала она. – Так быстро и ловко все получилось. Буду работать там, где для подполья всего нужней. Здесь, у них, в жандармерии. То-то обрадуется Филимонов».
Брунс ждал ответа, а она медлила. Сказать сейчас, что согласна, или отложить свое согласие на несколько дней? Все обдумать, доложить по инстанциям, что ее принимают, а потом уж и браться за дело?
– В принципе я согласна,– наконец сказала она.– Но надо подумать, все взвесить. Работа у вас непростая. Сложная работа... – Она помолчала немного и подняла глаза: – У меня нервы...
– Ах, нервы, нервы! У всех у нас они, эти нервы.– Брунс снова начал ходить по комнате, поглаживал черные волосы, которые и так лежали аккуратно, смазанные каким-то снадобьем. – Ко всему нужна привычка, дорогая. Может, другие причины имеются?
– У меня мальчик. Сирота. Дальний родственник. Родители погибли, и надо его пристроить.
– Уладим и это,– перебил ее Брунс. – Мальчика отправим в Германию. Там воспитают, сделают настоящим человеком. Я об этом лично позабочусь.
– Нет, я не согласна, чтоб его отправили в Германию,– начала возражать Настя. – Может, отец у него жив. Будет искать ребенка.
– Отец? Где его отец? – Глаза Брунса сверкнули подозрением. – В партизанах?
– Нет, не в партизанах,– спокойно ответила Настя. – Мобилизован еще в сорок первом году, летом. С тех пор неизвестно где.
– Может, убит, может, попал в плен?
– Не знаю где,– сказала Настя,– но мальчика надо спасти. Разрешите отвезти в деревню, к матери? Там он не пропадет.
– А работа?
– Отвезу – и сразу примусь за работу. Дайте мне пропуск на пять-шесть дней. С матерью повидаюсь, посоветуюсь.
– Ну что ж, поезжайте,– согласился Брунс. – Даем всего два дня, больше не можем. Согласна?
– Да, я согласна,– сказала Настя и поднялась.– Благодарю вас, господин ротенфюрер.
– Документы получите в канцелярии. На попутных машинах доехать можете сегодня.
– Еще раз благодарю,– поднялась и поклонилась Настя. – Вы добрый человек, Брунс. Очень добрый.– Сказала эти слова и спохватилась: зачем так сказала? Вот глупая. Что он может подумать? Какие сделает выводы? Подумала так и быстро вышла, боясь, что он еще что-нибудь спросит, остановит.
Через полчаса у нее на руках был пропуск, очень важный документ: с такой бумагой хоть куда можно поехать, хоть в саму Германию, хоть на край света.
И вот она с Федей уже в кабине грузовика, весело болтает с шофером по-немецки. Ей и на самом деле было весело: ехала домой, так ловко облапошив самоуверенного гестаповца Брунса. Поверил, выдал пропуск. Но ведь он не знает, что она разведчица. А если бы узнал, как был бы ошарашен, разбит и подавлен! Нет, не узнает фашист, кто она на самом деле. Не узнает…
Она ехала и решительно никого не боялась.
– Значит, к матери в гости? – спрашивал у нее шофер и не верил, что она русская: ведь так хорошо говорит по-немецки. – А не в Германии мать?
– Нет, нет,– отвечала Настя. – Мать в Большом Городце. А это внучатый племянник. Сирота. Везу к матери. Потом – обратно в город: работа ждет. Переводчица я у самого Брунса.
– У Брунса? – переспрашивал немец. – Даже у Брунса? – Шофер насторожился и, казалось, не верил: Брунс был видной фигурой в Острогожске, его боялись все, даже офицеры. Кто к Брунсу попадал – выкрутиться было не так просто. Особенно сейчас – такое опасное время. Красная Армия наступает. Повсюду партизаны не дают покоя. Трудные настали времена. Очень трудные для
немецкого вермахта.
– Как тебя звать? – спросила немца Настя.
– Ганс Борш. Из-под Лейпцига я. Отец в деревне, крестьянин. Землю пашет, хлеб убирает. А сам я перед войной работал на заводе слесарем.
– Домой небось хочешь?
– Ну, кто ж не хочет? Все хотят. Да вот война все карты спутала. Перед войной собрался было жениться и... не успел.
– Поди, невеста ждет?
– Ждала, ждала, да перестала. Недавно мамаша прислала письмо. Вышла моя Роза замуж. За инвалида выскочила, за офицера. А я вот здесь. Останусь живой или пропаду – одному богу известно. В лесах партизан полно. В любой момент могут прихлопнуть.
– Боишься, Ганс?
– Иногда боюсь. Особенно ночью, когда едешь по глухомани. Кругом темный лес. Едешь и ждешь – вот забросают машину гранатами или прошьют автоматной очередью. И… считай, конец. А помирать не хочется. Скорей бы эта страшная война закончилась. Это я так, по-солдатски. Разумеется, Брунс не должен знать об этом. Я надеюсь, фрейлейн, вы не передадите ему то, о чем сейчас говорил?
– Не бойтесь. Ничего не скажу. Я ведь русская. Подневольная. Просто службу несу, и все. Кормиться как-то надо.
Солдат умолк и смотрел на Настю не то с подозрением, не то с доверием, но, видимо, был раздосадован, что лишнего сболтнул.
Настя поняла это и тоже молчала, однако в душе ее разливалась радость: наконец-таки и они, немецкие солдаты, начинают понимать, что война, развязанная кликой Гитлера, бессмысленная и позорная, безвозвратно проиграна. Раз стал немецкий солдат думать об этом, и, очевидно, серьезно задумываться, значит, дела фашистов не так уж и хороши. Перспективы у них нет никакой. Настя хотела обо всем этом сказать Гансу, но воздержалась: она не имела права об этом говорить.
А немец между прочим продолжал:
– Отец погиб на войне и два брата. Остался один я у матери. Ждет меня не дождется. Может, тоже ухлопают. А как хочется жить! Как хочется! Мне всего двадцать три года. Двадцать три... – Он замолчал. Придерживая левой рукой руль машины, правой достал из кармана пачку сигарет, щелчком указательного пальца вытолкнул сигарету, поймал ее губами, долго жевал, не прикуривая, потом вынул из кармана зажигалку и прикурил. Затягивался жадно, выпуская клубы дыма в приоткрытое оконце кабины, шевелил губами. Накурившись, выплюнул окурок и тяжело вздохнул.
Настя поняла: невеселые мысли в голове у Ганса, очень невеселые. Думал, по всей видимости, о своей судьбе, о судьбе семьи, которую так потрепала война.
– А все же о доме скучаешь, Ганс? – опять спросила Настя.
Он посмотрел на нее искоса и удивленно: кто же не хочет домой, поди, каждый солдат думает о доме, мечтает вернуться, в том числе и Ганс Борш.
– Только бы живым остаться,– ответил он не сразу. – Всем надоела война. И вам, русским, и нам. Столько людей погибло... – Он опять задумался, Настя тоже молчала и думала о своем.
Когда доехали до повертки, Настя с Федей вышли из кабины, Ганс тоже вышел.
– Ну, прощайте,– сказал он. – Счастливо добраться.
Немец долго стоял на развилке дорог, смотрел, как все дальше и дальше уходили Настя и маленький Федя. Пройдя шагов сто, Настя оглянулась, а немец все еще стоял. Она помахала ему рукой, и он махнул пилоткой раза три, потом побежал к машине, залез в кабину, завел мотор и поехал. Почему-то Насте стало жалко этого Ганса из-под Лейпцига, простого солдата, может, ни в чем не виновного, брошенного судьбой в страшную пасть войны. Сколько таких парней полегло, сколько сложено голов неповинных... Настя завздыхала и пошла быстрей. Федя еле поспевал за ней, бежал трусцой, все время оглядываясь, словно боялся: уж не гонится ли этот большеносый немец за ними? Он не понимал, о чем говорила Настя с немцем,– говорили-то по-немецки.
– Ты что все голову поворачиваешь, Федюнчик?
– А вдруг он нагонит нас и прибьет?..
– Не будет он нас догонять, Феденька. Не бойся, не будет.
– А ведь они мамку с бабуней сожгли. Ведь они, фашисты.
– Они, Феденька, они. Многих погубили они, но не все звери. И среди них есть люди. Вот и Ганс, который нас подвозил... Разве он зверь? По-моему, человек он и неплохой. Видел ты сам: не обидел нас? На машине прокатил. И еще кого-либо подвезет. А почему подвезет? Потому что человек он добрый.
– Нет, не добрый он человек! – Мальчик остановил Настю, и глазенки его колюче засверкали. Она поняла: он не поверил ей, не мог поверить, что немец Ганс добрый.
Настя улыбалась и глядела на Федю: головенка мальчугана ежисто ощетинилась, и весь он превратился в колючего ежонка. Уж так был обижен войной, так обездолен, так измучен, что в каждом немце он видел только убийцу, только насильника. По существу, многие оккупанты таковыми и были, но вот Ганс – враг или не враг? Для маленького Федора он был враг, олицетворяющий величайшее злодейство, а для Насти – враг относительный. Она поняла, что немцу Гансу ненавистна война. А раз ненавистна, то из врага он может превратиться в друга, и это превращение может произойти в любой момент. Но как убедить маленького Федю, что Ганс совсем не враг, что он может быть другом, товарищем, а если предоставится возможность, повернет оружие против фашистов? Ведь многие же немцы ведут с фашизмом, многие томятся в тюрьмах и концлагерях. Ох, сложна борьба в этом мире, борьба между злом и добром.
– Не будем об этом думать, Федя,– сказала Настя. – Подрастешь – все поймешь, все уразумеешь. А теперь мы с тобой идем в гости к бабушке. Бабушка наварит свежей картошки, угостит блинчиками, если мука у ней сохранилась. И морковка в огороде есть. Хочешь морковочки?
– Очень хочу,– сказал Федя. – Она такая розовая, сочная и сладкая.
– Вот и хорошо, мой маленький мальчик.
В Большой Городец они пришли под вечер, когда заря уже окрасила заречный край неба и лес затуманился в полусумраке. Все дышало покоем: и поля, и луга были безлюдны, и на речке никого не было, деревня готовилась ко сну. Настя постучала в калитку, и сердце забилось гулко: ведь она стояла у родного порога, где все так мило и знакомо ей, где жила мать. Жива ли? Откроет ли дверь? И вот в сенях послышались шаги, вот она спустилась по ступенькам, увидев Настю, всплеснула ладошками:
– Настенька, ты?
– Я, мама. Что, не ожидала?
– Сердце весь день чуяло, что вернешься домой. Ждала сегодня. И вот не зря, видать, ждала. Да ты, кажется, не одна?
– Мальчик со мной. Сирота. Феденька
– Ну, что стали? Проходите в избу, гости мои ненаглядные.
В доме было все по-прежнему. Намыто и прибрано. Пахло огородным – укропом, чесноком, огурцами, свеклой. Мать убирает, что выросло, делает припасы на зиму.
– И зачем в город пошла? – начала упрекать Спиридоновна дочь.– Что те дома не жилось? Всего наросло, что я, съем одна?
– Сама не съешь – соседям поможешь, тем, кто нуждается. Посмотри, сколько людей голодает. Вот Феденька родителей потерял и чуть не умер с голодухи. Подкорми его, мама.
– А ты что, опять туда, в город? Смотри, допрыгаешься. С ними, с фашистами с этими, шутки плохи. Боюсь за тебя, Настя. Очень боюсь. Как не столкнули б туда, в бездонную пропастину.
– Не бойся, мама. Не пропаду. А в городе на работу устроилась...
– Это на каку таку работу?
– Секрет за семью печатями.
– У немцев, что ль?
– А хоть бы и у них...
– Смотри, девка. Слухи пойдут дурные. Что тогда? Уши не заткнешь... А наши придут – что скажут? Спотребуют, где служила, с кем крутилась...
– Все правильно, мама. Что надо, то и делаю. А ты живи да помалкивай,– многозначительно намекнула она. – Перед своими оправдаюсь...
– Смотри, мать не забывай.
– Как будет возможность, приеду опять. Живу пока у твоей племянницы.
– У Надюшки? Я так и знала. Поклон ей низкий да всего доброго.
– Если увижу, передам.
Спиридоновна испуганно поглядела на Настю: живет вместе, а поклон – если увижу...
– Почему – увидишь? Где она? Уж не заграбастана ли?
– В тюрьме пока,– спокойно ответила Настя. – По ошибке посадили, скоро
выпустят.
– По ошибке они не сажают,– забеспокоилась Спиридоновна.– К ним в лапы загребущие попадешь – обратно только в могилу отправляют. Уж я-то наслухалась всего. Ой страхи господни...
– Не переживай, мама, все будет хорошо.
– Так когда обратно-то?
– Два дня всего дали. На третий отправляюсь в обратный путь. И пропуск вот у меня на руках. Так что все нормально.
– Ну, погости. Огородное поможешь убрать, наросло всего помаленьку.
– А теперь я пойду, мама.
– Куда пойдешь? – Спиридоновна нахохлилась и строго посмотрела на дочь. – Куда на ночь глядя?
– Надо, мама, с Ольгой Сергеевной повстречаться. А ты тут Федюшку приласкай и накорми, а я быстренько обернусь...
– Опять шашни-пострашни. Смотри, допрыгаешься, как Степачевы...
Настя незаметно вышла из дома, направилась к Ольге Сергеевне. Подруга радостно встретила ее и первым делом спросила:
– Вернулась? Что, насовсем?..
– Нет, обратно скоро. Мать спроведать да на вас посмотреть. Как вы тут?
– Да ничего, живем. Урожай опять приезжал немецкий инспектор проверять.
– Ну, и что?
– Будем выкручиваться. Что-нибудь придумаем. А ты как там, в городе?
– Почти устроилась. К Брунсу, переводчицей обещает...
– Ой ли? Высоко, Настя, взлетаешь. Держись! Про Светланку ничего не известно? Где она, что с ней? Жива ли?
– Вроде бы жива, если на допросах не замучили. Вот буду в жандармерии работать – постараюсь все разувать. И по возможности помогу.
– Будем надеяться на тебя, Настя. Время лихое. Фашисты звереют...
Настя смотрела на подругу и примечала про себя: похудела Ольга Сергеевна, лицо осунулось и морщинок под глазами прибавилось. Нелегко тут живется, подпольный колхоз под носом у немцев почти два года существует, и все это на плечах Ольги Сергеевны.
– Значит, держитесь? – спросила Настя.
– Держимся. И будем до конца держаться. Фашисты о подпольном колхозе только, может, догадываются, но ничего толком не знают – как у нас все организовано, какие связи с партизанами.
Ольга Сергеевна словно бы споткнулась на словах. Ведь так много хотелось рассказать подруге, обо всем порассуждать, посоветоваться.
– Хлеб в скирдах,– продолжала она. – С обмолотом тянем. Приезжали, спрашивали, почему не молотим. Ответила – молотилка в ремонте, а руками молотить, дескать, долго, да и мужиков нет, а что одни женщины да подростки. Уже разнарядка из управы пришла – сколько сдавать. Ответа не дали. Ждем указаний из подпольного райкома...
– Если хлеб фашистам отдать,– сказала Настя,– то лучше бы не сеять. Зачем врагу помогать?
– Но мы посеяли. А раз посеяли – обмолотим, хлебопоставки государству выполним. Как полагается по законам Советской власти. А фашистам—вот!.. – Ольга Сергеевна показала кукиш.








