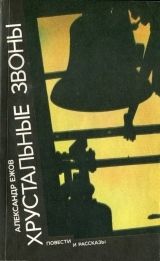
Текст книги "Преодолей себя"
Автор книги: Александр Ежов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
В глазах у Вельнера заиграли недобрые огоньки, и он, листая бумаги, пренебрежительным тоном спросил:
– Кто соучастники?
– Какие? Я не понимаю, о чем вы говорите, господин вахтмайстер...
– Ах, ты еще не понимаешь, Усачева! – Он поднялся со стула и подошел к ней: – Я заставлю припомнить буквально все! Заставлю!..
Настя молчала. А он продолжал на нее кричать, но затем, словно спохватившись, спросил уже спокойней:
– Ты была связана с партизанами?
– Нет, не была.
– Признайся чистосердечно, назови явки, соучастников, и мы тебя освободим. Власти вермахта бывают милосердны, если преступник чистосердечно признается в содеянном.
– Мне не в чем признаваться, господин вахтмайстер. Я в городе была на виду, была вашей сотрудницей…
– Знаем, что была. Потому, наверно, и поступила к нам на работу, чтоб выудить секреты и передать их бандитам.
– Ничего я не передавала.
– Ну, брось нам зубы заговаривать. Мы все знаем.
– А раз знаете, зачем спрашиваете?
– С кем была связана? С кем? Кому передала списки, составленные на людей, добровольно изъявивших желание поехать в Германию?
– Ни о каких списках я ничего не знаю.
– Введите свидетеля!– гаркнул Вельнер.
В комнату вошла Валя Пахомова. Робко села на предложенный стул.
– Свидетель Пахомова, вы знакомы с этой молодой особой? – спросил Вельнер.
– Да, я знаю ее.
– Просила она просмотреть списки на тех людей, которые изъявили желание поехать в Германию?
– Да, спрашивала.
– И вы предоставили ей эти списки?
– Да.
– Усачева, зачем понадобились тебе эти списки?
– Я хотела узнать, занесена ли в эти списки моя кузина Надежда Поликарпова.
– Только по этой причине?
– Да. Я и Пахомовой сказала об этом.
– Пахомова, вы подтверждаете это?
– Подтверждаю. Она именно так и сказала, что хочет посмотреть, нет ли в списках Поликарповой.
– И вы оставили эти списки у нее?
– Да, они остались у нее. Она помогала мне печатать на машинке.
– Вот как? – Вельнер начал бегать по кабинету.– Значит, она перепечатала эти списки и похитила? С какой целью, Усачева?
– Я не перепечатывала и не похищала.
– Врешь! Мы все знаем. Ты шпионка, Усачева. Пробралась в учреждения немецкого рейха и выуживала сведения с целью передачи их большевистскому подолью, партизанам. Пахомова может быть свободной.
– Я ничего не знаю,– сказала Настя и задала вопрос вахтмайстеру: – Чем вы можете подтвердить мое участие в подпольной организации? Чем?
– Ах, она еще у меня спрашивает! – взревел Вельнер – Мы все знаем! Нити зловещего заговора в наших руках! И мы распутаем всю эту дьявольскую сеть! Распутаем, черт побери! И накажем бандитов!
Он выплевывал фразы, точно громовержец, всезнающий и всевидящий, а по существу мало что знающий. Настя поняла это сразу и поэтому вела себя спокойно. «Ничего ты не знаешь, жандармская морда, и от меня ничего не добьешься». А он все орал, шея его покраснела, неестественно вздулась от напряжения, глаза сверкали злобой.
– Я ничего не знаю,– спокойно проговорила Настя. – Решительно ничего.
Она ждала, что вот сейчас начнут избивать, поведут на пытку, но Вельнер медлил. Он внезапно успокоился, будто его окатили холодной водой, подошел к Насте совсем близко и стал смотреть ей в глаза.
– Усачева,– сказал он уже спокойно,– все будет в твоих интересах. Ты знаешь хорошо немецкий язык – работай с нами. Признайся чистосердечно, и мы тебя простим. Будешь на воле счастлива и свободна.
– Ладно, я подумаю,– ответила она,– только я не имею никаких связей с партизанами. Никаких...
– Даем тебе на размышление ровно сутки. Одни сутки. Эти сутки определят твою судьбу...
Конвоиры отвели ее в камеру. Она слышала, как звякнул замок, как прогрохотали шаги тюремщиков, потом все стихло. Она сидела на тюфяке, поджав под себя ноги, и думала, думала. Мысли роились беспорядочно и хаотично. То она вспоминала детство, то школу, то знакомство с Федором. Все всплывало в памяти так ярко и отчетливо, казалось, все это произошло совсем недавно. Жизнь была коротка и вот теперь могла оборваться в любую минуту, не сама собой, а по чужой дьявольской воле, оборваться насильственно и нелепо. Она знала: фашисты беспощадны. Об этом она постоянно думала, и все же как ни опасно было ее положение, почти безвыходным было, Настя еще держалась за тонкую ниточку, цеплялась за нее, надеясь удержаться. Она поняла, что не надо ни в чем сознаваться, решительно ни в чем. Ведь фашисты почти ничего не знают о ее связях с подпольем, только догадываются, а фактов, доказательств у них нет. Вельнер подозревает лишь в похищении списков. Даже о подпольном колхозе в Большом Городце, членом правления которого была Настя, они ничего не узнали, хотя и арестовали Ольгу Сергеевну.
Что с ней? Где она? Возможно, в этих застенках? Как хотела бы Настя посоветоваться с подругой, хотя бы посмотреть на нее, одним своим видом приободрить. Но тюремные стены не раздвинешь. Вот она, стена, а кто там за ней? Какой узник? Или нет никого? Настя постучала костяшками пальцев в одну, потом в другую стену. Прислушалась. Через минуту с правой стороны она услышала еле уловимый ответный стук. Значит, там кто-то есть. Но кто? Настя постучала еще. Опять кто-то ответил дробным и частым стуком. Потом стена замерла. Настя сжалась в комочек, притаилась, закрыла глаза, и все же на душе полегчало.
В ту ночь она уснула: давала о себе знать страшная нервная напряженность предыдущей ночи. Спала без сновидений и проснулась с восходом солнца, перед глазами снова играли на черной тюремной стене солнечные зайчики, играли и бегали, словно бы улыбались, подбадривали: не бойся, они ничего не знают и никогда ничего не узнают. Держись!
Она подошла к окну, там опять расхаживал часовой, шаги его были ленивыми и тяжелыми. Постоял напротив окна, Настя снова разглядывала его ботинки, тупорылые и с толстыми подошвами. Постоял и снова пошел. Настя смотрела в потолок: там была маленькая электрическая лампочка, она слепо горела, еле освещая полутемную камеру, потом помигала немножко и погасла. Вот и жизнь человеческая – сверкнет огоньком и погаснет, может быть, навсегда.
Глава двенадцатая
Настя ждала вызова на допрос весь следующий день, но ее так и не вызвали. Она уже обдумала все варианты ответов на вопросы жандармов до мельчайших деталей, однако могло быть непредвиденное: кто-либо из подпольщиков не выдержал пыток – и тогда все пропало. О том, что Настя подпольщица, знал очень узкий круг людей, а что разведчица – знали только Степан Павлович Филимонов и дядя Вася. Возможно, знал кто-то еще в партизанском штабе, но это уже было там, за чертой, куда карающей руке фашистов было не дотянуться. Все это в какой-то степени успокаивало ее.
И еще была ночь, бессонная и длинная,– Настя не знала, почему не вызывают. Ищут новые улики? Что там думают о ней – Вельнер, Брунс, а может, кто приехал из Пскова? Может, вынудили пытками кого-то в чем-то сознаться и распутывают клубок? Она закрыла глаза, пыталась уснуть – и не могла. Боялась очередного допроса. Очень боялась. И только под утро провалилась в глубокий сон. Сколько она спала? Час-полтора, наверное, не больше, а проснулась от звяканья ключей, поняла – открывают камеру.
Открыл дверь пожилой немец с длинным лицом, точно у лошади, и маленькими глазками. Он сказал: «Пора вставать» – и поставил на столик завтрак. Это была миска с бурдой из брюквы и гнилой капусты. Она торопливо поела и снова улеглась. Думала и ждала.
На допрос вызвали только вечером следующего дня. Вельнер сидел в кресле и небрежно курил, пуская в потолок дымовые колечки. У окна, скрестив руки на груди, стоял Брунс. Оглядевшись, Настя спокойным голосом сказала:
– Я к вашим услугам, господа!
Эти слова она произнесла по-русски, и на лице Вельнера мелькнуло подобие улыбки. Он, очевидно, понял и ответил ей тоже по-русски, растягивая непривычные для него слова:
– Здра-вст-вуйте, Усачева. Как ваше здоровье? – спросил он и посмотрел на Брунса. Тот стоял словно истукан, не шелохнувшись, молчал.
Томительное молчание продолжалось с минуту. Настя насторожилась. С чего они начнут? И чем все это кончится?
Затем вахтмайстер вкрадчивым голосом, почти просяще проговорил:
– Я думаю, ты будешь благоразумна, Усачева. Можешь спасти себе жизнь, свободу, вернешь себе счастье… Так будешь благоразумной?
– Буду благоразумна. Что я, враг себе? – ответила и спохватилась: зачем так сказала? Словно пообещала выдать какую-то тайну. Обнадежила палачей.
– Вот и хорошо,– обрадовался Вельнер. – Я слушаю тебя.
Он даже подался к ней всем своим корпусом и, навострив уши, приготовился внимательно слушать. Но она молчала и не знала, что и как сказать: каждое слово нужно было обдумать. А те слова, которые ходили к ней ночью и были такими складными и убедительными, вдруг вылетели из головы, и она растерялась.
– Я жду честного ответа,– сказал Вельнер.– Только честность может спасти тебя, Усачева.
«Честный ответ...» – пронеслось у нее в голове. Ну что ж, она скажет то, о чем думает...
– Буду говорить только правду и честно,– начал она, тихо и прямо смотря в глаза Вельнера. – Буду говорить только правду.
– Мы ждем,– сказал Вельнер и забарабанил пальцами по столу.
– Правда моя такая,– продолжала Настя.– Я русская, хотя и говорю по-немецки. Русская я, вы понимаете, русская! Из этого вывод: я люблю свою Родину, но в подпольной организации не состою, никаких связей с партизанами не имела.
Она заметила, как лицо жандарма слегка побелело – признак гневного взрыва, однако Вельнер сдержался и спокойно произнес:
– Не играй с огнем, Усачева: ты сказала не всю правду. Ведь так я думаю?
– Вы можете думать, господин вахтмайстер, как вам угодно. Это дело ваше. Говорю вам честно и откровенно: я ни в чем не виновата.
– Полно, Усачева. Уж не такие мы глупцы, чтобы поверить басням насчет невиновности. Только чистосердечное признание может спасти тебе жизнь. Пожалей себя, ты так красива, так молода, у тебя целая жизнь впереди...
И вдруг лицо Вельнера мигом переменилось. Настя сразу заметила эту перемену – лицо его стало непроницаемым. Он грубо спросил:
– Ну, так с кем имела связь?
У Насти екнуло сердце, замерло и, как ей показалось, остановилось. Она поняла, что любезности кончились, что Вельнер может перейти к методам насильственных действий. Она смотрела на палача открыто, недоумевала, о чем он ее спрашивает.
– Я спрашиваю – с кем?
– Ни с кем,– ответила она.– Делайте со мной, что хотите, но клеветать на себя не могу. Не могу! Не могу! – выкрикнула она и закрыла глаза ладонью.– Почему вы не верите мне? Почему?
– Потому, что имеем веские основания не верить. Партизаны всегда осведомлены обо всем, что у нас происходит. Кто им эти сведения передает? Ну, скажи, Усачева, кто?
– Не знаю кто. Откуда я могу знать? И почему на подозрении оказалась я? Прошу доказать мою вину фактами. Докажите виновность!
Вельнер встал из-за стола и начал ходить по кабинету, бросая колючие взгляды то на Настю, то на Брунса. Брунс стоял и молчал, склонив голову, о чем-то размышлял. А Вельнер нервничал, снова сел и, посмотрев на Настю, продолжал:
– Самое веское доказательство – ты, Усачева, выкрала списки тех людей, которых должны отправить в Германию.
– Какие списки? – спросила она, как будто не зная, о чем он ее спрашивает.
– И ты не знаешь об этих списках? Люди разбежались, и мы не можем их найти.
«Вот и хорошо, что не можете»,– подумала она и ответила Вельнеру:
– Вы сами себе противоречите, господин вахтмайстер. Говорите, что люди добровольно изъявили желание поехать в Германию, и вдруг – разбежались... Этого не могло случиться... Не могло!
– Молчать! – заорал Вельнер.– Ты еще смеешь мне дерзить, дрянная девка! Я заставлю тебя отвечать как положено! Заставлю! – И он, размахивая руками, подбежал мелкими шажками к ней.
Брунс стоял в стороне и хладнокровно наблюдал за этой сценой.
– Мы уничтожим тебя, Усачева, в два счета! Растопчем! – орал Вельнер, но почему-то не ударил, хотя она и приготовилась к удару.– В последний раз предупреждаю... Ну, говори!..
– Ничего не могу сказать, господин вахтмайстер,– твердила одно и то же Настя.– Служила верой и правдой немецкому рейху. Честно несла службу. Вы сами знаете, что пригласил на работу меня господин Брунс. Он и сам подтвердит. Правильно я говорю, господин Брунс?
– Да, я предложил Усачевой стать переводчицей. Я надеялся, что она будет честно служить немецкой нации, притом она владеет немецким. А это кое-что да значит.
– Да, кое-что значит! Она специально обучалась немецкому языку с целью засылки вот сюда, к нам! – запальчиво проговорил Вельнер.– А мы рты разинули... И ты, Брунс, в первую очередь способствовал этому. Ты, и только ты!
– Я предложил, как и всякий мог на моем месте предложить. Не мог же я читать мысли другого человека...
– Заварил кашу, а теперь расхлебывай,– пренебрежительно буркнул вахтмайстер.– А я по долгу своей службы, Брунс, обязан доложить обо всем этом вышестоящей инстанции, там разберутся и, пожалуй, привлекут тебя, Брунс, к ответу.
– Ну, не пугай меня, Вельнер, не пугай. Может, и не шпионка она, может, мы ошибаемся. Вместе с тобой ошибаемся, Ганс. И брось, пожалуйста, горячиться.
– Я никогда не ошибался и, работая только в интересах Германской империи, должен постоянно и беспощадно бороться с врагами родины и их пособниками. Должен изобличать партизанских лазутчиков и шпионов.
Настя слушала высокопарные тирады фашиста и понимала, что не все гладко у немцев не только на фронтах, но и в Острогожске. Можно сказать, земля горит под ногами, потому и суетятся, нервничают, срываю злобу на безвинных людях. Убивают, томят в застенках, отправляют в рабство. Вельнер мог погубить и Настю в любую минуту, просто приказать, чтобы ее повесили. Она понимала, что матерый фашист ненавидит ее и каким-то внутренним чувством определил точно и бесповоротно, что она враг, а раз враг, то врага уничтожают. Она немела от недоброго предчувствия. Могут быть два исхода: или она погибнет, или все еще будет жить – жить в неволе, за решеткой, в концлагерях, где та же медленная смерть.
И на этот раз бить ее не стали. Вельнер предложил еще подумать. И вот она снова в камере, одна, со своими горькими раздумьями. Одна – и как это страшно! Хоть бы с кем посоветоваться, как отвечать на вопросы палачам... Хотя бы повидаться с дядей Васей: что бы он посоветовал? Что бы сказал? А возможно, и он в этих же застенках и тоже размышляет, как быть и что предпринять. Какова-то судьба Ольги Сергеевны, жива ли? Господи, какой кошмар! Уж скорей бы все это кончилось! Эти бессонные ночи. Мама, родная мамочка! Где ты? Что думаешь обо мне? И знаешь ли, где я? Она так хотела повидаться с матерью, поговорить хоть минутки две-три и проститься, может быть, навсегда. Да, навсегда...
На следующий день к ней в камеру пришел Брунс, Надзиратель открыл ему дверь, и Брунс остановился у порога. Она приподняла голову, ждала, что он скажет. Потом дверь снова заскрипела: надзиратель внес табурет и поставил его в некотором отдалении от Настиной койки. Брунс сел, закинув ногу на ногу. «Что его принесло сюда? – подумала Настя.– Начнет, поди, уговаривать: дескать, признайся, раскаяние принесет свободу». Но разве может она открыть фашистам правду? Нет, нет, она будет таить эту святую правду до самого конца. Ничего она им не скажет, в том числе и Брунсу. Она смотрела на него и ждала. От Брунса пахло жасминовым одеколоном, и эти запахи очень остро воспринимались в затхлой и вонючей камере.
– Я пришел сюда,– наконец начал Брунс,– чтобы облегчить твое положение, Усачева. А положение твое серьезное. Вельнер подозревает тебя в шпионаже в пользу партизан. Если факты подтвердятся, тебя ждет неминуемая смерть.
«Значит, только подозревают.– Эта мысль обожгла. Сердце забилось сильно и тревожно.– Только подозревают. Значит, улик у них пока никаких нет». Она смотрела на Брунса, словно на избавителя, который принес ей такую обнадеживающую весточку. Значит, есть надежда и надо держаться, во что бы то ни стало держаться и свою причастность к партизанам отрицать.
– Я не боюсь смерти,– ответила Настя.– Что моя смерть? Избавление от мучительных пыток... Нет, Брунс, я не боюсь умереть.– Так она говорила ему, а на самом деле боялась умереть. Она хотела жить, очень хотела вырваться из этой тюрьмы.– Убьете меня, убьете еще несколько человек. Убьете сотни, тысячи... И от этого ничего уже не изменится. Решительно ничего!..
– Как это понять? – спросил Брунс.– Какой смысл в этих словах?
– Смысл простой.– Она посмотрела ему в глаза и добавила: – Ужели, Брунс, вы не разгадали значения этих слов?
– Прошу пояснений.
– Истина теперь очевидна,– спокойно продолжала она,– И она заключается вот в чем: Германия проиграла войну. Неужели не понимаете этого вы, Брунс?
Она говорила медленно и внятно. Сказала и спохватилась, что так сказала. Даже испугалась. Но сказала-то правду. И может быть, этой невинной правдой погубила себя. Ужель погубила?
– Ведь это правда, Брунс? – спросила она у фашиста, ибо хотела знать, что он скажет в ответ. Ведь должен же он что-то сказать.
И он сказал:
– Ты ошибаешься, Усачева. Вермахт силен, как никогда. В руках Германии почти вся Европа, обширные территории вашей страны. И временное поражение немецкой армии еще ни о чем не говорит. Мы сильны, Усачева, очень сильны!
– Германия проиграла битву под Сталинградом. Теперь – под Курском и в других местах.
– Да, да, проиграла! – начал сердиться он,– Но это временные поражения. Вот-вот наступит перелом в войне, и мы опять начнем наступать.
– Нет, этого уже никогда не будет,– убежденно проговорила Настя.– Вы обречены, Брунс. Понимаете? Обречены!
Она ликовала от сознания, что сказала правду в лицо врагу и этой своей правдой одержала маленькую победу. Это была ее личная победа над врагом, и она гордилась собой в эти минуты.
– Вы обречены,– сказала она еще раз твердо и гордо приподняла голову, смотрела на Брунса открыто, с вызовом.
– И ты способствовала этому. Значит, Вельнер прав?
– Нет, я не шпионка! – громко сказала она,– И не лазутчица. Я просто патриотка своей страны. Рядовая патриотка, каких миллионы. Я просто люблю свою Родину. Вот и все, господин Брунс.
– А почему пошла к нам переводчицей? С какой целью?
– Цель одна. Только одна.
– Ив чем заключалась эта цель?
– Надо было жить...
– Только это? Или с целью борьбы?
– В какой-то степени,– согласилась она.– Я и сейчас веду борьбу. Вот разговариваю с вами – и это тоже одно из проявлений борьбы. Весь народ поднялся на борьбу. И разве могла я остаться в стороне, отойти от народа? Или пойти против него? Стать изменницей?
– Ах, вот как! Ты большевичка, Усачева! Враг немецкой нации. А раз враг – должна умереть. Я мог спасти тебе жизнь. Но теперь не могу. Не могу. Ты должна понять. Немецкая армия принесла бы тебе беспечную жизнь в цивилизованном обществе. Ах, Настя, Настя! Ведь ты почти немка. В Германии никто бы не подумал, что ты русская. Тебя ожидало счастье, если бы было все иначе.
Настя засмеялась в ответ. Было чудовищно слышать: фашизм принес бы ей счастье. Нет, такого счастья она не желает. Видеть, как убивают ни в чем не повинных людей, ее соотечественников, когда человека низводят до положения безропотного животного, когда оскверняют твою землю, топчут кованым каблуком все честное и святое, и быть счастливой?.. Настя глядела широко раскрытыми глазами на врага, смотрела смело, можно сказать, дерзко, и он заметил в этом отчаянном блеске ее глаз не обреченность, а торжество радости, и он не мог понять, чему она радуется.
– Ты умрешь, несчастная! – произнес он злобно и поднялся, откинув ногой в сторону табурет.– И уже ничто тебя не спасет. Никто!
– Умрешь и ты, Брунс,– ответила она смело, голосом победителя.– Умрешь! И я вижу, как ты боишься смерти.
В последнее мгновение она поняла, что не нужно было говорить этих слов, слишком опасных для нее. Ведь все же была надежда, совсем маленькая надежда остаться целой, хотя и в неволе, но все же живой. Теперь этот маленький шанс был почти уничтожен, она сама порвала ту единственную нить, которая еще могла принести спасение.
Брунс стоял и смотрел на нее с презрительным превосходством человека, облеченного властью над другим человеком, кожа на гладко выбритых скулах слегка рябила от волнения, и губы вздрагивали и сжимались от ярости, он чуть покусывал эти тонкие бескровные губы.
– Я хотел спасти тебя,– произнес он внятно и тихо, почти спокойно,– но теперь уже этого сделать почти невозможно. О, я не завидую тебе!
– Пытать будут? – спросила она.
– Да, мы умеем это делать,– и он усмехнулся. В этой язвительном ухмылке она заметила нечто злобное, звериное и отвратительное.
– Вы умеете,– повторила она его слова.– Я понимаю – умеете. Умеешь и ты, Брунс. Все вы умеете убивать, но возмездие неотвратимо. Берегитесь, Брунс!
Она заметила, как он вздрогнул. Брунс торопливо вышел. Гулко хлопнула дверь, прогремели ключи тюремщика, а она сидела на койке и глядела на дверь. И вдруг почувствовала за спиною холодок смерти, внезапно нахлынула жалость к себе. Она уткнулась лицом в подушку и безутешно заплакала.
На другой день ее снова привели на допрос. Вельнер метнул на нее злобный взгляд, и она поняла, что действительно будут пытать.
– С кем связана? Кому передавала данные? – начал сыпать вопросы фашист.
– Ничего не знаю,– отвечала она тихо.
– На этот раз все же развяжешь свой поганый язык! – заорал он хриплым голосом,– Заговоришь меня, большевистская лазутчица!
Он подошел к ней и, отфыркиваясь слюной, прохрипел:
– Ну, говори! С кем встречалась? Где?
– Никаких у меня явок не было.
– Ах, не было! – Он ударил ее ладонью по лицу. Она не почувствовала сильной боли – просто загорелась щека, он ударил еще сильней, и она чуть не упала.– Я заставлю все сказать! Решительно все!
Она не отвечала. Вельнер задыхался, голова его тряслась, как у сумасшедшего.
– Мерзкая тварь! – заорал он еще громче.– Граубе, сюда!
Сподручный верзила Граубе схватил Настю за шиворот и повалил на пол. Она почувствовала тупую боль в боках. Они пинали ее носками, и с каждым ударом что-то булькало и отрывалось у нее внутри. «Только бы не закричать,– пронеслось в голове,– только бы продержаться». Она сжимала зубы, удары сыпались один за другим, казалось, что тело разламывается на части. Потом поняла – бить перестали, но сознание чуть было не покинуло ее. Настя провела рукой по волосам и почувствовала на пальцах что-то липкое и скользкое, поднесла ладонь к глазам и увидела темно-алую кровь.
– Ну, теперь будешь говорить? – уже более спокойно спросил Вельнер.– С кем связана?
Она замотала головой и ничего не сказала, лежала на полу и не могла подняться.
– Увести,– услышала хриплый голос Вельнера. Он стоял тут же, рядом, широко расставив ноги,– перед ее глазами блестели голенища хромовых сапог. Фашист круто повернулся, отошел к столу.
В следующее мгновение ее подхватили и потащили. Шум торопливых шагов, щелчок замка, скрежет открываемой двери – все звуки и движения причиняли мучительную боль. Конвоиры бросили ее на пол возле кровати. Подняться и лечь на койку она уже не могла. Так и лежала, не шелохнувшись, до самого вечера и очнулась, когда тюремщик принес баланду и поставил миску на столик.
– Кто вы такой? – спросила Настя.
– Не узнала?
Она вгляделась внимательней и признала, что это он, немец, надзиратель. Всегда бессловесный, словно от рождения немой, он приходил в одно и то же время, приносил миску с бурдой, ставил на столик и молча уходил. А сегодня вот заговорил – то ли из жалости, то ли из любопытства. Она не поверила, что он
жалеет ее, не могла поверить. А он стоял и смотрел на нее.
– Это вы? – спросила Настя.– Как вас звать?
– Арно Кнооп,– ответил он. – Мне не положено разговаривать с вами, но мне жаль вас, и я спросил.
«Жалко, пожалел надзиратель, этот пожилой немец, – пронеслось в голове.– Значит, в нем человеческое сострадание не угасло, хотя и стережет узников».
– Вы не виноваты, Арно,– сказала она.– За вами нет никакой вины. Это они там проутюжили меня.
Он тихо сказал:
– Они нехорошие люди, очень нехорошие. Потерпите немного. Может, все обойдется. Может, смерть и минует вас.
– Спасибо, Арно. Большое спасибо.
Он еще постоял с минуту, потом вышел.
Поговорила с человеком, с этим пожилым тюремщиком, и боль, казалось, отступила. Ясность мысли возвратилась. Она начала размышлять: кто же он, немец Арно Кнооп? Фашист? Кажется, нет. Он просто человек, и душа у этого немца, видать, добрая. Не по своей воле он поставлен здесь, и, может быть, тяжко и больно ему нести службу в тюрьме. Может, мучает совесть, да некуда деться.
Вот ушел он, этот немец по имени Арно, и она опять осталась наедине с собой, со своими мыслями, со своей бедой, со своей болью. «Да, это конец,– думала она,– еще два-три таких допроса, и они доконают, добьют до полусмерти, изувечат, а потом прикончат. Пощады не будет. И все же надо молчать. Молчать и ничего не говорить, держаться из последних сил...»
Так она решила, поднялась на колени и села. Ощупала голову, плечи, бока, ноги – все болело нудной и тягучей болью. «Почему так устроен мир? – думала она.– Почему люди становятся непримиримыми врагами? Убивают друг друга. И все ради корысти, ради господства одних людей над другими. Ведь человек рожден для дружбы, любви и счастья...»
Она долго не могла уснуть. Закрывала глаза, и в полусне виделось пожарище там, в родной деревне. Горит сарай, в огонь бросают Максимова. Плачут женщины, старики, дети...
Настя открывает глаза, сердце замирает то ли от страха, то ли еще от чего... Перед глазами опять обшарпанные стены одиночки, черный от копоти потолок и маленькое зарешеченное оконце, сквозь мутные стекла которого еле пробиваются лучи. Значит, где-то там, на воле, солнце начинает свое восхождение, обрызгивая исковерканную землю снопами жизни и надежды. С огромным усилием воли поднялась она, подошла к оконцу – глаза ослепило золото лучей. Не хотелось погибать в этой сырой и полутемной камере, так не хотелось! Побывать бы в просторах полей и лугов, в лесных рощах, поговорить бы с добрыми людьми.
Через два дня ее опять вызвали на допрос. Вельнер задавал одни и те же вопросы, она отвечала односложно: «Нет, нет, ничего не знаю». Упорство узницы настолько взбесило фашиста, что он опять пустил в ход кулаки. Настя лежала на полу, глядела на палача ненавидящими глазами. Он снова начал кричать:
– Русская тварь! На огне спалить надо!.. На медленном огне, чтобы развязался поганый язык! Не понимаю я этих русских! Не понимаю!..
Настю обливали холодной водой. Очнувшись, шептала одно и то же: «Ничего не знаю. Решительно ничего». Тело ее, покрытое синяками, нудно гудело, будто отваливалось от костей, и казалось совершенно чужим. Она глядела на Вельнера, на главного своего мучителя, с таким презрением и ненавистью, что он, заметив это, отшатнулся, подошел к окну и что-то бормотал невнятно и бессвязно. Она не могла понять, о чем он говорил.
– Признавайся, паршивая девка, где прятали орудие и взрывчатку?
Она молчала, а он стоял, слегка наклонившись. Все было противно в нем: и черный мундир с блестящим металлическим знаком на груди, где изображены череп и скрещенные кости, и особенно ненавистна повязка на рукаве со свастикой – символом варварства и насилия.
Она упорно молчала. Ее опять били до полусмерти. Затем отлеживалась в одиночке. Вызывали снова. Снова пытали. Но так ничего она и не сказала, словно бы замерла.
И вдруг перестали вызывать на допросы. Она лежала на тюфяке в ожидании развязки. Время шло, тягучее, томительное, почти мертвое. Она все еще была жива, с безразличием съедала брюквенную бурду и кусочек хлеба и снова ложилась, ждала конца.
Она не замечала тюремщика Арно, точно он не существовал. Приходил, уходил, приносил еду. Однажды все же глаза их встретились, и Настя приподнялась и спросила:
– Значит, скоро?
– О чем вы спрашиваете? – спросил немец.
– Они должны меня расстрелять или повесить, но почему-то медлят. Может, Арно, вы знаете почему? Я вижу по глазам, что вы уже знаете.
– Нет, я ничего не знаю,– сказал он спокойно.– Возможно, вас переведут в другую камеру, в общую.
– Нет, они должны меня уничтожить. Об этом мне говорил Вельнер. Он слов на ветер не бросает.
– Вельнера перевели в другой город.
– Перевели? – Всем своим больным телом она подалась вперед.– Когда это случилось?
– Дней десять назад. Он в чем-то провинился.
Настя вздохнула с облегчением:
– Спасибо, Арно. Может быть, счастье улыбнется и мне.
Он кивнул головой.
Глава тринадцатая
О Насте словно бы забыли, не вызывали, а затем перевели в общую камеру. Оказавшись в столь необычном положении, она стала присматриваться: стены черные, местами потрескалась штукатурка, окно было маленьким, тусклым и в дальние углы не доходили снопики света. Кто там был, Настя не могла разглядеть сразу. Сидела, прислушивалась. Из дальнего угла пропищал слабый голос:
– Что ль, новенькая? Чья будешь-то?
Настя пристальней стала всматриваться и заметила в отдалении на полу
сидящую женщину. Молода она была или стара – не могла определить: мешала
полутьма.
– Я из одиночки,– ответила она и подвинулась на голос, туда, в дальний угол.
– Из одиночки? – спросила женщина.– А за что посадили?
– Не знаю за что. Допрашивали. Избивали. А теперь вот к вам.
Она заметила, что женщина внимательно приглядывается к ней. В глазах блеснул недобрый огонек.
– Это не ты у них переводчицей работала? – Вопрос был поставлен ребром, очень неприятный вопрос, и Настя не знала, как на него ответить. Промолчать и ничего не сказать в ответ она тоже не могла. И она сказала:
– Вот работала на них, а все равно посадили…
– Не угодила, видать?
– А разве угодишь этим иродам? Дорожка скользкая – и не знаешь, где споткнешься.
– А меня засадили ни за что ни про что. Облава была. Сгребали людей – всех под одну гребенку. Ну, и меня вместе со всеми.
Только теперь, в сутемени приоглядевшись, Настя заметила, что женщина была пожилой – лицо морщинистое и на висках седина.
– У меня дети взрослые,– начала пояснять женщина,– два сына и две дочки. Отбились от дому. Один сын кадровую служил перед войной. Не знаю, жив ли... А тот, что помоложе, в леса утек. Знать, к партизанам. И дочка туда подалась. Муж Иван – тоже. А я вот одна мыкаюсь. Схватили супостаты. За детей, видать, и отсидка. Вызывали, спрашивали, где да кто. А я отколь знаю? Что, я за ними поводырем хожу, за детьми-то?
Настя только сейчас вспомнила, что эту женщину вызывал на допрос Вельнер. Кажется, избивали ее раза два, но так ничего и не добились.
– Звать меня Матреной. Из Свелюжи я, Свидеркина. Может, слышала?








