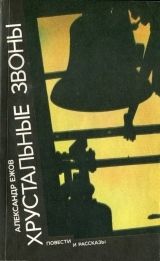
Текст книги "Преодолей себя"
Автор книги: Александр Ежов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
– В больницу надо,– сказала она, – В больницу скорей!
Не хотелось рожать здесь, на глазах у мужа. Она должна была родить в другом месте. Только не здесь…
– Вези в больницу, Федор,– уже спокойней сказала она. – Запрягай лошадь и вези побыстрей...
Уцепившись стылыми пальцами за полу его шинели, она поднялась. Как хотела умереть в эту минуту! Как хотела исчезнуть, уснуть и не проснуться!
– Дойдешь ли? – забеспокоился он. Снова начал упрекать ее: – Зачем пошла? Для чего?
Дома мать раздела, уложила в постель. Федор побежал в правление, но председателя не оказалось. В небольшой комнатушке сидел счетовод Макарыч, дымил самосадом.
– Федя! Федя! – закричал Макарыч. – Объявился, ёшкин ты шкворень!
Федор был бледен, и Макарыч сразу осекся, начал расспрашивать:
– Что с тобой, Федор? На тебе лица нет...
– Беда, Макарыч. Беда... – Федор еле выговаривал слова.
– С кем беда-то?
– С женой беда. Лошадь срочно нужна. Лошадь!
Макарыч оторопело снял очки, осоловело глядел на Федора. Затем сказал:
– Нет председателя. И лошадей нет. Все на лесозаготовки уехали. В колхозе всего три лошади. На всех трех и укатили, вместе с председателем. Вишь ли, лес нужен. Строиться надо. Каждое бревно на вес золота. А с Настей-то что?
– Под лед провалилась. За утками пошла, чуть не утонула.
– Слава богу, жива. В избе отогреется. Отойдет. Баньку истопи, веничком пропарь. И хворь как рукой снимет.
Макарыч долго ему объяснял, как лечить от простуды. Федор слушал, потом махнул
культяпкой и заторопился к выходу.
Настя лежала и охала, глядела на Федора оловянными глазами, просила, чтоб отвез. А на чем повезешь? Хоть сам впрягайся. Он залез на чердак, разыскал сани-самоделки и решил все же Настю отвезти. Теща закутала ее в тулуп, усадили в салазки, и Федор, впрягшись словно лошадь, рванулся по рыхлому снегу, еще никем не обкатанному, в село Ивановское, где была сельская больница.
– Работает ли больница-то? – спросил он у жены. – Может, сгорела при фашистах?
– Больницу открыли месяц назад,– проговорила Настя из-под тулупа и почувствовала, что у нее начались сильные схватки. Она собрала всю свою волю, сжалась в комок: только бы не закричать, доехать до больницы.
Снег слегка таял. Сначала Федор тащил санки без особого труда, они скользили свободно и на спусках чуть ли не сами догоняли его. Он торопился и все время задавал себе один и тот же вопрос: чем она заболела? Может, опасное что? Он думал об этом и робел и почти бежал, натягивая лямки саней. Идти было все тяжелей и тяжелей. На третьем километре оглянулся: на санях безжизненно громоздилось из кучи одежд что-то бесформенное и неподвижное, не похожее на человека. «А что, если умерла она?» И он с опаской подошел к саням, осторожно отвернул уцелевшими пальцами правой руки ворот тулупа и через щелочку увидел слегка припухлые губы, заострившийся нос и полузакрытые глаза жены.
– Настя! – крикнул он и затаил дыхание. – Настенька, жива?
Она открыла глаза, испуганно посмотрела на него, прошептала:
– Скорей бы... Федя, скорей!
– Сейчас довезу, сейчас.– И он снова впрягся в санки, но почувствовал, что сильно устал.
Дул встречный ветер, повалил снег. Федор вдыхал горьковатый запах мокрого снега, облизывал губы, иногда култышкой смахивал снежинки со лба и тянул лямку, точно бурлак бечеву. Все чаще останавливался, переводя дух, и глядел вдаль, где сквозь снежную пелену виднелись дымки над крышами. Последние две сотни метров показались ему особенно тяжелыми. Отдыхал через каждые две-три минуты и снова шел. Раза четыре падал. Последний раз упал на спуске в ручей, у самого села. Когда поскользнулся и со всего размаху сел, санки больно ударили ему в спину. Он вскрикнул от боли и сразу не мог подняться. Отдышавшись, встал, раскорячив ноги, повернулся лицом к санкам и крикнул:
– Приехали, Настя!
Она отвернула ворот тулупа и посмотрела на него, словно затравленный зверек. А он стоял и глядел нее, радуясь, что довез.
Она позвала его:
– Федя, подойди... ко мне поближе...
Он подошел.
– Спасибо, Феденька! Спасибо!
– За что спасибо-то, Настя? Ведь я люблю тебя, дорогая! Очень люблю!
Она молчала, не знала, как ему ответить. Ведь он так любит ее. Достойна ли она этой любви? Она, изменившая ему. А он, Федя, святой: на все готов ради нее. На все!
– Ты добрый, хороший, Федя. А я... – она договорила, не хватило мужества сказать правду. Горька была эта правда! Страшно горька!
Он уже начал догадываться о чем-то неладном, но жалость к Насте, сострадание, привязанность к ней, любовь к ней – все это чувствовал в себе Федор и готов был простить все, в чем бы ни была она виновата.
– Ладно, не беспокойся,– сказал он тихо, наклонился и поцеловал в горячий лоб. – Все будет хорошо, родная. Все хорошо.
Он снова впрягся и единым махом вынес санки к больнице. И только у крыльца почувствовал, как сильно устал. Стоял, пошатываясь, и уже не в силах был подняться по ступенькам. Отдышавшись, крикнул:
– Эй, люди, где вы?!
Его услышали. Женщины в белых халатах выбежали на улицу, подхватили Настю под руки и повели в больницу. Он видел, как Настя поднималась по лестнице, еле переставляя ноги, тяжелая, неуклюжая в овчинном тулупе. Он хотел было помочь женщинам, но почему-то остался стоять и, когда жена скрылась за дверью, двинулся следом за ней.
Настю увели в приемный покой, а он ждал в коридоре, сидя на скамейке. Врач вышел минут через десять. Это был маленький старичок, остроносый и с седенькими усами. Посмотрев на Федора улыбающимися глазками, спросил:
– Привез сам, значит?
– Сам.
– Ишь прыткий какой!
– Жена! Что с ней? – спросил Федор.
– Не задержим,– ответил доктор. – Приезжай через недельку. Повезешь обратно.
– Я приеду. Обязательно приеду.
– Ну, вот так-то.
Федор подхватил салазки и двинулся в обратный путь.
Глава двадцать пятая
Обратно он не шел, а будто бы летел на крыльях: пустые санки катились легко, Федор даже не ощущал их. Шел и думал о своей судьбе, думал о Насте – да, пожалуй, он больше всего думал о ней. Только бы обошлось все благополучно, только бы поправилась. И он обязательно привезет ее обратно на этих же санках, этой же дорогой. Привезет домой...
Вечером решил навестить Гешку Блинова. Пришел к Блиновым как раз в тот момент, когда они садились ужинать.
– Федюха! – Гешка загремел костылями, вышел из-за стола, обнял Федора, костыли с грохотом упали на пол. – Эх ты, маткин берег! Вернулся, пропащий...
– Вернулся, да вот похуже тебя. – И он протянул Гешке свои руки, вернее, то, что осталось от рук.
Гешка грузно опустился на табурет, пучеглазо уставился на Федора.
– Да, с такими руками житье поганое,– промямлил он наконец. – Но ведь жив остался. А я думал, что ты уже на том свете, в раю у самого господа. И Насте сообщил, что тебя нет в живых. Документы твои ей передал.
– Вот живой, как видишь. И ты живой. Инвалиды Отечественной...
– А пенсию какую дали? – спросил Блинов.
Федор ответил.
– Не густо, дружок. И подзаработать к пенсии не так просто. А я живу. – Гешка засмеялся, показав желтые зубы, подмигнул жене: – Марья, принеси-ка бутылочку первача. Не мешает и выпить ради такой встречи.
Марья моментально исчезла. Гешка помог Федору снять шинель, повесил на гвоздь, спросил:
– Когда приехал?
– Ночью. А утром Настю отвез в больницу. Заболела она. Отвез на салазках.
На Гешкином лице застыло удивление.
– Это бабу-то? Настю? На салазках... Сам. Я бы ни за что не повез.
– Да ты и не смог бы с одной-то ногой. А у меня ноги все ж целы.
– Хоть бы и ноги были, все равно б не повез.
Марья принесла бутылку, плотно заткнутую пробкой, поставила на стол.
– И стаканы подавай,– приказал Гешка, вынимая зубами пробку. Потом стал разливать мутноватую жидкость. Поднял стакан: – Ну что ж, со встречей!
Федор хотел было отказаться, но счел неудобным, приподнял рогульками стакан и вдруг выронил. Самогонка разлилась по столу, потекла на пол.
– Эх ты, Проня! – начал попрекать Федора Блинов. – Что дитя малое – и стакан удержать не можешь. А как же с бабой ты? Пропадешь!
Федор смотрел на Гешку растерянно, не знал, что сказать. Гешка быстро, почти в два глотка, выпил свой стакан, смачно чихнул, обтер кулаком губы, затряс головой.
– Хороша, чертовка! Хороша! – прокричал в ухо гостю. Налил полный стакан и поднес к губам Федора: – А ну-ка, пей!
В ноздри Федора пахнуло сивушным. Он круто отвернул лицо, но Гешка сноровисто подхватил левой рукой под затылок, а правой начал вливать самогон в раскрытый Федоров рот. Гость сопротивлялся. Вонючая жидкость переливалась через край стакана, стекала за ворот гимнастерки, неприятно щекотала кожу. Федор решительно затряс головой.
– Не могу, не могу так. Давай лучше сам. Наливай.
Гешка долил в стакан.
– Сможешь ли сам-то?
– Смогу. – Он снова зажал рогульками стакан, придерживая его левой культяпкой. Поднес к губам. Пил долго, мелкими глотками, локти судорожно вздрагивали, и шея напряглась и покраснела, взбугрилась жилами вен. Выпив, чуть не выронил пустой стакан
из культяпок.
– Ишь ты, едрена корень! – Гешка засмеялся.– Вино пить можешь, значит, толк будет, не пропадешь.
Он ловко поддел вилкой огуречный кругляш и подал его Федору:
– Закусывай.
Кормил Федора квашеной капустой и огурцами. Капуста похрустывала на зубах, и
неприятное ощущение сивушности моментально исчезло. Голова слегка закружилась. Одну порцию еды Гешка бросал вилкой в рот себе, другую – Федору.
– Может, повторим? – предложил он гостю и, не ожидая согласия, налил по второму стакану.
От второй порции Федор изрядно захмелел. Чувствовалась усталость, нервная перегрузка давала о себе знать. По всему телу разлилась размягчающая теплота. Он сидел и молчал, а Гешка без умолку рассказывал:
– Братец ты мой, я в плен попал. Там, в лазарете немецком, и ногу оттяпали. По самое некуда. Потом меня в лагерь спихнули. Ну, по лагерям и болтался. Работать не работал – нахлебником был у них. Но хлеба-то лагерные, сам знаешь, не сладки – остались кожа да
кости. И взяла меня к себе одна бабешка: выклянчила – и отпустили. Пожил я у ней с полгодика, да и домой подался. И вот, как видишь, дома, у жены под крылышком. И, когда освободили нашу деревню, пенсию схлопотал, получаю ерунду пустяковую, а жить надо. Съездил в Иваново, ситцевый город такой есть. Раздобыл ситцу метров с полсотни – и на Кавказ махнул. Там все на сухофрукты обменял – и обратно в Иваново. Дорога бесплатная. Туда – ситец, обратно – фрукты, лавровый лист. Бизнес прибыльный, и житуха – во! – Гешка поднял прокуренный палец, прищелкнул языком и, свирепо посмотрев на жену, приказал: – Неси еще заветную!
– Может, хватит? – предложил Федор, но Мария вышла на кухню.
– Принесет,– не унимался Гешка. – Гульнем как следует, так, чтоб чертям было тошно. Гульнем?
Федор молчал. В голове крутились хмельные мысли. Он хотел сказать Гешке что-то важное и значительное, но не мог. Хотел спросить про жену, что и как. Мысли обрывались, путались. Он слушал Гешку, а думал о другом. Настя преподнесла загадку. Он хотел забыть обо всем. И тоже не мог.
А Гешка между тем продолжал без умолку:
– Не пропадешь и ты, Федюха! Без рук оно, конечно, плохо, но деньжищи заграбастывать и культяпками можно. Да еще какие! Гляди, у тя подвесок-то на груди – иконостас настоящий, хоть молись. Три ордена, две медали. – Он провел пальцами по груди Федора. Ордена и медали зазвенели. – Звон-то какой! Малиновый. С таким иконостасом озолотиться можно.
Он хохотнул заливисто, взмахнул руками, словно хищная птица крыльями, шлепнул по Федоровой спине ладонью:
– Со мной, брат, не пропадешь. Я все ходы и выходы знаю. Давай подадимся на железку, в поездах будем разъезжать. Я шапку понесу, а ты: «Подайте, гражданы, христа ради, инвалиду...» И рублики, а то и трешницы посыпятся дождиком. Ты думаешь, стыдно? Это споначалу, а потом и стыд улетучится. А народ у нас добрый, жалостный. Особливо матери, у которых сыновья на фронте погибли, или вдовушки-вековухи. Глянет иная на твои култышки, на ордена – слезьми обольется, глядишь, не то что трешницу, пятишник подаст. Одна – рубль, другая – три, а за день-то, гляди, сколько наберешь.
– Нет, я на это не способен, Геша.– Федор хмельно тряс головой, стыдливо морщился. – Нет, нет.
– За Настину юбку держаться надумал? Ну, дерись, держись. Посмотрим, что у тя получится.
– Люблю ее, Геша. Сильно люблю.
– Люби, люби. Да вот она тебя, видать, разлюбила.
Федор насторожился. К чему это клонит Блинов? Что он знает?
– Куда ты ей такой нужен? – продолжал Гешка.– Увечный, безрукий? Поди, другого кавалера завела?
– Кого ж? Скажи, если знаешь.
– И скажу. В партизанах у ней там немец какой-то был.
– Это ты зря, Геннадий. Какие в партизанах немцы?
– Были, говорят, и немцы. Те, что супротив Гитлера... А?
– Это уж дудки. Не верю я этим побасенкам. Не верю!
– А кто ей крыльцо ладил? Знаешь об этом?
– Откуда ж мне знать?
– Вот и наматывай на ус. – Гешка загоготал, запустил пятерню в рыжие волосы. – Есть тут один плотник такой. В партизанах был, но сердечко у него начало шалить, когда отряду туго было. Так вот он по женской части настоящий мастак. Эй, Марья,– позвал Гешка жену,– расскажи-ка рогоносцу, как Костя Сапрыкин красивым вдовушкам головы вскруживал.
Марья показалась из-за двери, зыкнула на мужа:
– Нашел, о чем спрашивать! Иди у самого и спроси. А Федора не мучай. У него и так на душе кошки скребут. Не терзай человека!
– Ну что, давай договаривай, чтоб ясно было,– потребовал Федор и строго посмотрел на Блинова.
На Гешкином лице расплылась неприятная улыбка. Глаза, серые и пронзительные, в каком-то сатанинском прищуре, тоже смеялись.
– Бабе поверил? – выдавил два слова Гешка и злобно выбросил плевок в дальний угол. Помолчал и добавил:– Живи, как хошь,– твое дело. Но смотри, как бы она, твоя красотка, тебе подарочек не принесла. Люди-то что говорят?
– А что? – насторожился Федор.
– Поживешь – узнаешь.
Беспокойно стало на душе у Федора. Он хотел что-то сказать Гешке, сказать о том, что с Настей все уладил, что простил ее,– хотел сказать, но ничего так и не сказал. Гешкины слова вертелись в голове, он не мог избавиться от навязчивых раздумий, почти не слушал Блинова, механически, по инерции поддакивал ему, во всем соглашался. Пил самогон, пьянел. Сидели они допоздна, а как легли спать – потом не мог вспомнить.
Федор проснулся рано и не сразу понял, где находится. Лежал на полу, под голову была подброшена подушка. Голова разламывалась. Во рту было гадко, и хотелось пить. Федор смотрел в потолок, оклеенный старыми, уже пожелтевшими от времени газетами, и в душе проклинал себя за вчерашнюю выпивку. «Нет, так не годится,– думал он,– недолго и под откос пойти. А скатишься, упадешь – подняться трудно будет. Да и вообще можешь не подняться – пропадешь ни за что А узнала бы Настя, что напился до такого скотского состояния, что подумала бы?» Воспоминания о вчерашнем дне возвращались отрывочно, спутанно и непоследовательно. Вспомнил, что Гешка непочтительно отзывался о женщинах, что-то нехорошее говорил о Насте. А что? Припомнить Федор не мог. Виновата ли Настя? Возможно. Она и сама призналась в своей вине. А в чем виновата – Федор так толком и не мог понять. Может, виноват он сам. Когда лежал в госпитале, долго не писал жене писем. Боялся. Написал всего два письма. Не исключено, что не дошли до адресата. А может быть, и получила, а теперь говорит, что не получала, чтоб себя оправдать. А если не получила? Решила, что он, Федор, умер, пропал безвестно, а раз сгинул – ждать некого. И подвернулся другой. Так кто же? Кто это мог быть?! Федор, как ни напрягал память, вспомнить не мог. Ведь Гешка намекал, что кто-то крыльцо чинил. Ага, теперь вспомнил – Костя Сапрыкин. Костя, Костя... Это тот Костя, что живет в Ивановском, мальчишка желторотый? Теперь, поди, подрос. Нет, Костя тут ни при чем. Не могла же Настя с каким-то сопляком любовь крутить. Не могла...
Так он лежал на полу и думал. Было тихо. Но вот скрипнули половицы. Федор насторожился. В боковушку, где он лежал, заглянула Мария. И только теперь он понял, что ночевал в чужом доме, у Блиновых.
– Не спишь? – спросила Мария.
– Да вот, проснулся. Геннадий где?
– Сидит на кухне, тебя поджидает.
Федор встал. Тело разламывало. В пальцы, которых на самом деле не было, впивались
тысячи мельчайших иголочек, он хотел стряхнуть эту боль, избавиться от нее – и не мог. Понял – кусается война.
Гешка сидел за столом, мутные глаза бесцельно блуждали. Казалось, что был зол на то, что ничего не осталось на опохмелку. Загромыхал костылями и сиплым, пропойным голосом прокричал:
– Маруха! Где ты? Холера персиянская...
– Что ругаешься? – одернул его Федор и сел на скамейку.
– Это я так, любя.
Федора передернуло. Было неприятно слушать Гешкины ругательства,– он чувствовал,
что назревает скандал, и хотел было подняться и уйти, но Гешка вцепился пятерней в плечо и усадил на место:
– Ты, друг, не уходи! Без тебя – пропал. Когда гость в доме, она мягче, баба-то. Самогон у нее упрятан – сам черт не найдет.
Мария не показывалась. А когда вошла, Гешка перестал ругаться, ласково поглядел на жену:
– Машенька, голубка! Пожалей нас, грешных, найди бутылочку. Ради гостя дорогого...
– Только что ради гостя. Для тебя бы – ни за что! Но самогонка-то вся кончилась. Откуда возьму?
– Есть еще бутылка. В подызбицу спрятала... Поищи, пошуруй.
Долго уламывал жену, обещал достать на костюм хороший отрез, каялся, умолял. Мария, казалось, была непреклонна. Молча вышла из кухни, спустилась в подвал. Гешка сразу повеселел:
– Она, баба-то, у меня добрая. Только ключик подобрать к ней надо. Иногда и поругаешь на пользу, а вдругорядь словно бисер по бархату перед ней рассыплешься. Упряма чертовка! Тряпки любит. Привезешь что поцветастей – глаза разгорятся. Вот так и живу...
Из-под пола показалась Мария. Искрометно взглянула на мужа:
– Что язык распустил?
– Да ничего,– заулыбался Гешка,– хвалю тебя, Машута, не нахвалюсь.
– Знаю, как ты хвалишь и кого хвалишь,– и поставила бутылку на стол. – Последняя. Больше не проси, ничего не будет.
– Эге! – Гешка погрозил ей пальцем. – Последнюю завтра достанешь, а сегодня день только начался. Принесешь еще.
Он стал разливать по стаканам. Рука дрожала – и в Федоров стакан он перелил, самогон на столе образовал мутноватую лужицу. Гешка сноровисто слизнул ее языком, слизнул вприхлеб.
– Чтоб не пропадало. Как-никак добро. Давай, дружок, по махонькой.
– Не буду,– решительно отказался Федор.
Гешка поставил свой стакан на стол, с удивлением поглядел на гостя.
– Да ты что, с больной головой поедешь?
– Не буду – и баста!
Федор решительно встал, попросил холодной воды, долго и жадно пил маленькими глотками. Выпил до дна, поблагодарил Марию. Процедил сквозь зубы:
– Пойду.
– Куда пойдешь-то? – спросил Гешка.
– В больницу пойду.
– Это к ней, к Насте?
– К ней.
– Ну что ж, иди. Может, подарок она преподнесла. Иди, иди.
– Какой такой подарок?
– Ступай. Сам узнаешь.
Глава двадцать шестая
Федор вышел от Блиновых – точно колючим еловым веником исхлестали его по спине. Он так и не мог понять, на что намекал Блинов, но явно намекал на что-то нехорошее и, может быть, непоправимое. Подарок. Какой же подарок? Он, Федор, не ждет никаких подарков.
Не заходя к теще, Федор вышел на большак и споро зашагал по дороге. Решил пойти в больницу, узнать, как там она, Настя. Слегка морозило. Солнце бросал косые лучи на снег. На ослепительно белой поверхности полей сверкали мириады блесток, Федор смотрел на эти светлячки, шел и размышлял, вспоминал прошлое, пытался отогнать мрачные мысли...
Вдали за отвалами полей синел лес – холодный и, видать, неуютный в эту пору. И вспомнил Федор летний лес. Он любил этот лес, привыкнув с детства к его молчаливым и задумчивым дебрям, к его дремучему вековому шепоту, когда легкий ветер слегка колышет макушки деревьев. Каждая тропинка в этих лесах ему знакома. Он знал и любил тенистые полянки, просвеченные солнцем вырубки, где наливается соком земляника, где нежно зреет малина – тронь ветку, и сладкие ягоды начнут падать на теплую землю. А еловые боры, где полным-полно черники – ягоды синие, сочные, вкусные. А там, где редколесный сосняк, притаился на мшистых кочках брусничник с мелкими листьями, блестящими, точно отполированными, и гроздьями красных и розовых ягод.
Он вспомнил, как ходил за брусникой с деревенскими девчатами. Год был урожайный, и ягоды собирались спорко: каких-нибудь полтора часа – и ведро полным-полнехонько. Настя набрала быстрее всех, но споткнулась о кочку, лукошко у нее выпало из рук и брусника просыпалась. Федор подбежал, помог подобрать ягоды, добавил из своего ведра.
И ранней весной он пошел в этот же лес, на те же брусничные места. На мшистых кочках веточки были темно-зеленые, словно и не было зимы. И ягоды встречались уже не гроздьями, а одинокими бусинками – иные бледно-красные, другие дымчато-белые. Положишь ягодку в рот – сама растает кисловато-сладким зимним настоем. До чего же вкусна! Федор набрал туесок зимних ягод – и брусники, и клюквы,– и все это для Насти. Только для нее...
И сейчас вот спешит он в больницу, точно неведомая сила подгоняет его, ветерок подталкивает в спину, и молодой снежок скрипит под ногами, как бы поторапливает: иди, иди, она ждет тебя... Иди...
А ждет ли? В приемном покое он долго сидел на скамейке. Успокоившись, приоткрыл дверь в соседнюю комнату. А вдруг там Настя! Но ее не было. За столиком сидела незнакомая женщина в белом халате. Она сразу заметила Федора, спросила:
– Вы к кому?
– Извините,– робко проговорил Федор. – Я хотел бы узнать о здоровье жены. Фамилия – Усачева, Анастасия Усачева.
– Усачева? Ах да, Усачева. Сына родила Усачева.
– Сына? – Федор попятился и зашатался. Эта новость ошеломила его настолько, что
и вымолвил только единственное слово. Больше ничего не мог сказать. Стоял бледный, потерянный, онемевший.
– Что с вами? – спросила встревоженно сестра,– Жена здорова, и ребенок хорошенький.
Она подумала, что он от радости растерялся, а затем догадалась, что здесь что-то другое, непонятное.
Через некоторое время он пришел в себя и снова спросил:
– Родила?
– Да, родила. Роды нормальные, не беспокойтесь
– А могу повидать ее? – спросил и спохватился, что видеть он ее уже не может и не хочет, а спросил, просто не подумав.
– Нет, сейчас пока нельзя, – услышал будто бы издали приглушенный голос
женщины.
– Нельзя? – снова спросил он.
– Да, нельзя.
Федор махнул култышкой и повернулся к выходу. Сильно толкнул ногой в дверь – в комнату хлынул холодный воздух.
– Фу, ненормальный какой! – услышал позади себя голос сестры и быстро спустился по ступенькам. Пошел, слегка пошатываясь.
На улице все еще не мог понять, что же произошло на самом деле. Не верил в случившееся. Не хотел верить. Как же так? Настя родила. При живом-то муже! Сколько пересудов будет в Большом Городце! Вдруг ему захотелось уйти куда-нибудь подальше от людей. Уйти от позора в лес, однако и лес холодный, неприютный, чужой. Показалось, что и сам он никому не нужный, совсем лишний человек на этом белом свете. Настя, Настя! От кого же родила? С кем связала судьбу? Вспомнил о Сапрыкине. Это он чинил крыльцо. Значит, похаживал в гости. И Гешка Блинов об этом намекал. Сапрыкин, Сапрыкин... Этот парнишка как-то расплывчато возникал перед ним. Федор помнил его подростком, совсем еще зеленым, смазливым на лицо. Лет шестнадцати он его помнил, а сейчас, поди, настоящий парень. Надо бы повидать его, этого Сапрыкина. Обязательно повидать. Спросить у него кое о чем. И себя показать – что вот вернулся Федор Усачев. Жив. Пришел. Стал припоминать, где живут Сапрыкины. Оказалось – совсем недалеко от больницы, всего через два дома.
Сапрыкин колол дрова. Федор сначала и не узнал его – вроде бы он и не он. Подошел
поближе и убедился, что это был Сапрыкин. Костя заметно изменился. Лицо круглое, румяное, красивое. Да, такой парень любой красотке может голову вскружить. Может. Еще до войны девчата заглядывались на Сапрыкина, затаенно вздыхали, но нередко подшучивали: красив паренек, да зелен. А сейчас перед Федором стоял настоящий красавец в расцвете сил: из-под меховой шапки выбивалась пышная грива золотистых кудрей, на висках курчавились небольшие баки, лицо чисто выбрито, и от всей фигуры Сапрыкина веяло благополучием, сытостью.
Так вот он, Костя Сапрыкин... Костя... Первым делом Федор хотел подойти и ударить Костю, но сдержался. Злоба бурлила в нем, словно в кипящем котле.
Взгляды их встретились. Сапрыкин улыбнулся, хотел что-то сказать, но молчал, ждал, когда заговорит первым Федор. А Федор глядел на своего врага и не заметил в его глазах ни стыда, ни враждебности, ни жалости. Это еще больше взбесило его.
– Ну что ж, здорово! – вырвалось у Федора. – Петух на все курье стадо...
– Я-то петух. А вот курочка яичко снесла.
– Какая ж это курочка? Твоя, думаешь?
– Моя еще на насесте. А кто знает, может, и моя.
Сапрыкин продолжал улыбаться, а Федора распирала ревность. Он готов был уничтожить своего недруга.
– Жену тебе не отдам,– подойдя вплотную, произнес Федор. – Ребенок твой, бери,
а Настя – не шути с этим – она моя. Жена законная. А тебе кто?
Сапрыкин обалдело глядел на него и не мог понять, о чем идет речь. Он и не собирался отнимать у Федора жену. И ребенок не его – он знал об этом. Сказать прямо, что Федор заблуждается, что Настя родила от другого, не поверит. И он сказал:
– Бери свою Настю. Вместе с ребенком бери.
– Ах, бери, бери? Отдаешь! Обокрал фронтовика. Инвалида. Не стыдно?!
– Бери, раз твоя, не жалко.
Федор смотрел на Сапрыкина с неприязнью. Раздражало спокойствие и уступчивость Кости. Напакостил, опозорил. И вот на, бери... Здоров и красив, доволен собой. А что он, Федор? Кто? Калека. И одет кое-как: на плечах – потертая шинелька, на ногах – прохудившиеся кирзовые сапоги. Кому нужен такой? Может, отказаться от Насти, пока не поздно? И на самом деле, какой он муж? Эта мысль больно ударила по сердцу, и он решил: «Нет, не отдам никому, хоть изменила... Не отдам!» И, подойдя снова к Сапрыкину, дохнул ему в лицо самогонным перегаром.
– Настя моя! Только сейчас был у ней,– солгал он, – только что разговаривал и простил. А ты лишний. Уходи!
– Куда пойду? Я дома, уходи сам, откуда пришел.
– И пойду.
– Вот давай, проваливай...
Федор повернулся и пошел прочь. Все бурлило и кипело в нем. И надо же, этакий щеголь обесчестил и гонит! А ведь красив – ничего не скажешь. И в душе у Федора разрасталась зависть к Сапрыкину. Ведь несправедливо распорядилась судьба. Видать, и война не коснулась парня, обошла стороной. Красив, с руками и ногами. И Настя не устояла... Эх, Настя, Настя! На душе было горько. Шел в обратный путь, точно пьяный. Ревность терзала, не давала покоя. Надо было решать, что делать, как жить. Все порушилось, изломалось. Оказался лишним, встал поперек дороги молодым и здоровым людям. И зачем вторгается в чужое счастье? Зачем? Имеет ли на это право? У них с Настей не было детей. Только официально является мужем. На самом деле, может, давно и не муж, разлюбила. И родила не от него, и любит другого. Но почему не сообщила об этом в госпиталь? Честно, открыто. Написала бы обо всем, как есть, без утайки. И он, Федор, не поехал бы в Большой Городец. Остался бы там, искал бы свою судьбу в других краях.
Он не шел, а словно бы плыл по разъяренному ветром полю. Солнце светило – низкое, холодное, зимнее. На широком снежном покрывале в лучах серебрились мириады сверкающих блесток. И маленькие серебринки, прыгающие и мигающие, убегали от него все дальше и дальше. Ему казалось, что это счастье прыгает и сверкает перед его глазами. Счастье! Куда оно улетело? И вернется ли? Он пытался догнать светящиеся блесточки, но они убегали, дразня, и снова вспыхивали вдали. Счастье как бы заигрывало с ним своей призрачной близостью и в то же время было таким далеким, нереальным, пугающим. Он пытался догнать свое счастье, поймать его, точно жар-птицу, в свои убогие руки – и не мог...
Глава двадцать седьмая
Екатерина Спиридоновна возилась возле печи, готовила курам корм. Разминала вареную картошку, стучала ухватом. Увидев зятя, спросила:
– Где пропадал?
– У Насти был.
– У Насти?
– Родила Настя.
Теща всплеснула руками, наскоро перекрестилась и плавно опустилась на табурет.
– Господи боже мой! Как же так?
– А вот так, матушка. При живом-то муже. Опорожнилась.
Старуха поднялась с табурета, суетливо начала перебирать посуду, обтирала глиняные кринки тряпицей. Федор заметил – волнуется.
– Ну, как теперь жить будем? – спросил он. – Принесла ребенка...
– Родила – и бог с ней,– не сразу ответила Спиридоновна и перекрестилась снова.– Видать, так богу угодно.
Федор тупо глядел на тещу, потом спросил:
– От Сапрыкина дите? Видел его, негодяя. Сказал – бери, расти...
Спиридоновна с недоумением глядела на зятя, думала, не помешался ли.
– Что мелешь-то зря? От кого родила – одному богу известно. Спроси у ней – от кого. А ты, знамо дело, какой отец? Безрукий-то? – Старуха заплакала.
Федор видел, как мелко и знобяще вздрагивают ее плечи, как судорожно она сжимает пальцами край передника. «Переживает,– подумал,– за дочку переживает, а я, видать, лишний, почти чужой. Свалился горьким комом, нежданный, негаданный». Он глядел на Спиридоновну, и ему было нисколько не жаль старуху. Потом встал, широко расставил ноги, потребовал:
– Вот что, мамаша! Пальто достань драповое, хватит в шинельке ходить. Оденусь – пойду...
Спиридоновна подняла голову, перестала плакать. Смотрела на зятя испуганными глазами, часто и подслеповато мигала.
– Какое пальто?
– Мое. Довоенное. То, что в Ленинграде купил.
– Нет того пальто. Проели с Настенькой. Променяли на хлеб.
– Как – променяли?
– А так. Думали, нет тя в живых.
Федор рванулся к шкафу и снова потребовал:
– Открой! Сам посмотрю.
– На, на, гляди... – Она открыла дверцу шкафа.– Смотри, проверяй.
Федор увидел на вешалках Настины платья, кофточки и другие вещи. Пальто не нашел. Теща открыла нижние ящики, начала рыться в белье. Федор сидел на корточках, смотрел. Пахло тряпичной затхлостью, кожей и еще какими-то еле уловимыми запахами подержанных вещей. Руки тещи судорожно перебирали то одну, то другую тряпку. Она вытряхнула на пол старые наволочки, полотенца, чулки, носовые платки, перчатки. Наконец, обнаружила мятую Федорову рубашку.
– На, бери! – бросила на плечи зятя.
Рубашка шелковая, голубая, та, которую надевал в день свадьбы. Федор попытался свернуть и уложить ее на коленях.
Теща фыркнула:
– Подобрать даже не можешь! – и подхватила шелк, подошла к столу, завернула в обрезок газеты и подала Федору.








