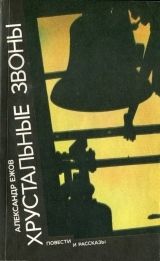
Текст книги "Преодолей себя"
Автор книги: Александр Ежов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Рацию? А сведения своим когда передадим? Ведь от нас ждут.
– А запеленгуют? Считай, крышка,– начала возражать Паня. – Они сейчас настороже. Всех на ноги подняли. Постараюсь передать, и этой же ночью рацию закопаем. На огороде. Я ящик на всякий случай приготовила, а сами уйдем, потихоньку, огородами. Согласна?
– Согласна.
Ночью они уже были в другом конце городка, на явочной квартире партизанского разведчика по кличке Стригун. Это был парень лет двадцати пяти, среднего роста, белокурый. Держался он просто, усадил разведчиц за стол и сразу сказал:
– Вот что, девочки. У меня оставаться нельзя. Абсолютно нельзя. Сейчас же пойдете. Я вас провожу надежным путем на окраину города. А там уж давайте сами, до ближнего леса недалеко. И до фронта рукой подать.
– А как же рация? – спросила Паня. – Мы закопали ее. Как же без рации явимся в штаб?
– Ничего,– успокоил Стригун. – Рация найдется, когда войска освободят городок.
– А Пауль, что с ним? – с тревогой спросила Настя.
– Пауль схвачен. Судьба его пока неизвестна.
– Нет, я не могу уйти до тех пор, пока не узнаю, что с Паулем. – Настя поднялась с табурета, почернела лицом, в глазах появились слезы. – Не могу! Не могу!
– Успокойся, Усачева. – Стригун понимал, как трудно потерять товарища, но почему заупрямилась, почему не хочет выйти туда, где свои, где спасение? В этом городке можно запросто погубить себя, да и не только себя, но и других. Рисковать нельзя.
– Я приказываю,– произнес Стригун,– приказываю покинуть город. Там ждут вас и примут решение, куда снова направить.
– А с Паулем как? – опять спросила Настя.
Стригун не ответил. Он просто не знал, жив Пауль или уже нет его в живых. Не мог ничего сказать.
Поздно ночью Настя и Паня были недалеко от линии фронта. Разведчицы стояли на опушке леса и терпением ждали того часа, когда нужно будет двинуться дальше. Это был самый опасный для них отрезок пути, всего каких-нибудь два километра – и там свои. Немного передохнув, пошли вдоль кромки леса, но лес был редкий и голый, продуваемый холодными ветрами. В неглубокой ложбине налетели на немецкий патруль. Часовой их остановил и приказал поднять руки. Настя с поднятыми руками подошла вплотную к немцу и по-немецки сказала:
– Ну, здравствуй, солдат! Мы свои, не бойся. Опусти автомат. Вот, вот так...
Солдат растерялся и не знал, что делать. Женщина говорила на чистейшем немецком языке, точно с неба свалилась прямо сюда, на передовую. Чудеса, и только.
– Немка я,– сказала Настя. – Из Германии. К мужу в гости приехала. Из Берлина.
– Из Берлина? – спросил солдат. – Я сам из Берлина. Уж не ко мне ли?
– А разве у тебя есть жена?
– Жена и дети, двое детей. Но вряд ли моя сюда заявится. Как вас сюда занесло? Неужели к мужу?
– Да, к нему. Может, адресок дадите? Премного буду благодарна.
– А другая фрау тоже мужа ищет?
– И она,– ответила Настя.
– Мужей своих вы тут, пожалуй, не найдете,– отрезал солдат. – Поворачивайте обратно. Идите прямо, вон к тому лесу. Там командный пункт дивизии. Справки наведут, и возможно, найдутся ваши мужья.
Солдат отпустил их. Пройдя шагов сто, Настя сказала подруге:
– Кажется, нам повезло, а мог бы задержать. Давай свернем влево, вон к тому леску. Переждем немного и... по-пластунски.
За час до рассвета они перешли линию фронта, их привели под конвоем в штаб полка. Майор, высокий и худой, начал допрашивать:
– Кто такие? Откуда? Документы есть?
– Все, как положено,– ответила Настя. – Документы немецкие. А разведчицы – советские.
– Знаем, знаем мы таких советских. Может, не советские, а немецкие. Шпионки немецкие, лазутчицы. Проверить вас надо.
– Проверяйте. Я требую отправить в штаб фронта. Там разберутся.
– Вот и отправим. Только не в штаб, а в особый отдел дивизии. Там и проверят, кто вы такие.
– Пускай, пускай проверяют. Все равно мы свои. Ужель не видите, что свои?
– На лбу у вас это не написано,– строго сказал майор и приказал конвоиру отвести их по назначению.
Проверку обе прошли в тот же день, а на следующий Настя доложила представителю разведки фронта подполковнику Семенову о работе разведгруппы в тылу врага.
– Потеряли Пауля,– сказала она. – Может, живой, может, вырвем его из лап гестапо?
– Сделаем все возможное,– обнадежил ее подполковник. – Если успеем...
– Надо обязательно его спасти. – Настя смахнула слезы, просяще посмотрела в глаза подполковнику: – Пошлите снова туда, в этот маленький городишко. Прошу вас, пошлите!
– Туда нельзя,– ответил подполковник, и Настя поняла, что это окончательное решение. Просить было бесполезно.
– Для вас, Усачева, у меня приятная новость,– продолжал Семенов. – За успешное
выполнение заданий командования вы награждены вторым орденом Красной Звезды. Кудряшова и Пауль Ноглер – тоже. Все трое. Кроме того, командование объявляет всем вам благодарность. Награду получите завтра.
Через несколько дней она снова была заброшена в тыл врага, но уже в другой район, и вернулась на родные берега только через месяц.
Глава двадцать первая
В один из майских дней Настя почувствовала, что она беременна, о том, что будет ребенок, догадывалась и раньше – и две недели, и месяц назад.
А время шло своим чередом. В конце мая ее вызвал представитель разведки фронта Семенов и предложил снова отправиться туда, куда она направлялась неоднократно раньше,– за линию фронта. Нужны были разведданные для штаба, и добыть их могла только Усачева.
– Нет, больше не могу,– сказала она подполковнику и опустила голову, словно виноватая в чем-то, совсем другая, словно не Настя Усачева, смелая и решительная. – Не могу...
– Почему? – спросил подполковник. – Мы надеемся на тебя, Усачева. Очень надеемся. Это задание можешь выполнить только ты. Мы рассчитываем на тебя. Очень рассчитываем.
Он не сказал, какое это задание, но она поняла, что опасное, сопряженное с риском. Она всегда рисковала, когда шла туда. Но шла, преодолевая себя, и боялась иногда, встречаясь с ними, с фашистами, лицом к лицу. И вот снова надо было идти, а она не может. Не имеет права рисковать, потому что она теперь не одна... Но как сообщить об этом, как открыться?
– В чем причина? – спросил Семенов, и ей показалось, что он что-то уже знает,– определила это по его глазам.
– Не могу.
– Почему же? Должны быть веские основания. Ведь не раз там была...
– Я жду ребенка,– как-то само собой вырвалось у нее.
Он глядел на нее с недоумением, все еще, видимо, не веря ее словам. Это она поняла по его взгляду, сразу же поняла, как сказала, открылась. «Зачем об этом сказала? Зачем? – пронеслось в голове. – Как он теперь подумает обо мне? Что скажет?»
А он молчал, озадаченный этим известием, и сразу решил, что отправлять ее в тыл к немцам уже нельзя. Он просто не имеет права в таком состоянии отправить женщину через линию фронта.
– Ребенок-то Пауля Ноглера,– открыла она до конца свою тайну. – Я была его
невестой.
– Невестой?
– Да, невестой. После войны мы решили пожениться. Дали клятву друг другу.
– Ну что ж, Усачева, надо теперь возвращаться домой. Дома-то кто?
– Мать. А братья на фронте, возможно, погибли. Мать одна.
– Спасибо, Усачева, за все. Большое спасибо. Ты нам помогла хорошо. И Ноглер, и Кудряшова. Все вы трое. Счастливой мирной тебе жизни. Как приедешь – напиши. Пиши на мой адрес. Если трудно будет – поможем.
В тот же день Настя поехала к матери. Ехала сначала на попутке, потом поездом, на второй день высадилась на железнодорожной станции, от которой до большого Городца было километров восемь. Эти восемь километров, пока она шла, показались длинными, бесконечными... Что скажут люди, когда узнают, что она носит в себе ребенка? От кого принесла? И зачем? В такую-то злую годину! Страшно было думать об этом, и она уже сомневалась, возвращаться ли под родимый кров. Лучше уехать куда-нибудь в незнакомое место, устроиться на работу, и все пошло бы своим чередом. Родила бы, ну и что ж! Мало ли рожают бабы-фронтовички, пулями на войне обвенчанные.
Она шла по знакомой дороге, часто останавливалась, смотрела на деревья, размолодившиеся яркой зеленью. И трава на обочинах набирала силу. Все пробуждалось вокруг, тянулось к солнцу, торжество жизни над смертью было необратимым и, казалось, будет вечным. Земля отдыхала. Пели птицы, журчали ручейки. И облака, словно пуховые одеяла, медленно уплывали на запад. «Родина, вот моя родина»,– шептала сама себе Настя, и сердце ее трепетало от волнения.
А вот и деревня. Родительский дом стоял у поворота все такой же, знакомый с детства, желанный и дорогой. Вот сейчас перешагнет порог и встретится с матерью. Жива ли? Подумала так и снова заволновалась пуще прежнего. Наконец-таки она пришла, теперь вернулась, и может, навсегда.
На улице было тихо и пустынно, деревня словно бы замерла в пугающем безмолвии. Наконец переступила порог родного дома и увидела мать, обняла ее, запричитала:
– Мама, мамочка! Как я рада! Родная...
Мать лепетала бессвязно и еле слышно:
– Жива... Жива, доченька! А я уж думала... Господи, жива!..
Настя обнимала старушку и чувствовала, как по всему телу разливается радость: «Дома я, дома! Как хорошо, что мать жива! Какое это счастье!» Она снова обнимала мать, и слезы лились по щекам, но это были слезы радости, и она смахивала их ладонью и неотрывно глядела на мать.
Потом они вдвоем сидели на кухне, разговаривали, вспоминали, делились новостями. Настя рассказывала о своих мытарствах, и мать вздыхала, пугалась, охала. Вот жива ее Настя, жива, а ведь смертушка с блестящей косой в костлявых руках так долго и зловеще кружилась над ней. Несладко было и матери. Тоже могли убить, покалечить, дом поджечь. Но, слава богу, все страшные беды остались позади.
– А писем не было? – спрашивала Настя.– От братьев, а может, еще от кого?
– От сынков-то не было,– отвечала мать. – Пропали, видать, сгинули.
И она заплакала. Насте тоже было больно: было жаль и братьев, и Федора. Хотела сходить к Блиновым, еще раз расспросить все подробно.
А вдруг живой? Все может быть на этом белом свете. И мертвые воскресают, и живые гибнут. Так думала она и боялась, что Федор вдруг придет и спросит, как чтила, как берегла себя.
– О господи! – застонала она.
– Что ты, доченька, что? – Спиридоновна испугалась, обняла, перекрестила.– Чай, теперь супостаты ушли. Прогнали их, окаянных.
Потом она спросила у матери о маленьком Федоре. Ведь она, Настя, спасла мальчишку от неминуемой гибели.
– Забрали его, Настя, определили в детский дом. Увезли. И жалко было по первости. Привыкла к нему, словно к родному внуку.
Настя упала матери на грудь, замерла.
– Боюсь я, мама, боюсь,– вырвалось у нее.
– Кого же ты боишься?
Она не ответила. Боялась тени мужа. Он часто маячил перед глазами, большой и скорбный, будто бы живой. А вдруг и на самом деле он жив, что тогда? При этих мыслях страх распирал ее, пригибал, почти уничтожал. Она боялась Федора, даже мертвого. Вспоминая о нем, всегда вспоминала другого человека – немца, разведчика Пауля. Да, да, она любила Пауля, очень любила и страшно переживала, когда он так нелепо погиб. Но самое страшное, чего она сейчас боялась,– это огласки, раскрытия тайны: ведь о том, что она несет в себе ребенка, в Большом Городце еще никто, кроме нее, не знал. И все же понимала: эта тайна – пока еще ее тайна, но рано или поздно она будет раскрыта. И что тогда? Какие будут пересуды и толки?
В начале июня в Большой Городец неожиданно пришел Афиноген Чакак. Настя встретила его возле дома, бросилась к нему на шею, и такая радость, такое счастье переполняли ее в эти минуты, что она не могла вымолвить и слова. И он, пожимая ей руку, повторял одни и те же слова:
– Настенька, родная, жива?
Придя в себя, она повела гостя в дом, усадила за стол, позвала мать. Спиридоновна вышла из передней, увидев Афиногена, всплеснула руками, заохала:
– Откуда, Афиноген? Ужель с неба свалился? Живой и целый. Батюшки мои, думала, сынок нежданно-негаданно переступил порог, а это ты, Афиноген...
– Из госпиталя я, решил вот к вам заглянуть, по старому знакомству проведать.
– Так куда ж, на фронт?
– Отвоевался теперь.
– Как же так?
– Без ноги я, на протезе.
– Но ведь ноги-то при тебе. Вот с ногами сидишь.
– Это верно, что с ногами. Одна – своя, другая – казенная. – Он стукнул палкой по протезу. – Ступню оторвало, так что почти незаметно. И без палки хожу хорошо.
Спиридоновна начала греть самовар, а Настя повела гостя в переднюю, усадила на стул, спросила:
– Значит, домой?
– А куда же? Свое дело сделал. Поеду в родное село Юнгапоси. Ждут там меня – сестренка Роза, дед еще живой.
– Ты счастливый, Афиноген,– сказала Настя.– Хоть и на протезе нога, но счастливый. И невеста ждет тебя?
– Ждет девушка. Поженимся. А ты приезжай, Настя, на свадьбу. Хочешь – вместе сейчас и поедем
Настя смотрела на него с печалью. Куда она поедет, да и зачем? В такую-то даль! Афиноген заметил печаль в ее глазах, встревожился.
– Поедем, а?
– Нет-нет,– ответила она поспешно. – Куда я от матери, от родного дома?
– Погостишь недельку-другую, посмотришь, как у нас, в Чувашии, люди живут. Пивца самодельного отведаешь. А печалишься что? Грустишь. Ведь я вижу.
– Одна я теперь. И кому нужна? Только матери...
– Людям нужна, Настя. Людям. Война закончится – и жизнь пойдет, да еще какая жизнь!
Она смотрела на него и немножко завидовала ему. И хотела бы поехать хоть на край света, но понимала, что не может. И тайну свою не открыла, только сказала на прощание:
– Может, и приеду потом, когда закончится война. Пиши мне, Афиноген, не забывай.
Он зашагал, слегка прихрамывая, она долго смотрела ему вслед, а потом, когда он скрылся за поворотом, присела на бревнышко и горько заплакала. Домой пришла уже под вечер, поцеловала мать и, ложась спать, решила, что из Большого Городца никуда не уедет.
Дома она оказалась, как никогда, кстати. Надо было пропалывать морковные грядки, поливать огурцы, окучивать картофель. Мать была рада, что дочь вовремя вернулась и помогала в хозяйстве. В деревне не показывалась. Степачевы погибли, погибла и Ольга Сергеевна. Кое-кто вернулся из партизанских отрядов, и в колхозе мало-помалу налаживалась нормальная жизнь. Первые два месяца на колхозную работу никто нарядов не давал. Только в сентябре к ней пришла бригадирша Нюрка Крюкова и предложила:
– Работенка есть непыльная. Не возьмешься ли?
Нюрка смотрела на нее с некоторым подозрением: вот пришла невесть откуда, где-то бродяжничала, осталась жива. Уцелела. Уж не служила ли фашистам? Перекинулась, поди, в трудную минуту. Шкуру спасала. А люди погибли, не пожалели себя.
– Ты как, Настя, спаслась?
– Как видишь, жива. Сквозь ад прошла.
– Что-то неприметно, что сквозь ад. Может, в раю тешилась?
– Пшеничные блины со сливками ела.
– Ой ли!
– Вот тебе и ой ли! Какую же работу для меня сготовила?
– Утиной фермой заведовать будешь. Согласна?
– А утки где? Небось фрицы давно слопали...
– Не успели. На дальнем озере три десятка осталось. Для развода хватит.
– Ну что ж. За эту работу возьмусь.
Уток перевели из лесного озера в маленькое озерко, которое находилось неподалеку от деревни, и Настя почти каждый день ходила подкармливать полудиких птиц. Она так привязалась к ним, так прикипела сердцем, что готова была пойти ночью на утиную ферму. «Уж не стряслось ли что там,– думала она,– не забрался ли хорь в сараюху?» Утром приходила, выгоняла уток из сарая и провожала к озерку.
А домой возвращалась с печалью, даже были минуты отчаяния: воспоминания о недалеком прошлом мучили ее, и казалось, что она идет к пропасти, к какой-то роковой черте. И назад пути уже не было, приближалось то страшное, чего она больше всего боялась,– боялась бесчестия. Она понимала, что деревенские начали догадываться о ее беременности, да и скрывать это было уже невозможно; она ловила себя на мысли, что и мать уже знает, и соседи знают, и что уже весь мир знает о ее грехе,– и это так угнетает, так терзает ее угрызениями совести, что не хочется даже жить. Но она жила, чувствуя в себе самой то живое, что нарождалось в ней и что неизбежно должно народиться,– и ради этого нужно было жить.
Однажды мать взглянула на нее с подозрением, словно обожгла.
– Эх, доченька, доча! – завздыхала она. – Горюшко и так лихое, а ты его двоишь. Говори, где прижила?
– Ребенок мой. Сама подниму, выращу.
– Вырастить вырастишь... А если Федор жив? Что тогда? Придет и спросит: «Откуда взяла?»
А вдруг и на самом деле Федор объявится? Муж-то законный. И спросит. Предъявит свои права. Может, уехать, бросить все? На чужом, незнакомом месте не будут знать, от кого она ждет ребенка. А куда поедешь? В Чувашию, к Афиногену? Нет, нет, не может она поехать туда сейчас. С какими глазами приедет? Что скажет? Уж лучше дома. Тут и картошка своя, и овощи, да и угол свой, мать рядом.
Вечером пошла к Блиновым. Гешка сидел на табурете и подшивал валенок. Когда вошла, бросил работу, в глазах засверкали искорки, спросил:
– Про Федора узнать еще раз хочешь?
– Про него. Про кого ж еще? Может, живой он, Федор-то?
Гешка потупил кудлатую голову, засопел.
– Я ж тебе сказывал про него. Вместях воевали. Видел, как ранен был. Погиб.
– А если жив?
– Всяко бывает. Только навряд ли: с того света еще никто не приходил...
Тревога нарастала, накатывалась с каждым днем все сильней и сильней. Как она ни старалась сохранить в тайне беременность, но в деревне почти все знали, что она ждет ребенка. «А кому какое дело,– думала иногда,– ну и жду, и рожу, и растить буду. И не в тягость, а в радость будет ребенок. Сыночек или доченька. Война окончится – и все пойдет своим чередом».
Мать изредка упрекала:
– С дитем-то кому нужна? Без ребенка замуж бы выскочила, раз Федора нет. Нашла б жениха. Вот и чуваш-то, Афиноген, какой ладный парень. Приняла бы в дом.
– Нужна я ему! У него – невеста. А другие женихи – где они? Война всех подобрала.
– Всех не всех, а кто-то живой придет – а у тебя дите. Эх, Настя, Настя! Горемычные мы с тобой, никому не нужные... Люди вон что говорят: «Может, от немца забеременела».
– А хоть бы и от немца! Кому какое дело? Немцы всякие бывают...
– Срамота-то какая, господи! – взмолилась Спиридоновна. – Ни стыда ни совести... А вдруг люди узнают – что подумают?
– Что хотят, пускай то и думают. Ребенок мой, а от кого – не скажу. Тайна это, моя тайна!
И все же упреки матери тяжело было выслушивать, сердце болело, словно на что-то острое накололось,– тревога не унималась.
А через два дня на улице она встретила Синюшиху. Старуха шла скособочась, опираясь на палку, зыркая глазищами по сторонам, точно искала кого-то. Синюшиха переселилась в Большой Городец месяца два назад, жила в байнюшке около самой речки и редко показывалась на люди, сторонилась: все городчане были для нее словно бы не свои, а чужие. Сын Гаврила много бед натворил, оставил о себе недобрую память.
– Усачева, постой! – каркнула Синюшиха, и Настя вздрогнула от этого окрика, не хотелось разговаривать со старухой, но все же остановилась, повернулась к ней лицом.
Синюшиха глядела на нее, точно ведьма: глаза выпучены, волосы растрепались, лицо все в глубоких морщинах, голова вздрагивала, словно в лихорадке.
– Гаврилу мово, говорят, сгубила?
– Сам себя погубил.
– Нет, не сам. Ты привела татарина, и он убил его.
Настя думала, как ответить на это старухе, что сказать, а Синюшиха не отставала:
– Ну, что молчишь? Говори!
– Гаврилу приговорил суд к расстрелу,– спокойно сказала Настя.
– Какой еще суд? Кто его судил?
– Народ судил. Много людей невинных сгубил твой сынок. Много бед натворил.
– А ты где была? Может, тоже прислуживалась? Может, тоже пачканая! Переводчицей была там, в комендатурах...
– Ну, и была.
– С кем якшалась? Обрюхатилась. С офицерами немецкими в постелях нежилась. С этим самым Брунсом. Так что не попрекай сыном. Сама мазаная, перепачканная!
Настя от обиды не могла стронуться с места, сердце больно сжалось, и в голове застучало, искрами токи прошли по всему телу. Да, такого она не ожидала. Синюшиха словно хлыстом ударила по голове. Значит, пустили слушок по деревне, замарали грязью...
Она стояла, онемелая, и ничего не могла скатать в ответ. Не находила слов, а
Синюшиха, скособочась, осатанело глядела на нее, переполненная злорадством.
– Ну что, красавица писаная, правда глаза колет?
– Неправда это. Клевета!
– Вот посмотрим, что за клевета! А если Федюха жив, законный-то муженек? Что тогда?
Настя молчала. Что она могла сказать? А если и на самом деле жив Федор? Но был бы живой – написал бы. Нет его в живых! Нет! Так и хотела она сказать Синюшихе, хотела, но молчала. А та продолжала:
– Может, в плену он, Федор-то твой. Окончится война – и объявится, как снег на голову, а ты с дитем. И дите от немца!
– Ну и что ж такого? Что пристала ко мне? Я честно воевала. Партизанкой была. Разведчицей. Награждена орденами.
– Какими такими орденами? Покажи эти ордена.
– Кому надо – покажу, но твоим свинячьим глазам – ни за что не покажу! А сынок твой Гаврила – предатель! И расстреляли его по закону.
– По какому такому закону? Кто его убил? Уж не ты ли?
– Приговор в исполнение приведен мною и еще одним человеком...
– А кто этот человек? Татарин какой-то? Я слышала, что татарин.
– Не татарин, а чуваш. Могу по имени назвать.
– Ну, скажи – кто?
– Афиноген Чакак.
– Какой еще такой Чакак?
– Партизан такой был. Карал предателей. По слугам карал. И твоего сынка отправил к праотцам. А меня не замараешь: документы у меня чистые. А будешь каркать – к ответу привлеку за клевету.
– Вот Федор вернется, он с тебя спросит, где ты была и с кем была.
– Разберемся и с Федором. Перед ним сама ответ держать буду. Я, а не ты. Не ты!
Синюшиха плюнула и пошла прочь, ворча ругательства. И все же Настя была потрясена, словно комок грязи бросили в лицо. А за что? За какие грехи? Ведь она чиста перед людьми, перед всеми чиста. И все же страшно жить в родной деревне. Ой как страшно! Нет, тут ей оставаться нельзя. Уехать куда-то, за тридевять земель, только бы подальше от стыда, подальше от позора.
Пришла домой, сразу сказала матери, что уедет куда-нибудь на берега Волги, туда, к Афиногену.
– Да ты что, очумела? – накинулась на нее мать.– Что будешь делать в чужих-то людях? С дитем на руках кому нужна? Нет уж, сиди дома. С ребеночком я понянчусь, а ты работать будешь, как и все.
– А как людям в глаза глядеть?
– А что люди? Посудачат и бросят. Мало ли теперича таких, как ты, вековух безмужейных. Тысячи. И детишек нарожают, и растить будут. Не одна ты така. А я кому нужна останусь? Подумала об этом?
– Прости, мама. Погорячилась я. И на самом деле – куда поедешь? Уж лучше дома все перетерпеть. В родном доме и стены помогут.
И она никуда не поехала. Решила про себя: умные люди не осудят, поймут, а если надо – помогут. Ну, а злые языки пускай чешутся, не вечно же они будут чесаться. Когда-нибудь перестанут.
Прошел еще месяц, уже прохладный, осенний. Люди собрали первый мирный урожай, земля отблагодарила людей за труды и ласку. Настя выкопала картошку, сняла капусту, рубила ее сечкой, квасила в бочке, сносила в подвал морковь и свеклу. Приглядывала за утрами. Работы было – хоть отбавляй, и она за этой работой отдыхала душой.
В один из осенних дней, когда уже тревоги и душевные муки понемногу улеглись, почтальон передал Спиридоновне письмо и сказал, что оно адресовано Насте.
– Настеньке? От кого? – с тревогой спросила Спиридоновна.
– Не знаю. Может, от мужа?
– Но ведь сказывают, погибший он, Федор-то?
– А может, воскрес.
– Господи боже мой! – взмолилась Спиридоновна. Она не на шутку разволновалась, вертела в руках треугольничек, не зная, что с ним делать. Читать она умела немножко, но боялась вскрыть письмо, положила на стол и пошла в огород, где работала Настя. Перешагнув за изгородь, крикнула:
– Письмо тебе! Кажись, от Федора.
Настя разогнулась, посмотрела в сторону матери и не поняла сразу, что та сказала, уловила только «от Федора» и вздрогнула. Из рук вывалилась сорная трава. Она подалась вперед, спросила:
– Что? От кого?
– Кажись, от Федора. Иди сама прочитай.
Дрожа всем телом, как в лихорадке, Настя поплелась домой, остановилась у порога, передохнула, вздохнула еще раз глубоко, натужно и переступила порог. На столе лежал не конверт, а маленький солдатский треугольник из простой тетрадочной бумаги. Она взяла его, развернула и, захлебываясь воздухом, стала читать. Кто-то чужой, не Федор, писал ей. Почерк был не Федора, другой почерк – это она заметила сразу. Буквы прыгали у нее перед глазами.
«Настенька моя, родная и вечная. Это я, Федор, но пишет за меня другой человек. Лежу в госпитале, Настенька, вот уже несколько месяцев. Был тяжело ранен в руку и в голову. Рука все еще больная, потому и пишет за меня другой. Но скоро, видимо, на выписку. Собираюсь домой. Как вы там? Живы ли, здоровы ли? Я – инвалид, на фронт уже больше не пошлют. Так что приеду. Жду от вас весточки. Федор».
Настя поняла, что это он, Федор, ворвался снова в ее жизнь так неожиданно и так властно. «Что же будет, что ждет меня впереди? Да, теперь он приедет, непременно приедет, и как я его встречу? В каком состоянии? Господи боже мой! Что наделала? Как буду теперь жить?»
Она несколько раз перечитала коротенькое письмецо Федора, волнение настолько сильно охватило ее, что она сидела, закрыв глаза, и тихо постанывала от нестерпимой боли в груди. Мать с тревогой спросила:
– Что пишет Федор-то, что?
Настя тяжело дышала и молчала. Отдышавшись, поглядела на мать печальными глазами и еле слышно прошептала:
– Живой Федор. Живой. В госпитале он...
– Значит, приедет?– оторопело спросила старуха.
Все последующие дни она мучилась ожиданием чего-то рокового для нее, неотвратимого, ужасного потому, что встретить мужа боялась, очень боялась. Как оправдается? Что скажет? Она леденела вся, когда думала о том дне, о том мгновении, когда вернется Федор, живой, реальный, вернется к законной жене и спросит, как жила все эти годы, как берегла свою честь.
Надо было отвечать на письмо. Настя медлила, откладывала со дня на день, обдумывала. Разные варианты текста приходили в голову, но все их она браковала, все получалось лживо, неискренне, а правду написать не могла. Понимала, что этой правдой причинит ему боль, даже может погубить его, а этого делать она не хотела.
Выходя на улицу, сторонилась встреч с людьми, все казалось, что деревенские уже знали о том, что жив Федор, что вот-вот должен приехать, и боялась, что кто-то спросит ее об этом. Но проходили дни, никто не спрашивал, даже Гешка Блинов – и тот ничего не сказал. Значит, не знает ничего. Сама хотела сообщить ему, что Федор жив, что он, Гешка,
просто обманул ее.
Глава двадцать вторая
Как ни вертела Федора Усачева круговерть по военным дорогам, в каких только переплетах не был он, как частенько ни витала смертушка над его головой – все же остался живым. Война обцеловала горячим свинцом, повалила на долгие месяцы на госпитальную койку. И не совсем он целехонек: левую руку оторвало напрочь, а на правой осталось два пальца – большой и указательный—и глаз один. Изувечила Федора война, сделала калекой. Лучше бы сразило наповал – и делу конец. А куда теперь он свою голову приклонит: ни топор в руках держать не может, ни руль автомашины, вот даже пуговицу на брюках еле-еле застегивает и ложку кое-как держит, словно-те несмышленый младенец. Кому он такой? Одна дорога – в инвалидный дом.
Больше всего беспокоился о жене. Думал о ней, прикидывал так и этак: ехать иль не ехать в Большой Городец? Ну, примет, обласкает из жалости, а потом что? Обузой на шее быть? Не хотел он, Федор Усачев, в таком непотребном виде домой появляться: почти без рук, одноглазый, через всю щеку бугристый шрам. Даже не похож он на прежнего Федора, совсем переменился, будто бы его другая мать родила.
Особенно забеспокоился, когда хирург произнес: «Пора на выписку». Просто сказать – пора... А куда поедет? Жена не ответила почему-то на два письма.
Той ночью, как хирург сказал, что пора домой, долго не мог уснуть. Вспомнил и детство, и юность, и женитьбу. Вспомнил, как получил повестку из военкомата. Настя растерялась и стояла перед ним окаменевшая, как чужая. Провожала до станции, не плакала, была немножко печальна, плечом жалась к нему, Федору.
– Федя, пиши, не забывай... Федя...
Он обнимал ее, слегка отталкивал, глядел в бесслезное лицо:
– Ты тут гляди...
– О чем ты, Федя?
– Не балуй!
– Да что ты, Федюшка! – зарделась она, опуская голову. – Подумал худое что, Федя?
– Ну, ладно, ладно,– замахал он рукой, поцеловал, затем пошел, слегка расталкивая провожатых, и ловко вскочил в шумный запыленный пульман.
Так вспоминал прошлое, и нередко перед ним рисовались фронтовые картины. Первые бои. Вот он тяжело ранен, лежит на траве и не может подняться. Бой переместился куда-то вправо, совсем рядом лес. Его тащит Гешка Блинов. Затащил в кустарник и выбился из сил.
– Не могу больше. Оставайся тут, Федя. Санитары отправят куда надо.
Потом плен. Когда подлечился, бежал. Длинная дорога к линии фронта. И опять бои, всполохи пожаров, смерть друзей. Писать домой было бесполезно: Большой Городец в оккупации, а ведь Настя там, у матери. Это обстоятельство больше всего удручало. От Насти получил одно письмо, только одно... Перечитывал это маленькое письмецо много раз, читал – и как бы чувствовал прикосновение теплых рук жены, слышал голос ее, видел глаза... Как хотел он повидать Настю! Все эти годы мечтал о встрече. Он любил ее, и эта любовь согревала его в зимнюю стужу, ласкала постоянно, окрыляла в трудную минуту, и воевал он словно бы играючи, без страха, не думая о смерти...
Последний раз его ранило на окраине небольшого городка в зимний полдень. Немцы были почти выбиты, и, когда уже замирали раскаты боя, вдруг Федор почувствовал, как обожгло его, ослепило вспышкой, точно на лицо накинул кто-то огромный горящий факел. Эта вспышка и острая, обжигающая боль были мгновением, а потом все пропало, Федор словно провалился в бездонную пропасть и очнулся только в медсанбате. Руки были обвязаны бинтами, голова – тоже. И понял – случилось самое страшное, чего боялся. Боль в руках тупая, и левый глаз нестерпимо болел. «Калека я, калека,– пронеслось в голове. – Целы ли руки? И глаза ничего не видят. Пропал!» У Федора закипела жалость к себе, липкая такая жалость, противная: нежели на веки вечные калека – без рук и без глаз? Как будет жить? Кому нужен такой?
Томила жажда, и он попросил пить. Услышал, как кто-то подошел к его раскладушке, почувствовал дыхание подошедшего, но ничего не видел, остался только слух, обостренный, как у слепого, слышал, как позванивает воздух над его головой. Слегка приподнял голову, спросил:








