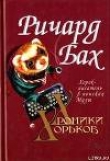Текст книги "Мастера русского стихотворного перевода. Том 1"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Иван Тургенев,Михаил Михайлов,Михаил Лермонтов,Алексей Толстой,Николай Карамзин,Василий Жуковский,Иван Барков,Федор Тютчев,Евгений Баратынский,Афанасий Фет
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Одной из самых ярких и, во всяком случае, самых обширных работ Пушкина в области поэтического перевода можно считать те одиннадцать «Песен западных славян», которые переведены из книги Проспера Мериме «Гюзла» (1827).
Мицкевич перевел одно из стихотворений сборника Мериме – «Морлак в Венеции» (1827–1828). Сравнение этого перевода Мицкевича с пушкинскими «Песнями» (особенно со стихотворением «Влах в Венеции») наглядно показывает различия между подходом к своей задаче обоих поэтов – польского и русского. Мицкевич оснастил свой перевод звучными рифмами и, сохранив текстуальную близость к подлиннику, преобразовал повествовательный монолог Мериме в традиционную романтическую балладу. Вот как звучит у Мицкевича последняя строфа стихотворения (в довольно близком русском переводе):
Бывало, встречаешь знакомых в горах,
Тебя обласкают, как друга родного,
Расспросят о жизни твоей и делах,
А тут не услышишь приветного слова.
Я здесь – муравей, что из чащи лесной
Заброшен в пучину, захлестнут волной.
(Перевод М. Живова)
Та же заключительная строфа в пушкинском переводе:
Как у нас, бывало, кого встречу,
Слышу: «Здравствуй, Дмитрий Алексеич!»
Здесь не слышу доброго привета,
Не дождуся ласкового слова;
Здесь я точно бедная мурашка,
Занесенная в озеро бурей.
У Мицкевича, как можно судить даже по переводу на русский, фольклорность потонула в романтической форме, важнейшая черта которой – строфа-шестистишие одиннадцатисложника, сообщившая стихотворению изысканно-книжный характер. Мицкевич, видимо, сделал это сознательно. Пушкинская концепция была и проще и последовательнее: в его переводе «Влах в Венеции» можно, вероятно, прочитать следы споров, которые вспыхивали между Пушкиным и Мицкевичем по поводу «иллирийских стихотворений» Мериме; Пушкин ничуть не собирался украшать безыскусственные «песни полудикого племени». Преодолевая стилистическую нейтральность текста-«посредника», то есть текста Мериме, он постарался увидеть за ним воображаемый простонародный оригинал. Тщательно реконструируемый Пушкиным, этот «оригинал» отличается от текста Мериме отчетливо фольклорным характером. Просторечность выражается прежде всего в лексике. Весьма последовательно отобраны Пушкиным и разговорно-просторечные синтаксические конструкции, не имеющие аналогий во французском тексте. Разница между переводами Мицкевича и Пушкина не внешняя, а сущностная, – это разница между творческими методами. Верный романтическим принципам, Мицкевич возводит свой перевод к субъективно понятому идеалу романтической баллады. Как Батюшков и Жуковский, как Шиллер и Шамиссо, романтик Мицкевич не осознает культурно-исторической осмысленности внешних элементов поэтической формы; она, эта форма, должна лишь отвечать субъективному вкусу и намерениям поэта в данный момент, отвлеченной идее гармонии и красоты. Пушкин смотрит на форму, и даже на сугубо внешние ее черты, иначе: для него форма насквозь пронизана содержательностью, в ней нет и не может быть ничего нейтрального, заменимого, она, собственно, и есть содержание, ибо голое смысловое содержание, лишенное единственно соответствующей ему формы, для Пушкина оказывается – как это ни парадоксально – пустым, опустошенным, то есть в конечном счете неполноценным «содержанием».
Мицкевич довел до предела романтические черты, заложенные в «Гюзла»; Пушкин постарался начисто их устранить и пробиться к реальному народному творчеству западных славян, просвечивавшему сквозь тексты Мериме. Пушкина в 1828–1834 годах «местный колорит» французских романтиков интересовал меньше всего. Его привлекали не «нравы», не экзотика, не декорации романтической «оперы», но историческое своеобразие минувших эпох, национальные особенности разных народов, иначе – строй сознания людей разных времен и наций. Пушкина в неизмеримо большей степени, чем его предшественников (Востокова или Катенина), занимали вопросы не только просодии, не только стиля, но и воссоздания национальных и исторических характеров, требующих в каждом отдельном случае лишь одного, строго определенного стихового и, шире, стилистического решения.
До Пушкина содержание и форма поэзии были в большей или меньшей степени разъединены, между ними образовывался некий зазор, приводивший к известной автономности элементов внешней формы, – прежде всего это относится к метру, ритму, лексическому строю стихов. Только в реалистическом творчестве Пушкина все без исключения внутренние и внешние элементы произведения оказались сведенными в систему, управляемую всевластными закономерностями. Смысл, стиль, звук – эти три компонента поэтического слова в поэзии Пушкина образовали нерасторжимое единство. Способность к перевоплощению, «протеизм», всемирная отзывчивость Пушкина – результат реалистической концепции искусства слова, ведущей к гармонии содержания и всех элементов внутренней и внешней формы.
9
Первая треть XIX века в России – золотая пора и поэзии в целом, и поэтического перевода. За этот недолгий для истории срок – от рождения до смерти Пушкина – переводческое искусство, только подготовленное творчеством драматургов, одо– и баснописцев прошлого столетия, прошло путь огромный и невиданно стремительный. Оно уже имело таких мастеров, как Жуковский и Батюшков, Баратынский и Иван Козлов, Крылов и Востоков, оно обогатилось стихами Мерзлякова и В. Туманского, Э. Губера – первооткрывателя «Фауста» – и Дельвига, Кюхельбекера и Тютчева, Шевырева, Раича, Катенина и Дмитриева… Оно достигло высокой реалистической зрелости в поэзии Пушкина. Благодаря усилиям многочисленных переводчиков-поэтов в русскую литературу вошли как полноправные ее участники Гомер, Анакреон, Гораций, Тибулл, Вольтер, Парни, Корнель, Андре Шенье, Байрон, Саути, Вальтер Скотт, Томас Мур, Шиллер, Гете, Уланд, Тассо, Ариосто; русская поэзия начала знакомиться с фольклором других народов – благодаря Востокову, Катенину и, конечно, Пушкину. Это была пора радостных открытий множества неведомых дотоле поэтических миров – правда, пока еще только в пределах Европы. Профессионалов-переводчиков в те годы не было; были поэты, которые писали стихи – свои или переводные. У одних собственное творчество преобладало над переводческим, другие больше переводили, чем писали сами, – как Жуковский, И. Козлов, Востоков, Раич, – но каждый из них мог сказать словами Жуковского: «У меня почти все чужое, и все, однако, мое». Последними в этой блестящей плеяде были три поэта, которые внесли немало в историю русского романтического перевода, – Лермонтов, Полежаев, Тютчев. На этом непрерывная традиция оборвалась.
Начиная с 40-х годов русская поэзия переживала серьезный кризис. Герцен считал, что ее вытеснила проза около 1842 года: «Кольцов и Лермонтов, – писал он, – вступили в литературу и скончались почти в одно и то же время. После них русская поэзия онемела»[47]47
А. И. Герцен, Полное собрание сочинений, т. 7, М., 1956, с. 227.
[Закрыть].
Онемела – это, пожалуй, сказано слишком сильно. Факт, однако, таков: поэзия напряженно (и часто безуспешно) искала новых путей – ей нужно было размежеваться с великой прозой этих десятилетий, очень полно выражавшей интересы общества. Одним из вновь обретенных путей было творчество Некрасова, другим – творчество Фета.
Поэтический перевод не стоял на месте – русская литература продолжала обогащаться за счет других национально-поэтических культур. Переводчики развивали дело Пушкина – они пытались завоевать для русского языка и стиха всё новые области. Особенностью наступившей эпохи было то, что перевод все больше отделялся от оригинального творчества, все больше превращался в самостоятельную профессию. Характерны фигуры Струговщикова, Ф. Берга, Костомарова, Мина – и они, и многочисленные их собратья были профессионалами-переводчиками. Пушкин, поставивший в центр внимания национально-исторические особенности переводимого автора, открыл дорогу к переводческой профессии, – в этом смысле названные стихотворцы шли в направлении, предуказанном Пушкиным. Но они не обладали ни достаточным талантом, ни отчетливым сознанием своих художественных задач. Некоторые из них сочли необходимым опровергнуть субъективного, своевольного Жуковского и создать более верное, более отвечающее реальности, чем лирическому чувству, отражение поэзии Гете и Шиллера. Со стороны и Струговщикова и Ф. Миллера это оказалось попыткой с негодными средствами; у каждого из них были удачи, но Жуковского им преодолеть не удалось.
Пушкин тоже спорил с Жуковским: в переводах он, Пушкин, отступал на второй план, предоставляя слово автору, – как поэтическая личность Пушкин был достаточно велик, чтобы найти в себе и Вольтера, и Парни, и Шенье, и Анакреона. У его эпигонов, пытавшихся опровергнуть Жуковского, личность переводчика тоже не доминировала – но лишь потому, что ее у них не было совсем. Струговщиков после Жуковского переводил Шиллера и Уланда, но уже Дружинин беспощадно обличил убогость его стихов. Ф. Миллер, видимо, вполне серьезно полагал, что в читательском сознании перевод Жуковского будет заменен его «Царем лесов»:
Кто скачет сквозь ветер под мраком ночным?
Отец запоздавший с малюткой своим.
Заботливо сына он к сердцу прижал,
От холода ноги его согревал…
Как бы Ф. Миллер ни стремился к объективности, такими стихами он никого убедить не мог.
И все же сама по себе тенденция, ориентированная на Пушкина и имевшая конечной целью по возможности достоверней передать средствами русского стиха иноязычных авторов в полном объеме их наследия, была плодотворной. Следует особо отметить издания, осуществленные крупным литературным деятелем второй половины XIX века Н. В. Гербелем, – своды стихов и поэм Шиллера, Байрона, Гете в переводах русских писателей, снабженные тщательно составленными библиографическими указателями и включавшие тексты почти всех художественно значимых переводов одного и того же произведения; в середине 70-х годов Гербель выпустил капитальные антологии славянских, немецких и английских поэтов «в биографиях и образцах», для которых многие стихи были переведены специально. Сам Гербель был поэтом более чем скромного дарования (хотя известный интерес представляют его переводы из славянских поэтов), но его литературно-организационная и редакторская деятельность еще не оценена по заслугам.
В числе поэтов-переводчиков этих десятилетий были незаурядные таланты, поднявшиеся над общим уровнем. Две книги Н. В. Берга – «Сербские народные песни» (1847) и «Песни разных народов» (1854) – открыли русской литературе неизвестные ей фольклорные богатства многих стран; немецкий филолог Якоб Гримм писал в предисловии к «Сербской грамматике» Вука Стефановича: «Если кто-нибудь попробует перевести эти стихи на русский, на богемский, – все их очарование, все их неподражаемое простодушие неминуемо будет ослаблено или улетучится»[48]48
Wuk’s Stephanowitsch kleine serbische Grammatik, Leipzig – Berlin, 1824, S. XX.
[Закрыть]. Н. В. Берг опроверг скепсис Гримма – в его переводе не только сербские, но и многие другие песни обрели полноценную вторую жизнь. Берг разработал свою теорию перевода народных песен, которую изложил в обширном предисловии к «Песням разных народов», где, между прочим, говорится: «Если станете ловить каждый изгиб, каждую подробность, вы свяжете себе руки. А тут, в народном языке, всего нужнее свобода слова. Нужно, чтобы все было народно, откликалось бы сердцу вашего народа точно так же, как откликается подлинник сердцу того, кому он свой, чтобы ничто чуждое не останавливало, не цепляло»[49]49
«Песни разных народов», M., 1854, с. XII.
[Закрыть]. При этом Берг не поддается соблазну русификации – он ориентируется на пример Пушкина, в частности на его перевод сербской песни «Бог ником дужан не ocтaje» (у Пушкина «Сестра и братья»), в котором поэт жертвует всем, что можно без ущерба опустить, но любой ценой оставляет такие места, которые как «звезды, светящиеся (в) памяти народа»; знаменитый стих о змеях – «Очи пиjу, у траву се Kpиjу» Пушкин передает: «Пьет ей очи, сам уходит к ночи», сохраняя структуру образа и стиха.
Н. Берг должен занять подобающее ему почетное место в истории русской переводной поэзии; особенно велика его доля в процессе усвоения нашей литературой сербского фольклора, – процессе, в котором до Берга участвовали Востоков и Пушкин, а через столетие после Берга – А. Ахматова.
Н. Берг, как сказано, стремился к тому, чтобы «ничто чуждое не останавливало, не цепляло», но он не переходил грань, за которой начинается безудержная русификация, разрушающая подлинник. Между тем такого рода метод был в то время до известной степени распространен. За десять лет до выхода «Сербских народных песен» в «Библиотеке для чтения» (1837, т. 25) появился перевод песни Роберта Бернса «John Barleycorn» («Джон Ячменное Зерно»), принадлежавший, видимо, самому О. И. Сенковскому, – он был озаглавлен «Иван Ерофеич Хлебное Зернышко» и начинался так:
Были три царя на Востоке,
Три царя сильных и великих,
Поклялись они, бусурмане,
Известь Ивана Ерофеича Хлебное Зернышко.
И вырыли они глубокую борозду, да сбросили его в нее,
И навалили земли на его головушку;
И клялись они, бусурмане,
Что извели Ивана Ерофеича Хлебное Зернышко…
Перевод Сенковского, «Мефистофеля николаевской эпохи» (Герцен), был литературным озорством – он игнорировал пушкинские идеи и открытия и как бы возвращал к антиисторизму XVIII века; развитие переводческого искусства шло, однако, в ином, реалистическом направлении. Два десятилетия спустя русский Бернс родился под пером замечательного мастера М. Михайлова – его перевод песни «Джон Ячменное Зерно» был напечатан в «Современнике» (1856, № 6) и, можно сказать, по принципам примыкал к незадолго до него появившимся «Песням разных народов» Н. Берга.
Вообще же М. Михайлов занял прочное место в русской переводной поэзии. Он не был создателем новых методов или теорий, но в пределах уже утвердившейся реалистической системы сделал многое. Современники были обязаны ему возможностью прочесть в художественно убедительном воссоздании трех великих иностранных поэтов, каждый из которых особенно труден для перевода, потому что близок к фольклорной стихии своего народа: это – Гейне, Беранже[50]50
Правда, из почти шести десятков песен Беранже, которые перевел Михайлов, лишь два были напечатаны при его жизни; около половины увидело свет только в советское время.
[Закрыть] и Бернс; сквозь их поэзию русским читателям открылись народные песенные миры Германии, Франции и Шотландии. Можно сказать, что Берг и Михайлов сделали одно общее дело неоценимой важности: они приобщили современников к фольклорно-национальной культуре почти всей Европы. Они не были одиноки: в этом труде участвовали другие литературные деятели – Д. Минаев (сербские и болгарские песни), Н. Гербель (украинские) и такой ярко талантливый поэт, как Л. Мей (волынские думы, песни моравские, руснацкие и др.). Последний – в высшей степени характерная фигура в литературе 50-х годов, когда интерес к отечественному и иностранному фольклору необычайно возрос в филологической науке и поэзии и когда этому интересу отдали серьезную дань многие, подчас весьма чуждые друг другу поэты, даже относившиеся к разным идеологическим лагерям. Увлечение Мея фольклором сказалось не только на его оригинальном творчестве поэта и драматурга, но и – в особенности – на его деятельности переводчика. Недаром Добролюбов и вообще считал, что «в поэтической деятельности г. Мея всего замечательнее переводы, представляющие замечательное разнообразие, которое не лишено, впрочем, некоторого внутреннего единства…»[51]51
Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6-ти томах, т. 1, М., 1934, с. 300.
[Закрыть]. Это единство – в живом понимании народных черт тех еврейских, польских, украинских, греческих, французских, немецких, моравских песен и стихотворений, которые он, хорошо владея многими языками, переводил с оригинала (в отличие, например, от Д. Минаева, владевшего только французским). При всем своем отличии от поэтов некрасовской школы, Мей как переводчик был близок к ним, – и он тоже переводил Беранже (и других поэтов-песенников – таких, как П. Дюпон и Г. Надо), стремясь, по справедливому замечанию исследователя, «сознательно подчеркнуть тематическую и идейную злободневность своих переводов… Установка на неприкрашенный, „прозаический“, предельно точный язык реальной жизни, особая живость и заразительность веселых „куплетных“ интонаций, задорный, вызывающий тон отличают лучшие из меевских переводов».[52]52
Г. Фридлендер, Л. А. Мей. – Л. А. Мей, Избранные произведения, «Б-ка поэта» (М. с.), 1962, с. 54.
[Закрыть]
Все же наиболее крупной фигурой среди поэтов-переводчиков 50—60-х годов был уже упомянутый М. Михайлов, последовательно воплотивший в переводе, которым он занимался не от случая к случаю, а как профессионал, принципы некрасовской поэтической школы. Михайлов оставил огромное и до сих пор не до конца оцененное наследство – переводы стихотворений и поэм более чем шестидесяти поэтов (античных, западноевропейских, славянских), а также многочисленных народных песен. Он видел главную задачу поэта-переводчика в том, чтобы «познакомить как можно ближе, сколько позволяют его силы, с избранным им подлинником читателей, лишенных возможности узнать сочинение в оригинале»[53]53
«Русские писатели о переводе», с. 434.
[Закрыть], и таким образом расширить кругозор публики, развивать, обогащать и совершенствовать русский поэтический язык. Понимая, что «форма постоянно обусловливается содержанием» и что в ней «не может быть ничего произвольного»,[54]54
М. Л. Михайлов, Сочинения в 3-х томах, т. 3, М., 1958, с. 62.
[Закрыть] Михайлов считал вредным всякое приспособление к привычным для читателя формам, всякие «обыкновенности», – он резко осуждал переводческую практику Э. Губера (которого «пугала в подлиннике оригинальность образов и выражений»[55]55
Возможно, что тут М. Михайлов полемизировал с анонимной статьей в «Отечественных записках» (1839, № 1), которая возвышала губеровский перевод «Фауста» именно за то самое, за что Михайлов порицал: «Легкий и плавный стих, – писалось в рецензии, – говорит нам, что это все вошло в душу переводчика, и вылилось как бы невольно точно так же, как в восторженную минуту выливаются собственные душевные страдания». Рецензент высказывает лишь один упрек: «Жаль, что он везде старается удержать размеры подлинника». Понятно, как мог такой упрек обозлить Михайлова!
[Закрыть]) и Н. Грекова (который «прежде всего заботился о гладкости стиха… везде на первом плане у него гладкость, плавность и текучесть своих собственных стихов»); он видел главное достоинство переводного произведения в том, что оно способно привить своей поэзии далекие от нее и казалось бы неосуществимые в ней образные и метрические новшества: «…сила поэтическая, – писал он в программной статье 1859 года об издании Н. В. Гербеля „Шиллер в переводе русских писателей“, – способна усвоять языку самые, по-видимому, чуждые ему формы. Что, кажется, может быть менее русского, чем пятистопный ямб для драм, усвоенный нам тем же Жуковским в „Орлеанской деве“ и окончательно утвержденный „Борисом Годуновым“ Пушкина и другими драматическими его отрывками? Но вот что значит твердость руки гения, распоряжающегося языком, как покорным своим орудием»[56]56
М. Л. Михайлов, цит. изд., т. 3, с. 50–51.
[Закрыть]. Эта позиция вела к тому, что Михайлов высоко поднимал авторитет поэтов-переводчиков, подобных М. Вронченко, написавшему в предисловии к своему переводу «Фауста» (1844) слова, которые Михайлов рекомендовал «заучить большей части наших поэтов»: «При переводе обращалось внимание: прежде всего на верность и ясность в передаче мыслей, потом на силу и сжатость выражения, а потом на связность и последовательность речи, так что забота о гладкости стихов была делом не главным, а последним»[57]57
М. Л. Михайлов, цит. изд., т. 3, с. 67.
[Закрыть]. В особенности ценил Михайлов деятельность Д. Мина: «По силе стиха, по мастерству, с каким владеет он языком, по глубокому такту, позволяющему ему уловлять и передавать главный характер подлинника, нашего переводчика Данта, Крабба и „Песни о колоколе“ мы не обинуясь назовем первым после Жуковского переводчиком»[58]58
Там же, с. 49.
[Закрыть]. Эти оценки Вронченко и Мина (особенно первая) явно преувеличены, они более отвечают абстрактной логике михайловской теории, чем объективной истине. Но Михайлову было особенно важно выдвинуть вперед ценность профессиональной деятельности добросовестного переводчика-просветителя. Заметим, кстати, что, борясь за привитие нового, Михайлов стоял на пушкинской позиции – «новое на основе старого», а не на шевыревской – «новое вопреки старому».
10
Общественный подъем 60-х годов выдвинул новые требования к искусству поэтического перевода, придав и ему политическую актуальность. Он захватил даже такого поэта, как В. Бенедиктов, в успехе которого Белинский видел зловещий признак обывательщины, господствовавшей во вкусах русской публики. Но вот в пору общего подъема Бенедиктов переводит поэму Огюста Барбье «Собачий пир», созданную французским поэтом в 1830 году и обличавшую французских буржуа, которые коварно захватили плоды Июльской революции. И перевод Бенедиктова, дышащий политической страстью, оказывается одним из удивительных творений русского переводческого искусства, – это, несомненно, лучший перевод из Барбье, принадлежавшего к числу поэтов, которых больше всего ценили и переводили наши демократы 50-х и 60-х годов. Бенедиктов перевел поэму Барбье сразу же после смерти Николая I – тирана, которого Герцен метко назвал «тормозом» русской культурной жизни. Услышав «Собачий пир» от самого переводчика, Тарас Шевченко был потрясен; в дневнике своем он записал: «Бенедиктов, певец кудрей и прочего тому подобного, не переводит, а воссоздает Барбье. Непостижимо! Неужели со смертию этого огромного нашего Тормоза, как выразился Искандер, – поэты воскресли, обновились? Другой причины я не знаю… Я дивился и ушам не верил»[59]59
Т. Г. Шевченко, Дневник, М., 1939, с. 162–163.
[Закрыть].
Т. Шевченко был изумлен творческим взлетом Бенедиктова, который «не переводит, а воссоздает Барбье». Но ведь это был взлет не только «певца кудрей». В те же годы после смерти «тормоза» появились переводы В. Курочкина из Беранже – переводы, которые тоже были «воссозданием», или даже «созданием» русского Беранже. Задолго до Курочкина песни Беранже переводил автор популярных водевилей Д. Т. Ленский, но цензура решительно противилась опубликованию произведений, которые «по революционному, нечестивому и безнравственному духу» были «противны цензурным правилам» (так писал петербургский цензор в 1831 году). Некоторые переводы Ленского увидели свет в «Современнике», в 1857 году. Но ни они, ни переводы А. Григорьева не сделали Беранже русским поэтом. Переводы Курочкина, печатавшиеся в журналах середины 50-х годов и впервые вышедшие книгой в 1858 году, сразу завоевали французскому песеннику огромную аудиторию. Метод Курочкина был своеобразным. П. И. Капнист был прав, когда писал: «Обладая легким, гибким и звучным стихом, г. Курочкин посвятил себя преимущественно не переводам, а переделке на русский лад песен Беранже. Сохраняя часто дух подлинника, он очень ловко умеет применять разные куплеты Беранже к нашим современным обстоятельствам, так что, в сущности, Беранже является только сильным орудием, и под прикрытием его имени г. Курочкин преследует свои цели…»[60]60
Цит. по кн.: Мих. Лемке, Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов, СПб., 1904, с. 483.
[Закрыть].
Курочкина меньше всего заботила академическая точность: Беранже и в самом деле был для него, как пишет советский исследователь, «новым русским поэтом из лагеря „Современника“ и „Искры“»[61]61
Ю. Данилин, Беранже и его песни, М., 1958, с. 224.
[Закрыть]. И все же при этом Курочкин был не подражателем, а переводчиком – все 89 песен, воссозданные им с разной степенью близости, не подражания, а именно переводы. Только исходил Курочкин из необходимости произвести на своего, русского читателя такое же впечатление, какое испытывает француз, читая подлинные песни Беранже. Так Курочкин понимал задачи перевода, и Н. Добролюбов соглашался с подобной художественно-политической установкой, когда писал в 1858 году: «Большей частью переводы его верно воспроизводят то общее впечатление, какое оставляется в читателе пьесою Беранже… Курочкин лучший у нас переводчик Беранже… переводы его принадлежат к числу лучших поэтических переводов, существующих в русской литературе»[62]62
Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6-ти томах, т. 1, с. 473.
[Закрыть].
Соратник Курочкина по «Искре» Д. Минаев, который сам придерживался иных переводческих принципов, тоже отдавал должное создателю русского Беранже, называя его «одним из немногих наших переводчиков, постигших, что перевод иностранных поэтов только тогда имеет цену и значение, когда приобретает достоинство оригинального, самобытного произведения… Переводчик обязан передавать только мысль, впечатление, букет подлинника – иначе он будет бесцветным тружеником, педантом буквы… Внешняя близость к подлиннику только делает всякий перевод безличным… В переводах В. Курочкина из Беранже отразилось именно то самобытное творчество, которое не гонится за точной передачей мелких деталей подлинника, но передает его внутреннюю силу, его душу и его оригинальность»[63]63
«Дело», 1869, № 5. Цит. по кн.: «Русские писатели о переводе», с. 483–484.
[Закрыть].
Прямым антиподом Курочкина был А. А. Фет, который в своем переводческом творчестве стремился к тому, что Д. Минаев называл – может быть, имея в виду именно его – «внешней близостью к подлиннику», и который был именно «педантом буквы», – против таких и сражались поэты-искровцы. В предисловии к своему переводу «Энеиды» Фет сам говорил, что «при переводе мы постоянно исполнены опасения, как бы внешнее совершенство русского стиха не отстало от его буквальности, хотя в решительную минуту выбора, не задумавшись, всегда готовы склонить весы на сторону последней»[64]64
Вергилий, Энеида, СПб., 1888, Предисловие, с. 6.
[Закрыть]. Этот принцип был для Фета незыблемым – за более чем 20 лет до перевода «Энеиды» он высказывался еще радикальнее, отвергая гениальный лермонтовский перевод из Гете («Горные вершины») как неверный: «Я всегда был убежден в достоинстве подстрочного перевода и еще более в необходимости возможного совпадения форм, без которого нет перевода»[65]65
Цит. по кн.: «Русские писатели о переводе», с. 328.
[Закрыть].
Позиция Фета отражала его общую установку относительно поэтического слова. Курочкин видел в стихотворении орудие общественной борьбы, а в переводимом иноземном песеннике – политического союзника; Фет, переводя, хотел по-русски воспроизвести красоту, недоступную читателю. Он стремился передать черты языковой формы подлинника, видя в этой форме важнейшую особенность поэтического произведения. «В своих переводах я постоянно смотрю на себя как на ковер, по которому в новый язык въезжает триумфальная колесница оригинала, которого я улучшать – ни-ни», – писал Фет Я. Полонскому 23 января 1888 года. Даже в лучших своих работах Фет предпочитал подстрочную точность, или, как он сам говорил, буквальность, подлинной высокой художественности. По замечанию А. В. Федорова, «Фет справедливо отмечал глубокую связь поэтического образа с его языковой основой, но из этого факта он делал совершенно ложный вывод, оправдывая насилие над языком перевода, допускал навязывание ему совершенно чуждых грамматических форм»[66]66
А. В. Федоров, Русские писатели и проблема перевода. – «Русские писатели о переводе», с. 21.
[Закрыть].
Ни В. Курочкин, ни А. Фет не могли определить дальнейших путей переводческого искусства: каждый из них зашел слишком далеко в реализации собственной системы. Обе эти системы по существу были полемическими по отношению друг к другу.
В целом можно сказать, что поэтический перевод второй половины XIX века развивался по следующим линиям:
1. Политическая: поэты-искровцы (Курочкин, Минаев, Буренин и др.) используют западных авторов для пропаганды своих революционно-демократических идей; под прикрытием громкого иностранного имени они создают русскую политическую поэзию.
2. Общественно-просветительская: профессиональные переводчики (Н. Берг, Михайлов, Мин), литературные деятели широкого плана (Гербель) ставят себе целью познакомить публику со всем многообразием иноязычной поэзии, расширить идейный кругозор читателей, обогатить русскую поэзию новыми художественными формами.
3. Поэтически-просветительская: поэты (Фет, Мей, Майков), работая профессионально в области стихотворного перевода, стремятся донести до русского читателя то представление о красоте, которое свойственно поэтам разных эпох и народов и разным языкам, более или менее далеким от русского.
4. Чисто поэтическая, лирическая: поэты (А. Толстой, Апухтин) выражают собственные поэтические замыслы, переводя близких им иноязычных авторов, – их переводы становятся до конца понятны лишь в контексте их оригинального творчества.
Конечно, эти линии нередко переплетались между собой, сливались и снова расходились. Например, Фет как переводчик А. Шенье и Гейне или Мей, переводивший «Слово о полку Игореве», Шевченко и Мицкевича, становились на путь, который мы назвали лирическим. Михайлов, воссоздавая «Белое покрывало» М. Гартмана или того же Беранже, приближался к политической линии искровцев. Н. Берг, экспериментируя в области русской просодии в переводах, скажем, французских народных песен, приближался к линии поэтически-просветительской. И все же в целом намеченная схема отражает общие направления, по которым распределялись поэты-переводчики рассматриваемой поры.
Каждое из них получило в 80—90-е годы дальнейшее развитие. Так, линии политическая и общественно-просветительская соединились в творчестве И. Ф. и А. А. Тхоржевских, печатавшихся под псевдонимом Иван-да-Марья. В начале 90-х годов Тхоржевские подготовили замечательное издание полного собрания песен Беранже, в котором были использованы переводы Д. Ленского, В. Курочкина, М. Михайлова, Л. Мея и др. и для которого Тхоржевские перевели почти все остальные песни, еще не существовавшие по-русски. Лирическая линия соединилась с поэтически-просветительской в творчестве выдающегося поэта и переводчика конца XIX – начала XX века И. Анненского, который открыл русскому читателю множество еще неведомых ему французских лириков второй половины века – не только Бодлера (уже ставшего известным по переводам П. Якубовича), но и Верлена, Рембо, Леконта де Лиля, Сюлли-Прюдома, Малларме, Роллинá, Корбьера, Жамма. При этом Анненский был переводчиком действительно лирическим, и более того – крайне субъективным. Достаточно в качестве примера дать одну строфу из сонета Бодлера «Старый колокол». В оригинале так: «Зимними ночами, сидя у огня, который трепещет и дымит, горько и отрадно внимать тому, как под перезвон, поющий в тумане, медленно поднимаются далекие воспоминания». Современный нам поэт-переводчик В. Левик пишет (1965):
Есть горечь нежная: в безмолвии ночном
Внимать медлительным шагам воспоминаний,
Когда трещит камин, и вьюга за окном,
И колокольный звон разносится в тумане.
Не то у Анненского:
Я знаю сладкий яд, когда мгновенья тают
И пламя синее узор из дыма вьет,
А тени прошлого так тихо пролетают
Под вальс томительный, что вьюга им поет.
У Анненского все окутано тайной и в то же время слито в единстве переживания. У В. Левика компоненты бытия отделены друг от друга: вот ночное безмолвие, вот воспоминания, вот камин, за окном – вьюга, в тумане разносится колокольный звон. У Анненского тени прошлого не отделены от вьюги, «пламя синее» не упрятано в прозаический камин, и с «узором из дыма» сливаются воспоминания. Бодлер дает основания для того и другого прочтения; сейчас нам важно показать, какова переводческая система И. Анненского, предпочитающего целое – отдельным элементам, единство переживания – точности в перечислении реальных признаков бытия, музыкальное движение – зрительному образу. Переводя Бодлера, Анненский вовсе и не пытался воспроизвести его философию, он выражал через него – себя. Ведь это он призывал сам себя:
Ты чаши яркие точи
Для целокупных восприятий.
В каждом стихотворении иностранного поэта Анненский прежде всего старается обрести это столь ценимое им «целокупное восприятие»; на той же «целокупности» основано прочтение самим Анненским всякого стихотворения, которое привлекало его как переводчика.