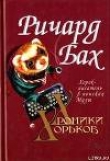Текст книги "Мастера русского стихотворного перевода. Том 1"
Автор книги: Александр Пушкин
Соавторы: Иван Тургенев,Михаил Михайлов,Михаил Лермонтов,Алексей Толстой,Николай Карамзин,Василий Жуковский,Иван Барков,Федор Тютчев,Евгений Баратынский,Афанасий Фет
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Для Жуковского гекзаметр был в данном случае метрической формой, стилистически противоположной шестистопному ямбу, который влек за собой все признаки классической традиции. Гекзаметр был стихом, освобожденным от обветшалых штампов классицизма и сентиментализма, – он давал простор для индивидуального творчества; традиция, уже закрепившаяся к этому времени за ним, была плодотворной и ясной. Жуковского в первую очередь интересовали не историко-культурные ассоциации, рождавшиеся этим стихом; он (даже в 1839 году) мыслил еще в жанрово-типологических категориях. Романтики, выдвинувшие свою теорию идеала, искали в ней обоснование права художника на творческую свободу. Классики тоже руководствовались представлением об идеале – они видели таковой в античном искусстве (как они его понимали), и приближением к идеалу было для них простое подражание. Для романтика идеалом является некое духовное совершенство, дающееся человеку лишь в откровении вдохновенного порыва, – то есть субъективное, для каждого художника индивидуальное начало, логически непостижимое, раскрывающееся только гению. Идеал, таким образом, содержится в замысле поэта, а не в воплощении этого замысла. Расхождение между замыслом и произведением – одна из важнейших тем романтического искусства, источник трагедии художника. Очень точно пишет об этом В. Б. Микушевич: «Замысел приобрел в глазах романтиков обособленное значение, поскольку именно замысел заключает в себе идеал данного произведения, и в нем, стало быть, проявляется идеал искусства вообще»[30]30
В. Микушевич, Из истории романтического перевода («Ундина»), 1964, рукопись, с. 17.
[Закрыть].
Руководствуясь – вольно или невольно – принципом романтической идеализации, Жуковский усиливает музыкальную стихию в переводимых им стихотворениях иностранных поэтов. Еще в 1832 году Н. А. Полевой обращал внимание «на то, чем отличается Жуковский от всех других поэтов русских: это музыкальность стиха его, певкость, так сказать – мелодическое выражение, сладкозвучие… Его звуки – мелодия, тихое роптание ветерка, легкое веяние зефира по струнам эоловой арфы. Будучи в этом самобытен, Жуковский никогда не утомляет – нет! он очаровывает вас, пленяет дробимостью метра, мелкими трелями своих звуков»[31]31
Н. А. Полевой, Баллады и повести Жуковского. – «Московский телеграф», 1832, № 20, с. 543–544.
[Закрыть].
Теория поэтического слова, развернутая Жуковским в 1847–1848 годах, говорит о том, что на протяжении всего творческого пути он в принципе не изменил отношения к поэтическому искусству, и подводит нас к причинам, по которым музыкальная сторона слова оказалась выдвинутой на первый план. Так, в статье 1847 года «О поэте и современном его значении (письмо к Н. В. Гоголю)» Жуковский устанавливает превосходство поэзии над всеми искусствами, потому что слово, по его мнению, «непосредственнее всех их из души истекает». Слово – в понимании и терминологии Жуковского – отрывок «чего-то целого», недостижимого единства «слова божия», логоса; стихотворение – тоже отрывок «чего-то целого», мгновение в потоке душевной жизни человека. Именно в этом понимании и слова и поэтического произведения как «отрывков» рационально непостигаемой «божественной цельности» – корень музыкальных поисков Жуковского: только «музыка слова» способна раскрыть недостижимые глубины духа, которые являются сущностью и мира, и переводимого поэтического творения.
Верный своему эстетическому методу, Жуковский систематически усиливает музыкальный потенциал стиха, то есть его субъективный элемент. Он в большей степени, чем Шиллер, пользуется образно-звуковыми возможностями слова. В результате, например, стихотворение «Торжество победителей», являющееся у Шиллера миниатюрной многоголосной драмой, в которой участвуют многие персонажи, отличающиеся друг от друга речевой манерой (Калхас, Улисс, Неоптолем, Диомид, Нестор, Кассандра), у Жуковского становится патетическим монологом – в его тексте исчезают различия в речи персонажей и остается благозвучная и велеречивая манера лирического рассказчика.
Но вот другая, и как будто неожиданная сторона творчества Жуковского. В 1843 году он писал П. Плетневу, одному из редакторов «Современника»: «Я еще написал две повести ямбами без рифм, в которых с размером стихов старался согласить всю простоту прозы, так чтобы вольность непринужденного рассказа нисколько не стеснялась необходимостью улаживать слова в стопы. Посылаю вам одну из этих статей („Матео Фальконе“) для помещения в „Современнике“. Желаю, чтобы попытка прозы в стихах не показалась вам прозаическими стихами»[32]32
В. А. Жуковский, Сочинения, т. 6, СПб., 1878, с. 591.
[Закрыть].
«Попытка прозы в стихах» – характерная для Жуковского формула. Еще в начале своего пути, в цитированной выше статье «О басне и баснях Крылова» (1809), он спрашивал: «Что называю дарованием поэта?» – и, ответив, что, прежде всего, воображение, продолжал: «…способность (в особенности необходимая баснописцу) рассказывать просто, приятно, без принуждения, но рассказывать языком стихотворным, то есть украшая без всякой натяжки простой рассказ выражениями высокими, поэтическими вымыслами, картинами и разнообразя его смелыми оборотами»[33]33
В. А. Жуковский, Полное собрание сочинений в 12-ти томах, т. 9, с. 72.
[Закрыть].
Значит, рассказ стихотворный – в отличие от простого, то есть прозаического – украшен «высокими выражениями» и «смелыми оборотами», «картинами» и т. д. Жуковский в 1809 году не видит принципиальной, качественной разницы между прозой и стихами, и в этом смысле он на позициях последовательно классицистических: стихи – это украшенная, орнаментированная проза. С такой установкой Жуковского связана его приверженность к переводу прозы стихами.
С другой же стороны, Жуковский как никто владел русским песенным стихом, по самой своей сущности противоположным прозе; даже балладному, повествовательному стиху он постоянно придавал напевно-мелодический характер. Можно сказать, что в этом двойственном отношении к стиху, вообще к поэтическому искусству проявилась противоречивость Жуковского, у которого парадоксально сочетались унаследованные им классицистические идеи и вполне органично усвоенные и им самим разработанные принципы романтизма.
Типологическое художественное мышление Жуковского имело для его времени и свои преимущества. Именно благодаря этой «типологичности» Жуковский сумел построить в русской литературе некий целостный образ западноевропейского, точнее – германского романтизма, о котором он и сам нередко говорил иронически-обобщенно; например, в связи с «Одиссеей»: «Я (во время оно родитель на Руси немецкого романтизма и поэтический дядька чертей и ведьм немецких и английских) под старость загладил свой грех и отворил для отечественной поэзии дверь эдема, не утраченного ею, но до сих пор для нее запертого…»[34]34
В. А. Жуковский, Сочинения, т. 6, с. 541.
[Закрыть]. Этот целостный образ романтизма как особого художественного мира имел в виду Белинский, когда, оценивая вклад Жуковского в русскую культуру, писал: «Жуковский был переводчиком на русский язык не Шиллера или других каких-нибудь поэтов Германии и Англии: нет, Жуковский был переводчиком на русский язык романтизма средних веков, воскрешенного в начале XIX века немецкими и английскими поэтами, преимущественно же Шиллером. Вот значение Жуковского и его заслуга в русской литературе»[35]35
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. 7, М., 1955, с. 167.
[Закрыть].
Подобно Карамзину, Жуковский считал переводческую деятельность лучшей школой поэта – всякого поэта, как бы он ни был талантлив и своеобразен. Перевод помогает расширению стилистического диапазона, развивает поэтическую речь, обогащает ее за счет открытий иностранных поэтов. Среди друзей-современников были у Жуковского, однако, и противники, даже, можно сказать, творческие антиподы. Так, противоположной точки зрения придерживался П. А. Вяземский. Жуковский не мог бы согласиться с Вяземским, который приравнивал поэтический перевод к «голому, но подробному чертежу», имеющему значение лишь информационное и не способному пробудить в читателе живое эстетическое переживание. Вяземский не раз высказывал свое восхищение талантом Жуковского, но даже и при этих обстоятельствах подчеркивал несогласие с его принципами. «Почву и климат» страны переводимого поэта Вяземский пытался сохранить не столько воссоздавая стилистическую систему подлинника (как делал Жуковский), сколько калькируя фразеологию и синтаксический строй иностранного языка. Теория и практика Вяземского уводили поэтический перевод от того плодотворного пути, по которому шли поэты-романтики и позднее реалисты, создавшие русское искусство перевода стихов. Впрочем, у него нашлись последователи, пусть и не слишком многочисленные. Наиболее видным среди них оказался Фет, в XX веке – Шенгели, отчасти Брюсов, а также ряд поэтов-переводчиков, группировавшихся вокруг издательства «Academia». Однако главное направление русского стихотворного перевода шло мимо школы Вяземского; оно представлено именами Гнедича, Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Лермонтова, К. Павловой, А. Толстого, Бенедиктова (переводы из Барбье), Курочкина, а позднее, в XX веке, практикой Блока, Лозинского, Маршака и многих других.
6
«Батюшкову немного недоставало, чтобы он мог перейти за черту, разделяющую большой талант от гениальности. И вот почему он всегда находился под влиянием своего времени. А его время было странное время, – время, в которое новое являлось, не сменяя старого, и старое и новое дружно жили друг подле друга, не мешая одно другому. Старое не сердилось на новое, потому что новое низко кланялось старому и на веру, по преданию, благоговело перед его богами»[36]36
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. 6, М., 1955, с. 241.
[Закрыть].
Так писал Белинский о первых полутора десятилетиях своего века и о месте в нем Батюшкова. Как переводчику мы обязаны Батюшкову Эваристом Парни, который был французским поэтом большого темперамента и изящества, близким и к Вольтеру, и к стилю рококо; кроме того, Батюшков обогатил русскую поэзию своими переводами антологической лирики, в которой читателям впервые раскрылся внутренний мир грека, оказавшегося отнюдь не отвлеченной идеей человеческого совершенства, а простым и грешным земным существом, одним из многих представителей рода людского. Отмеченное Белинским сосуществование старого и нового, характерное для всей эпохи, в высшей степени свойственно и Батюшкову. С одной стороны, это старая стилистическая система классицизма – безличная, основанная на привычных словесных соединениях и опустошенных условных метафорах, с другой – новая система, гордость которой в индивидуальной неповторимости словосочетаний, в экспрессии живой образности: и то и другое живет как в оригинальной, так и в переводной поэзии Батюшкова, который явно сознает «гетерогенность» своей стилистики и играет на ней, извлекая из столкновения между старым и новым неожиданные эффекты. Этой стилистической противоречивостью Батюшков отличался от школы Жуковского с ее гармонической цельностью стиля. Эта же особенность Батюшкова предрекает пушкинскую многоплановость.
Батюшкова интересовал не сумрачный мир германского романтизма, как Жуковского, а светлое, легкое искусство французской элегии XVIII века и «нравственное бытие» эллинов, о которых С. С. Уваров в статье (написанной, очевидно, совместно с Батюшковым) говорил: «Для древних жизнь была все: для нас самая жизнь есть только переход к другому, совершеннейшему бытию. Они устремляли неизмеримую силу своего гения на кратковременное поприще настоящего; нас, может быть – против воли, сердце увлекает в невидимый, но известный край, где другое солнце, другое небо нас ожидают»[37]37
Сочинения К. Н. Батюшкова, т. 1, СПб., 1887, с. 424–425.
[Закрыть]. Таким образом, греческий тип красоты – не абсолютный идеал, каким он был для классиков, а лишь один из возможных типов. Само противопоставление «греки и мы» означает крах классицистической эстетики. Батюшков воплотил свое представление о множественности идеала в оссианических стихотворениях и переводах (например, поэмы Парни «Иснель и Аслега»), а также в переводах из греческой антологии. Воссоздавая стихи эллинских поэтов, Батюшков стремился к раскрытию внутреннего мира древних, далеких от его современника по формам конкретной образности, но близких ему по содержанию мышления. Преобладающее внимание к внутреннему миру ведет к пренебрежению внешней формой: Батюшков и не пытается воспроизвести элегический дистих подлинника, довольствуясь более или менее привычным разностопным ямбом или хореем. Психологический тип сознания (а также музыкальность русского стиха) для него важнее историко-культурной конкретности поэтических форм. Нежелание Батюшкова следовать античным размерам носило, видимо, программный характер: он стремился к музыкальности, гармонии, мелодичности поэзии и такие качества сообщал стиху наиболее эффективными средствами. Вряд ли случайна и другая особенность Батюшкова: подобно Жуковскому, он одним и тем же стихом передает различные формы подлинника, – в переводах из Тибулла он использует александрийский стих вместо древнегреческого элегического дистиха, а в переводе отрывков из «Освобожденного Иерусалима» Тассо или в подражании 4-й канцоне Петрарки («Вечер») тем же александрийцем заменяет итальянский одиннадцатисложный стих.
Перед русской поэзией стояла существенная задача – привести новое содержание в соответствие с формами стиха, которые должны были образовывать с этим содержанием органическое единство. Поиски Батюшкова шли в другом направлении, однако они тоже имели – как показала практика – огромное значение для становления и развития русской поэзии. Такова, например, борьба, которую вел Батюшков за благозвучие, гармонию, мелодичность поэтической речи. В сознании Батюшкова эта борьба носила характер лингвистический: сопоставляя русский язык с итальянским, он решительно предпочитал последний и не всегда отдавал себе ясный отчет в том, что сражается не против того или иного языка, а против определенного, исторически сложившегося поэтического стиля, против известной незрелости стихотворной речи. В письме Н. И. Гнедичу он в 1811 году спрашивал: «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы? Что за Щ, что за Ш, ШИЙ, ЩИЙ, ПРИ, ТРЫ? О варвары! А писатели? Но бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и на его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарки, из уст которого чтó слово, то блаженство»[38]38
Н. И. Гнедичу, 5 декабря 1811 года. – Сочинения К. Н. Батюшкова, т. 3, СПб., 1886, с. 164–165. Несколько лет спустя в другом письме Батюшков писал очень выразительно: «Не похож ли я на слепого нищего, который, услышав прекрасного виртуоза на арфе, вдруг вздумал воспевать ему хвалу на волынке или балалайке? Виртуоз – Тасс, арфа – язык Италии его, нищий – я, а балалайка – язык наш, жестокий язык, что ни говори!» (Н. И. Гнедичу, нач. июня 1817 года. – Там же, с. 457.)
[Закрыть].
Противопоставление итальянского языка грубому, немузыкальному русскому (а также другим северным языкам – немецкому и английскому) – постоянный мотив батюшковских статей. Это расхождение языков толкает Батюшкова на вывод, который он многократно повторяет: о непереводимости итальянской поэзии на другие языки. В статье об Ариосто и Тассо читаем: «Вы без малейшего усилия следуете за чародеем (Ариосто), вы удивляетесь поэту и в сладостном восторге восклицаете: Какой ум, какое дарование! А я прибавлю: Какой язык! Так, один язык италиянский (из новейших – разумеется), столь обильный, столь живой и гибкий, столь свободный в словосочинении, в выговоре, в ходе своем, один он в состоянии был выражать все игривые мечты и вымыслы Ариоста, и как еще? в теснейших узах стихотворства (Ариост писал октавами). Но перенесите этого чародея в другой век, менее свободный в мыслях, более порабощенный правилам сочинения, основанным на опытности и размышлении, дайте ему язык северного народа, какой заблагорассудите, английский или немецкий, например, и я твердо уверен, что певец Орланда не в силах будет изображать природу так, как он постигал ее и как описал в своей поэме, ибо – еще повторю – поэма его заключает в себе все видимое творение и все страсти человеческие… Язык у стихотворца то же, что крылья у птицы, что материал у ваятеля, что краски у живописца»[39]39
Сочинения К. Н. Батюшкова, т. 2, СПб., 1885, с. 150–151.
[Закрыть].
Здесь Батюшков в первую очередь говорит о различиях между языками, однако указывает и на различия другого рода – между стилистическими системами («перенесите этого чародея в другой век… более порабощенный правилам сочинения» – видимо, имеется в виду эпоха классицизма XVII–XVIII веков). Так или иначе, перевод Ариосто на «северный язык» кажется Батюшкову немыслимым. И он сам, цитируя в той же статье Тассовы октавы, переводит их для читателя прозой:
«Лежит конь близ всадника, лежит товарищ близ бездыханного товарища, лежит враг близ врага своего, и часто мертвый на живом, победитель на побежденном. Нет молчания, нет криков явственных, но слышится нечто мрачное, глухое – клики отчаяния, гласы гнева, воздыхания страждущих, вопли умирающих»[40]40
Там же, с. 155.
[Закрыть].
В том же 1815 году в статье о Петрарке тоже даны переводы прозаические, и Батюшков уже с полной определенностью говорит о непереводимости сонетов и канцон своего любимого лирика. При этом он ссылается на свойства итальянского языка, который характеризует как «очаровательный язык тосканский, исполненный величия, сладости и гармонии неизъяснимой…»[41]41
Там же, с. 171.
[Закрыть]. И в связи с поэзией Петрарки пишет: «Стихи Петрарки, сии гимны на смерть его возлюбленной, не должно переводить ни на какой язык, ибо ни один язык не может выразить постоянной сладости тосканского и особенной сладости музы Петрарковой»[42]42
Там же, с. 162.
[Закрыть].
Как бы там ни было, эти декларации не послужили Батюшкову основой для пессимистических заключений: он много и даже, можно сказать, неутомимо переводил стихи – в том числе произведения итальянских поэтов: Петрарки (1810), Тассо, Ариосто. К тому же через два года после цитированных статей он записал в своем дневнике рассуждение, в значительной мере опровергающее предыдущие: «Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию, и странно было бы русскому, или итальянцу, или англичанину писать для французского уха, и наоборот. Гармония, мужественная гармония не всегда прибегает к плавности. Я не знаю плавнее этих стихов:
На светло-голубом эфире
Златая плавала луна,
и пр.
и оды „Соловей“ Державина. Но какая гармония в „Водопаде“ и в оде на смерть Мещерского:
Задача поэта, согласно взгляду Батюшкова, – развивать и обогащать язык, который «у стихотворца то же, что крылья у птицы». При этом Батюшков сопоставляет музыкально-фонетические возможности русского и итальянского, не задумываясь, над специальными ассоциациями, связанными с той или иной стилистической системой. Он оперирует категориями не историческими, не стилистическими, но общеязыковыми: итальянский язык, каким он предстает в творениях великих поэтов, обладает такими средствами художественной выразительности, которые чужды русскому (а также немецкому и английскому). В русском же языке содержатся внутренние возможности, которые можно извлечь на поверхность, которые требуют обнаружения и совершенствования в поэтическом творчестве. Эти возможности можно развить, используя опыт древних итальянцев и отыскав в русском языке равноценные итальянским гармонию и мелодию. Однако, поскольку «каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию», следует найти в русском специфические, одному ему свойственные качества.
Читая 2-ю часть «Опытов в стихах и прозе», Пушкин в ряде мест отмечает гармонию батюшковских стихов. Так, против строк «Воспоминание» (1815 – в позднейших изданиях «Элегия») он пишет: «Последние стихи славны своей гармонией». Пушкин отмечает совершенство гармонии и в таких стихотворениях, как «Таврида», «Мечта», «Мои пенаты» («слог так и трепещет, так и льется – гармония очаровательна»), «Радость» («Вот батюшковская гармония»). Против строки из стихотворения «К другу» – «Любви и очи и ланиты» – Пушкин замечает: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков»[44]44
А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. 7, с. 674.
[Закрыть]. Вероятно, Батюшков был бы глубоко удовлетворен такой оценкой «маленького Пушкина», которому, как он писал, «Аполлон дал чуткое ухо», – ведь именно к обогащению русского поэтического языка итальянским звучанием он и стремился. «Итальянские звуки» Пушкин услышал в зияниях – стыке гласных и (любви и), в плавных л (лю—ла), в преобладании на ударных местах того же и. Подобного рода «итальянских звучаний» у Батюшкова встречается немало, в особенности в его переводах с итальянского и подражаниях. Так, в «Радости», отмеченной Пушкиным за гармонию и представляющей собой перевод стихотворения Джамбатисты Касти (1724–1803):
Мне лиру тиискую
Камены и грации
Вручили с улыбкою… —
двухстопный амфибрахий с дактилической клаузулой, избранный Батюшковым для этого перевода, дал ему возможность максимально насытить стих переливами гласных звуков (в особенности благодаря дактилическому окончанию).
Батюшков стремился к гармонии стиха, у иноязычных авторов он искал ее секретов, а в русском языке – особых, специфических свойств и средств для ее достижения. Однако гармония носила у него характер отвлеченный, в его системе это – идеальное свойство стиха.
Дальнейшие поиски русской поэзии шли в направлении точного, стилистически определенного слова, гармонии не вообще, а конкретной для каждой данной мысли, темы, эмоции. Такую конкретную гармонию открыл для русской поэзии Пушкин, который создал множество гармонических форм стиха применительно к разнообразнейшим вариантам смыслового и эмоционального содержания.
7
Новые темы, мысли, нравы, новое содержание требовали иных форм стихового выражения. Резко обострилось противоречие между эстетическими принципами романтического и, позднее, реалистического искусства – и традиционной формой александрийского стиха, которая в былое время считалась наиболее приближенной к отвлеченному, теперь уже развенчанному идеалу стиха.
В 1822 году П. А. Катенин развивает два аргумента, направленных против александрийского стиха; возражения его касаются не александрийского стиха как такового, но художественно неправильного всеобщего его применения, абсолютизации этого стиха как некоего поэтического идеала. Второй аргумент Катенина связан с необходимостью соблюдать единство содержания и формы; всякое содержание, по мнению Катенина, неизбежно требует особой, специфической формы. Споря с Катениным, Орест Сомов выдвинул принципиальное возражение против поисков эквиметрических решений в переводе иноязычных стихов; он отрицал эстетическую функцию стиховых форм, возводя их исключительно к свойствам того или иного языка. Не в форме стихов и не в числе стоп состоит совершенство хорошего перевода, а в том, чтобы сохранить дух и отличительные свойства поэзии подлинника. Орест Сомов не обнаруживает качественного различия между «мерами стиха»; никакая из них не связана для него с традициями, с тем или иным определенным содержанием. В сущности позиция Сомова соответствует позиции его современников – Жуковского и Батюшкова, которые тоже могли бы сказать, что поэт-переводчик «совершенно волен выбирать такую меру, которую почтет за лучшую и удобнейшую». Катенин в этом вопросе более строг, более историчен. Переводческая практика Катенина и, в частности, его отношение к вопросам метра и ритма связаны с его общеэстетической позицией[45]45
Дискуссия Катенин – Сомов шла на страницах «Сына отечества» (1822, №№ 9, 15 и 17).
[Закрыть].
Как переводчик иностранной поэзии, Катенин активно вводил в русскую литературу ей неведомые, казавшиеся чуждыми ей стили. Таковы, например, два существенных для нашей поэзии нововведения, являющихся, по сути дела, открытиями новых стилей – испанского народного романса и Дантовых терцин.
В споре Катенин – Сомов речь идет не только о вопросах метрических и даже не столько о них, сколько о проблеме строфической организации стихотворного повествования.
Рядом с именем Катенина в истории русской переводной поэзии стоит имя С. П. Шевырева. Шевырев, начинавший с шеллингианства, был видным пропагандистом исторического подхода к развитию русской литературы и как историк поэзии вел решительную борьбу против эстетизирующих действительность классиков. Для него классицизм – это область утешительной иллюзии, успокоительной гармонии, ложной красоты. Шевырев трактует такой классицизм очень широко, распространяя его на обширные области современного искусства, даже на некоторые стороны пушкинской поэзии, в которой он тоже видит чрезмерную ясность, чистоту и классическую гармоничность, отзывающуюся «волшебным обманом». Поэтическая речь, стандартизируясь, превращается в пустую форму, неспособную выражать новые мысли и даже, напротив, заглушающую их. С точки зрения Шевырева губительной для поэзии является языковая инерция, сглаживающая противоречивую сложность мысли, которая нищает, принимая линейность рационалистического суждения. Он требует разрыва с остатками классической традиции и построения новой эстетики, во всем противоположной предыдущей. Борясь за обновление поэтической системы, он сосредоточивает внимание на переводе, который дает наиболее реальную возможность новаторской перестройки русской поэзии. Шевырев исходит из необходимости пересаживать на русскую почву все, что может обогатить родную словесность и что может быть усвоено русским языком. Недостаток силлабо-тонического стихосложения, по Шевыреву, сводится к тому, что оно порождает гладкость, однообразие, изнеживающую ухо монотонность. Шевырев, правда, признает разнообразящую стих функцию пиррихия; но этого, по его мнению, мало: поэтическая гармония требует более звучной «мелодии», растворяющей монотонию.
Шевырев предлагает два направления для реформирования русской просодии в целях передачи всех художественных особенностей итальянской октавы. Первое – ритмическое. Необходимо разнообразить русский стих использованием некоторых ритмических ресурсов силлабики. Второе направление перестройки стиха касается рифмы как таковой. Шевырев видит следующие возможности для осуществления реформы в области рифмы: 1) отказ от педантичного принципа «зрительных рифм» в пользу рифм акустических; 2) допущение составных рифм; 3) допущение глагольных рифм; 4) допущение ассонансов. Шевырев ожидает, что переворот в русской поэзии наступит благодаря усилиям поэтов-переводчиков, которые заимствуют в иностранных литературах то, что может обогатить отечественную. Он и сам приводит образцы новых стиховых форм, предлагая читателям перевод «Освобожденного Иерусалима» и таким образом вступая в борьбу со своими предшественниками Мерзляковым и Раичем, переводившими поэму Тассо[46]46
См.: «Телескоп», 1831, № 11–12, с. 263 и сл.
[Закрыть].
Стихи Шевырева нарочито, так сказать, экспериментально нескладны, или, как он говорил о них сам, резки, жестки, даже грубы. В них есть попытка добиться максимума экспрессии: это выражается в порывистом, порой уродливом синтаксисе, в ломающих инерцию стиха переносах, в необычайных и казалось бы невозможных образах и словосочетаниях.
История поэзии XIX и в особенности XX века показала, что поиски Шевырева были не так уж бесплодны. Например, его идеи касательно рифмы позднее осуществились: «зрительная рифма» оказалась отброшенной, преодоленной; рифмы составные проложили себе дорогу сначала в шуточных и сатирических стихах (Минаев, Саша Черный), а потом несерьезной, даже трагической поэзии; глагольные рифмы утвердились уже в стихах Пушкина; ассонанс завоевал себе прочное положение – в стихах Блока, Есенина, Маяковского, Тихонова он стал равноправен с точной рифмой. Все это было предсказано Шевыревым. Ритмические нововведения Шевырева (соединение ямбов с хореями, внедрение элементов силлабики в тонический стих), сильно видоизменившись, отразились впоследствии в дольнике, акцентном стихе, «тактовике», – в переводе именно итальянских октав они развития не получили. Автор одного из последних переводов «Освобожденного Иерусалима» Дмитрий Мин воспользовался, однако, рядом советов и указаний Шевырева, облегчивших построение октавы. Лексика Мина, образность его перевода и характер рифм вызывают в памяти перевод Шевырева.
В русскую поэзию октава вошла в результате энергичных усилий переводчиков Тассо и – в меньшей степени – Ариосто. Однако решающую роль в «акклиматизации» октавы все же сыграл Пушкин. Созданная, вероятно, независимо от идей Шевырева, поэма Пушкина «Домик в Коломне» (1830) оказалась веским, может быть, самым веским аргументом в борьбе вокруг русской октавы.
Чтобы была русская октава, нужны большие рифменные ресурсы; и они, согласно Пушкину, существуют – нужно только отказаться от классицистической догматики. В этом вопросе Пушкин спорит с Катениным и солидарен с Шевыревым (или предвосхищает его). Пушкина привлекает организованность, упорядоченность октавы, ее целостность и законченность, ее концентрированность. Это строфа, перерастающая в главу: из композиционной единицы, организующей стих, она превращается в сюжетно-композиционный элемент стихотворного повествования. На фоне сжатой энергии октавы каждый элемент стихотворной речи приобретает особую выразительность:
Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем.
Организация стихотворного текста в строфы такого типа, как октавы, означает дальнейшее усиление закономерности: ритмический строй стиха поддержан ритмическим движением поэтического повествования; ритм строк поддержан ритмом строф-главок. Пушкин парадоксально использует свойство этой кристаллической формы: иногда он разрушает целостность октав переносами из строфы в строфу, но таким образом лишь подчеркивает их целостность.
Позиция Пушкина относительно октавы сводится к следующему: художественная ценность октавы несомненна, и это оправдывает ее заимствование для русской поэзии у итальянцев; осуществить такое заимствование можно ценой достаточной свободы в выборе рифм; чтобы итальянская октава привилась на иной почве, нужно научиться сочетать новую для русской поэзии форму с элементами стиха привычными, ставшими уже традицией для русского читателя. Не ломать старое, но прививать новое – вот программа Пушкина. Она расходится с программой Шевырева, которую можно формулировать так: ломать старое, и на пустом месте создавать новое. Расхождение, конечно, серьезное, но и общая платформа достаточно устойчивая: прививать новое.
8
Пушкин, переводя, стремился освободить стихотворение от того, что ему представлялось случайным. Он хотел дать жанр оригинала в чистом, беспримесном виде и потому иногда редактировал оригинал. В этом смысле Пушкин разделял взгляды таких своих учителей, как Батюшков и Жуковский. Но анализ пушкинских переводов до 1825 года (Парни, Шенье) говорит еще об одной особенности подхода Пушкина к поэтическому произведению: он видит в нем прежде всего художественное целое, которое именно как художественное единство и должно быть передано на другой язык. В понимании произведения как системы Пушкин пошел дальше своих учителей. Для Батюшкова и Жуковского единство произведения обеспечивалось субъективным единством авторского переживания; для Пушкина единство носит характер объективный, и оно может быть воссоздано разнообразнейшими средствами, которые вовсе не обязательно повторяют средства, использованные иностранным автором. Поэтому Пушкин так свободен в выборе средств внутри уже понятой им художественной системы. Первая трудность, стоящая перед поэтом-переводчиком, сводится к тому, чтобы эту систему осмыслить как целое. Величайшее завоевание Пушкина – восприятие художественного произведения как целостной системы – было утрачено рядом поэтов начала XX века, в частности В. Брюсовым и другими символистами. Вместе с тем была утрачена и оптимистическая уверенность в том, что, как бы ни были различны языки, национальные традиции, нравы, обычаи, нет и не может быть непереводимых произведений поэзии: непереводимы лишь частности, целое всегда поддается воссозданию.