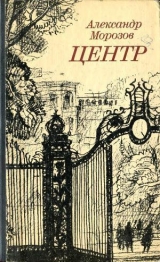
Текст книги "Центр"
Автор книги: Александр Морозов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
Вечная девочка Регина, вечно поступающая и ни разу не поступившая ни в один столичный вуз, в расчет не бралась. Определяй отношения только сама Гончарова, она бы и с Нелей не стала в доверительность играть, шу-шу разводить. Но ограничиться только функционально-деловыми отношениями с Нелей было невозможно. Даже Ростовцеву это не удавалось, хотя для него подобные сведе́ния и ограничения были сознательно поставленным идеалом. Неля Ольшанская присутствовала, существовала, «занимала эфир», и плевать ей было на разные там сознательно поставленные идеалы и стили руководства.
Гончарова в первые годы работы в Институте (то есть когда еще расписывалась в ведомости за зарплату против фамилии «Яковлева») подверглась некоторому абордажу со стороны Ольшанской. Несколько раз та приглашала Катю, и при этом с настойчивостью, вначале непонятной, принять участие в турпоходных мероприятиях, в вылазках, бросках, ночевках на лоне природы. Вылазки, броски и ночевки – это Катя еще как-то понимала, хотя энтузиазма и не разделяла, городской была девочкой по всем повадкам и наклонностям. Но вот настойчивости Нелиной не понимала. Пока наконец на одно из самых бесцеремонных приглашений Катя однажды заметила, что холод же собачий, и в лесу сыро и неприютно, а в ответ услышала, что это, мол, пустяки, потому как будет и чем согреться и кому согреть. Когда же Неля и тут увидела лишь недоуменные Катины глаза, то добавила совсем просто: «Да ты что, Кать… С ночевкой же. Такие два паренька наклевываются, кандидаты, спортсменистые».
Катя начала понимать, но не так стремительно, как того требовал темп беседы. Цели и задачи Нелины прояснились и оказались весьма элементарными, на весьма элементарном физиологическом уровне. Неожиданно? Пожалуй, не очень. Слегка терпко. Ну а для Нели Ольшанской – это Катя понимала – с ее вызывающей, что называется, от бога некрасивостью, даже непривлекательностью, даже неженственностью, решение этого вопроса и не могло быть изящным. Или, скажем так, не могло быть литературным, общепринятым, социально стандартным. На ее месте можно было бы вообще отказаться от решения «проблемы», остаться, как говорится, ни при чем, да на том и успокоиться. Но Неля Ольшанская определенно решила не отказываться от радости реального мира (это при ее-то активности и цепкости отказываться?), определенно решила выступать, пусть и без особой надежды сорвать аплодисменты, но все-таки выступать, а не репетировать всю жизнь. Нет ангажемента? – Поправимо, в цивилизованное же время живем, равенство, так равенство. «Ангажемент» можно и самой организовать. Каждый, наконец, устраивается, как может.
Когда Катя все это раскрутила, отказаться стало совсем просто. Смешно стало. Слегка смешно. Так и ответила, что если уж такая необходимость возникнет, то лично она предпочитает общение с мужчинами в собственной благоустроенной квартире со всеми удобствами.
Конечно, все это был «полив» тот еще. Катя Яковлева была девушкой правильной, и для нее этот вопрос должен был решаться правильно, на общепринятой основе. Пусть традиционно и даже литературно, но по традициям – безусловным и по литературе – серьезной. Ну, с Нелей беседовать – тут уж определенный уровень трепа нужно держать. Не без этого. Даже если немного и жестко получается – это, мол, вам надо расшибаться и в дебри уссурийской тайги забредать, ну и пожалуйста, а нам и так все, что нужно, на блюдечке с соответствующей каемочкой – даже, если и жестоко…
Неля ответ поняла и никакой вроде бы жестокости по отношению к себе не почувствовала – не до нюансов, темповая женщина, чего там, – устремлена была только на результат. Результат разговора вышел отрицательный, ну нет, так и нет. И на будущее даже поняла Неля, что бесполезняк толкаться к Яковлевой насчет этого, и в дальнейшем ничего подобного Кате больше не предлагала.
Но уж доверительность после таких разговоров между людьми устанавливается. Хочешь – не хочешь, а устанавливается, и все тут. Ну как между родственниками, с которыми живешь в одной квартире годами.
Поэтому теперь, когда Екатерина Николаевна, коротко поздоровавшись с Нелей, прошла к своему столу, чтобы для начала разобрать лежащие на нем бумаги, и только успела перелистнуть макет очередного сборника, как тут же и почувствовала, что деловой тишине долго не быть. Ну и сопротивляться не стала, пыжиться, отодвигать все равно ведь неминуемую аудиенцию по личным вопросам. О которой Неля, правда что, и намекала несколько уж раз, что надо бы посоветоваться, потрепаться без дипломатии фиговой. В свойственной ей манере то есть выражалась.
Как всегда напористо (а если уж «без дипломатии фи́говой», то, прямо сказать, нахраписто, в стиле, когда собеседника за пуговицу хватают), Неля сообщила, что, вот, женишка себе завела. И не так, конечно, чтобы в женишках век ходил, а чтобы мужа из него вырастить. Выпестовать. Отношения развиваются стремительно, вскачь, можно сказать. В том смысле, что любовь для них – не вздохи на скамейке и не прогулки черт знает где.
Это все было понятно Кате. Она даже одобряла про себя Нелю – насчет «выпестовать». Давно пора, сколько ж можно таскаться по туристским походам?… Но умеренный интерес, когда слушаешь Ольшанскую, быстро сменяется чувством неловкости. Это уж так. Нелечка с размаху, как чернильные кляксы шлепает, ставит точки над всеми «i». Даже над теми, которые и так каждый взрослый человек бегло прочитывает. Сообщила, как о само собой разумеющемся, что уступила сразу, чуть ли не со второй или третьей встречи. Что, мол, даже льстила такая его поспешность, неотступность, лихорадка сплошная. А потом, смотрю, и неделя, и другая, и месяц, а он не остывает. Заботу стал проявлять. Домашним человеком у нас заделался. Только тут Катя все-таки очнулась, вырвалась, как из-под душа, из Нелиных словес: «Ну, Неля… Ну, зачем вы… К свадьбе, что ли, идет?»
Неля подсократилась с предысторией и быстренько вывела нить повествования к настоящему моменту. Настоящий момент, как это и бывает частенько, обнаруживал двойственную природу. Стало казаться Неле, что не она задалась целью выпестовать что-то из кого-то, вернее, не только она. По разным немалочисленным признакам приходила она к выводу, что ее женишок таки преследует некую цель. Его пыл и та поспешность, с которой он обнаружил его, – во всем проглянуло теперь для Нели уже что-то чуть ли не профессиональное. По крайней мере, деловое и рациональное. Целеустремленное. Не «поматросил да и бросил», а как раз наоборот. Как будто ее хотели привязать, приучить к чему-то. Сразу и прочно.
– Какой хоть он? – спросила Катя нерешительно.
– Никакой, – охотно и даже с веселостью, всего лишь чуть-чуть преувеличенной, ответила Неля. – А по правде сказать, парниша довольно занудный. Но одомашненный. Ну, и все остальное…
Об остальном выслушивать по новой не имело смысла. И Катя снова спросила:
– Фамилия-то имеется? А то ты уж совсем: «женишок», «парниша»… Все-таки, как я понимаю, больше полугода уже встречаетесь?
– Хмылов, – с готовностью сообщила Ольшанская.
Катя с непонятной для Нели активностью поинтересовалась:
– А зовут?
– А зовут Толиком, – услышала Катя и потеряла всякий интерес. Как-то не дотянулась интересом до того, чтобы подумать, что, может быть, у Димы Хмылова имеется еще и брат. Промелькнуло только в уме, уже на излете: «Эк, этих Хмыловых… Куда ни плюнь, всюду Хмылов».
И тут распахнулась дверь, и в комнату вошел Витя Карданов. Вот так просто и вошел. Ну что ж, что время? Прошло же… А он? Не умер, адрес не забыл, почему же не зайти?
Когда отколовшийся человек, давно ушедший в параллельные «миры», возникает перед тобой вдруг, без разгона, без подготовки – и не как-нибудь бочком, в толпе, когда можно узнать, можно не признать, а – нос к носу, это не по правилам игры. Поди объясни почему, но не по правилам – и все.
Впрочем, Карданов, кажется, и сам понимал, что не по правилам. Катя с первых его слов и движений увидела мучительное, вымученное, отчаянное, что призвано было на помощь простому. Простому факту. То, что собрал в себе Виктор Трофимович, чтобы факт состоялся. О, разумеется, все это в упаковке деловитости, легкой, изящной деловитости, раскованности, дружелюбия.
Сначала она подумала, что это что-то, связанное с мужем. Но раскованность и изящная деловитость Карданова с каждым мгновением становились все более естественными и… Не «и», а «значит». Значит, не о муже. Все, связанное с мужем, было в последнее время нервным, уродливым, возникало рывками, все было пропитано фарсом и безвкусицей. Как не с ним, как не с ней происходило. Тогда что же?
Через несколько минут остались наедине. Ольшанская быстро поняла после всяческих приветствий и восклицаний, что у Вити к ней ничего, кроме приветствий и восклицаний, не имеется. А что есть какое-то дело к Гончаровой, которое желательно изложить с глазу на глаз. Неля обрадовалась Карданову искренне. Всегда к нему хорошо относилась. Свой человек. Но… быстренько, под каким-то пустяковым предлогом выпорхнула из комнаты. Гончарова и Карданов даже и не вслушались, под каким именно. Предлог и предлог. Все ясно. Есть разговор. Карданов – не Хмылов, Карданов – это определенное содержание, уровень, какой-то независимый смысл. И это – от старых времен еще осталось – в конце концов, что-то порядочное. Не ее, нет, даже, может быть, чуждое ей, даже могущее стать мешающим или опасным, но – порядочное. Повзрослел, стал интереснее, законченнее. «Ростовцевский выкормыш», – вспомнила она отцовскую аттестацию. Ничей он не выкормыш. Это она хорошо знала. Четко. Ничей и никогда.
Витя быстро и толково объяснил цель визита. Он хотел снова поступить на работу в сектор зарубежной экономической информации. Снова стать младшим научным сотрудником? Вот так? Вот такую просьбу притащил, звучащую, впрочем, скорее как предложение. Слегка, может быть, даже как снисхождение, как приглашение к партнерству, взаимовыгодному или даже чуть более выгодному сектору зарубежной экономической информации, чем самому Виктору Трофимовичу.
А как же все эти годы? Откуда вышел, туда же пришел? На ту же должность, на те же рэ? И не какие-нибудь, не бросовые же были эти годы, не пред– или послепенсионные, допустим, когда не так важно, где и кем, а лишь бы дело было знакомое да не слишком обременительное и ответственное? Решающие же годы, чего толковать! Те самые именно, когда муж ее, Юрка, стал Юрием Андреевичем, кандидатом и завлабом, а она – врио завсектором. А ведь они куда меньше обещали, бледнее и обычнее выглядели, чем… Вот, значит, какого кругаля дал Витя Карданов! Какую фигуру нулевую выписал на предательском льду решающего полуторадесятилетия. И ничего: вроде не обескуражен. Затравленным не выглядит. Смотрит спокойно, с всегдашней своей спокойной веселостью и доброжелательством. Не понимает, что ли? Ну смущен самую малость, но это не то. Это общепонятное. Все ж таки надо тон определять: то ли Катя, то ли Екатерина Николаевна, то ли пусть и на «вы», как и тогда, но свои же. То ли все же попридержаться, – все-таки работодатель перед тобой, который ведь «да» или «нет» должен сказать, а тебе нужно, чтобы «да».
Первой, самой первой Катиной реакцией на неожиданное, но вполне определенное предложение Карданова было чувство радости. Радости, благодарности и облегчения. Карданов – это, конечно, было бы приобретение. Да еще на такую ставку, на мэнээса. Фантастика, невозможность! Других ставок у нее, положим, и нет («ведущий экономист» – на тридцать рублей «толще», чем мэнээс, должность, освободившаяся после того, как она сама стала завсектором, зарезервирована была дирекцией. И не ей, новому руководителю, врио, тягаться сейчас с Сухорученковым и ученым секретарем из-за этого). Но все же, все же… У нее мэнээсы – Валя Соколов и Софико Датунашвили, так это ж горе луковое, а не работнички. Соколов – тот просто бесцветен. Такие вещи под расправу не идут. А уж Софико – просто вызывающе безграмотна. Работать не умеет, не любит, не желает и чихает с высокого кипариса на все и всяческие проблемы экономической науки. А заодно и на все другие науки, сколько их там наберется. Виктор же Трофимович Карданов – уж это Катя знала из первых рук – наработает больше и лучше, чем Соколов, Датунашвили и сама Гончарова, вместе взятые. Вот такого мэнээса могла она сейчас заполучить в свою хлипкую команду. А чего? Ростовцеву тогда повезло, ну вот, пусть повезет теперь и ей. Бумаги у него в полном порядке. Переходов, правда, многовато, по полтора-два года на каждом месте. Но это – семечки, это только на самый придирчивый взгляд самого придирчивого кадровика, да и то минутное колебание вызовет, не более. Ушел тогда отнюдь не по собственному, а после громкого в своем роде дела. И едва ли это совсем уж забылось. Но со стороны Сухорученкова возражения едва ли последуют, ведь он был тогда, хоть и молчаливым, но все-таки сторонником «деятельности» Ростовцева – Карданова.
А затем… затем даже жалость она почувствовала. Сначала, правда, некое удовлетворение, а уж потом жалость. Удовлетворение – что вот все подтверждено, и подписано, и сомнений теперь никаких нет, взгляд ее ястребиный (оказавшийся ястребиным), когда еще разглядевший на восходящей звезде клеймо неудачника, взгляд этот не сплоховал. И значит все, что видит она, все в ее жизни – не кажется, а есть, есть на самом деле. И именно так существует и развивается, как видится ей. Положиться, значит, можно на взгляд этот, на ее ви́дение.
А тогда… и сказать-то никому не смей, завистью черной, наветом из-за угла казалось бы, не иначе. «Да помилуйте, Екатерина Николаевна, какие же к тому основания?» Она и не говорила никому, и не заикалась. И перед мужем даже не слишком-то старалась развенчать культ кардановской личности. Благо, Юрка и сам чтить чтил, но в жизнь свою семейную зайти Карданова не приглашал.
Высмотрела она еще тогда все в Викторе и приговор произнесла (про себя), но все эти годы – теперь только ощутила вполне – и сомневалась. Конечно, ушел с магистрали, забился в кусты, с хлеба на квас перебивался – это все так, и это все подтверждало следствие ее предварительное. Но все-таки, когда человек на стороне что-то там творит или вытворяет, все это предварительное может в один прекрасный момент рухнуть и рассыпаться. Гадкие утята иногда превращаются в прекрасных лебедей. В сказках оно, положим, чаще, чем в жизни, но ведь и жизнь сама не до конца же исследована на предмет принципиальной своей и окончательной антисказочности.
Ну а тут – вот оно. Не на стороне он теперь, а пришел и сам расписался: ерундой и химерами пробавлялся, а теперь готов к солидным и положительным людям снова прибиться. Пусть и на вторых ролях. Что же, сам понимаю, на первые не могу претендовать. Профукал-с! Так и просим считать.
И вот в этой точке удовлетворение само собой и переходило в жалость. Сидел перед ней – красивый, умный, гордый. Неудавшийся. Красота и ум не пострадали, ну а гордость слегка пришлось, видимо, поприжать. Поглубже пришлось ее, видно, засунуть, во внутренний карман пиджака, подальше, чем документы, которые выложил и представил. Кому представил? Девочке Кате, которую чуть ли не снизошел соблазнить, которую на борт теплоходный соизволил ввести. Выложил и представил, почувствовав, знать, тяжелую длань якобы дурацкого и не про нас расклада: «А куда денешься?» Как же не жалость? Витька, Витька Карданов… все, с ним связанное, отложилось в ней в конце концов светлым кружевом. Никогда он не был назойлив, неумен, нахрапист. Лояльный о т и д о. А часто ли такое встречается, чтобы именно о т и д о, чтобы в человеке без открытий и неожиданностей неприятненьких?
Оставалось произнести несколько фраз, встать, пройти, пожать руку… Всего несколько минут она себе позволила. Несколько минут неопределенности. Понежиться… Потянуть, неизвестно зачем. Всего несколько минут. Вот так это бывает.
Катя выразила некое недоумение-сожаление, что вот-де как же так, такого человека, как Виктор Трофимович Карданов, приходится принимать на столь ничтожную ставку и на столь явно молодежную должность, как мэнээс. И года́ у него вроде не те, и квалификация, ясное дело, повыше. Читала же она некоторые его статьи по общим проблемам информационного обслуживания в науке, да и само собой понятно, что не за так же время для него прошло, рос же человек над собой, а теперь как же? Право слово, вроде бы и неудобно как-то ставить его на одну доску с такими недорослями от информатики, как Соколов и Датунашвили. А с другой стороны, что же а делать, «просто ума не приложу», ставок-то других в секторе нет и не предвидится.
Уже и это было, разумеется, жестковато, хоть и говорилось тоном ровным, естественно-озабоченным, этаким специально специфически-безупречным. Вынуждался Виктор Трофимович на то, чтобы уже окончательно отказаться от всякой там непринужденности, от роли вольного стрелка, преследующего якобы свои, не всякому и доступные высокотеоретические цели. Вынуждался к отказу от игры на равных, к сбрасыванию колоды, к недвусмысленному и тяжеловесному признанию того факта, что она, Екатерина Николаевна Гончарова, в настоящий момент его работодатель и будущий начальник по работе. Без дураков, без хохмочек, без налета сентиментальности.
Ты занимался высокой теорией? Так ведь это очень здорово, кто ж в наше время против высокой теории, не безграмотные же… А мы тут вкалывали, укоренялись, борозду тянули – головы не поднять. Где уж нам уж выйти замуж. Ты свысока можешь поплевывать на все наши борозды, орлом глядеть, с посвистом мимо мчаться, кто бы стал спорить! Но ведь это ж т ы пришел к нам, а не м ы к т е б е. Как же так?
Витя держался – будь здоров, на мормышку не клевал, хотя и был неприятно удивлен. Катя не могла еще и предположить в полном объеме, насколько в точку била своими рассужденьицами о несоответствии блистательного, высокотеоретичного Карданова несолидно-молодежной должности, на кою он теперь претендовал. Не могла она предположить, что он и сам, пожалуй, находился в некотором недоумении относительно того, как же это так у него все перекрутилось. Но то, что перекрутилось, это уж он знал точно. И потому не позволил себе подхватить ее тон и ее рассужденьица о несоответствии, ничего не позволил себе, но уже и Гончаровой именно этим самым простор для разговора пообрезал. Сидел корректный, что в данной ситуации означало – настырный, твердый, нацеленный на результат.
Катя выключилась из напряжения, которое сама же большей частью и создала. Ей вдруг захотелось немедленно домой. Захотелось плюнуть на всю эту историю и на самого Карданова в придачу.
Кончено: разговор, переговоры, преамбулы. Все (Карданов и Гончарова) благодарили друг друга за внимание. Карданов поднялся, попрощался… Катя сказала, чтобы заходил через неделю. За это время она разузнает все в кадрах, переговорит с Сухорученковым, а он, Карданов, принесет заполненными анкету и листок для автобиографии. Все нормально: поступает на работу новый сотрудник. Дело не сложное, не простое, а… так себе. Тоже мне, дело. Тут и делов-то…
XIII
Проскочила дорогу до дома, ничего не заметив: ни дороги, ни придорожья, ни себя. Открыла дверь, вступила в прихожую, а тут и замечать было нечего. Имеющий уши быстро все услышал.
Из комнаты доносились басок мужа, хмыканье Хмылова и… деловитая мелодичность женского голоска. «Ничего компашка подобралась, – промелькнула дурацкая мысль, – теперь полный набор: двое на двое». Дурацкая мысль тем и хороша: является, и… извольте радоваться. Вот Катя и обрадовалась, и улыбнулась, и прямо пошла к Оле, которая первая заметила, первая поднялась, приняла позу, осанку, «предстала» для представления и которая, несомненно, была Олей. Знала Катя таких шатеночек. Очень хорошо развитая, перед самой гранью, когда уже говорят атлетичная, поигрывающая всем, чем поигрывать положено, но не вызывающе (что вызывало в Кате всегда только жалость), а так, от преизбытка сил природных. Когда тряхнули крепким рукопожатием и твердо, в упор посмотрели друг на друга, Катя с удивлением отметила умное и взрослое выражение Олиного взгляда. Вот тебе и шатеночка! А ведь она, судя по всему, всего лишь очередная пассия Хмылова. Что уж бабы совсем озверели, что ли, к таким прислоняться, как Дима?
Катя не видела мужа около суток, а Диму полгода. Олю она не видела раньше никогда. Юра Гончаров тоже не видел раньше Олю никогда. Но он увидел ее раньше Кати на половину суток. Это его преимущество Катю не беспокоило. Раз уж привалили все трое на квартиру – видно, досиживать и догуливать. И сразу было ясно, что не имели ничего против Катиного появления. Ее подключения к их обществу. Конечно, некоторая, мягко говоря, пикантность была уже в том факте, что ее включают в какое-то общество, и причем у нее же на квартире. Однако самое грубое объяснение событий все ж таки откладывалось. А для нее – пока! – было достаточно и этого. Сыграет роль светской хозяйки дома, а там, спровадив гостей, постарается выдать мужу. А вот так, с ходу занять жесткую позицию, сразу дать понять Оле и Хмылову, что хамство (со стороны мужа) и весь их «светский тон» она не собирается принимать, – на все это как-то заводу не было. И даже какую-то уютность ощутила, что вот пришла домой, а тут люди. Сидят спокойные, вежливые… Если бы они еще пришли сюда вчера вечером…
Катя не видела Диму полгода и вначале никак не могла понять, что же такого изменилось в нем самом, во всем этом явлении, определенном, казалось, на всю остатнюю жизнь, в этом явлении друга дома, отца несуществующего семейства? Все трое сидели в живописных позах, вальяжно, напряженности в них и не чувствовалось. Они производили впечатление людей со значением. Наверное, немало выпили и неплохо закусили. Последнее Катя автоматически отметила по тому невниманию, небрежению даже, с которым оглядывали они единственную бутылку какого-то бледного вина и тарелку с горкой изящно приготовленных миниатюрных бутербродов-канапе. Шатеночка, значит, умеет приготовить к а н а п е и даже умеет сделать это вовремя.
Общество, кажется, устало от самого себя. Хмылов и Юра с деловитостью обсуждали одну из вечных проблем бытия: как осуществить мелкий ремонт автомобиля перед прохождением техосмотра. Речь шла, конечно, о Юриной машине – здесь нового ничего не было. А новое было в том, что Хмылов не просто слушая с сочувственно-бессмысленным видом, как в прошлые времена, а, напротив, являлся в беседе колесом ведущим. О переднем мосте и задних крыльях, о подвеске и подфарниках рассуждал Дима солидно и даже поучающе. А Юра выслушивал, и переспрашивал, и даже что-то черкал на листочке, какие-то адреса, должности («Он на той станции зам по эксплуатации, вот к нему насчет жестянки…» – наставлял Хмылов), имена-отчества, телефоны. Кате было не то странно, что Юра перед техосмотром, как всегда, заполошничает и машина у него тоже, как всегда выяснялось перед ТО, слабо побитая и сильно негодная. Это все своим чередом… Но преображение Хмылова из существа поддакивающего и хмыкающего в какую-то проворотливую шестеренку, где-то что-то явно зацепляющую из области реального, преображение это вначале показалось Кате чем-то неестественным.
Катя видела Хмылова последний раз примерно полгода назад. Именно тем самым летом, которое последовало за весенним «походом» Карданова и Хмылова в Серебряный бор. И перед тем самым летним днем, когда Оля впервые посетила квартиру Димы Хмылова и, в ответ на его изумленно-простодушный взгляд на пачку пятидесяток в ее сумочке, предложила ему достать партию импортной обувки. Никакой обувки Дима, конечно, ни тогда, ни позже доставать не стал. Никаких кроссовок и не нужно было Оле, как и вообще ничего не было нужно из того, что мог достать Дима Хмылов. Не такие «деятели» доставали. Но с того дня Дима увидел, что существуют простые и ясные ходы, даже не то что ходы, а движения мысли.
Как получается, что не замечаем много раз виденное, не замечаем и обходим, даже если нос к носу? Не понимаем, не придаем значения. Но однажды как щелкнет что-то, и простые слова, мимоходом и небрежно сказанные (к тому же и не означающие, как потом оказывается, ничего реального), как замыкают подспудную работу подсознания и выводят ее, эту работу, на свет божий. На суд людской. На свой собственный суд и разумение.
Как очнулся тогда Дмитрий Хмылов. А вокруг – плещется жизнь и тысячами возможностей играет. И не для гениев, не для задумавшихся на десятки лет предводителей юных когорт, а для всех. Для таких же, к примеру, людей, как он сам, с двумя руками (а у него руки – не крюки, кое-что могут) и одной головой. С обычной. Семи пядей во лбу никто вроде и не спрашивает.
Что же для этого надо было? А чтобы произнесла эту изумительную, гениальную по своей очевидности наглость плотно и безупречно сложенная Оля. Не могла она сказать ничего негодящего. Это был друг, неведомо откуда и взявшийся. «Друг познается в беде». Да нигде он не познается. Друг – это тот, кто рядом. Она была тогда рядом, когда сказала это. И потом, после того, как сказала. Она подошла к нему вплотную, обняла его за талию, и ее грудь обозначила расстояние, которого просто уже не было между ними. И Дима почувствовал, что вот она стоит перед ним, просквоженная пляжными ветрами и солнцем и неведомой ему, уверенной жизнью, вдохнул смешанную с духами чудесную истому – запах ее гладкой, легко лоснящейся загорелости – и неожиданно для себя даже не поцеловал, а положил голову к ней на плечо, как загнанный коняга.
Он был загнан безденежьем и сопутствующим обстоятельством: моральным бесправием. И должен же был наступить момент (и он наступил), когда человек спрашивает: а во имя чего?
Куролесили и чудили – ив этом был шик, не сравнить же, в самом деле, с вонючей серьезностью братана Толика, но поработало время и двинуло всех, и все оказались при своем. При чем именно – это, положим, кто его разберет. Карданов, например, тоже при чем-то здорово хитром, что очень близко, стоит от «н и п р и ч е м». Но для Витьки это «н и п р и ч е м», может, и есть его фирменное, так что опять-таки, оказывается, что п р и с в о е м. А Дима оказывался н и п р и ч е м уже без всякой там диалектики. Уже точно и грубо: н и п р и ч е м.
Он не мог приподнять головы, оторваться от гладкой, лоснящейся загорелости. От ее плеча, ключицы, шеи. Он мог это иметь и вот дожил до светлого дня, когда ему это даровали.
Но Дмитрий Васильевич сумел-таки ухватить, что даруют, – не навсегда, а вовсе даже наоборот: единожды. И склонить голову на ослепительное плечо – это только дать знать другому, что ты понял отмеченность момента. Понял, что тебе дали шанс. (Пусть по дружбе, с чего бы еще?) Но что это никак не выход из положения и уж тем более не образ жизни.
Она осталась тогда у него. Осталась на ночь.
Утро в июле приходит рано. В четыре часа они поняли, что все уже позади, а сна – ни в одном глазу, и прохладный, нежный свет незаметно разлился над еще пустынным, но уже бодрым городом. Он отдернул занавеску и повернул шпингалет балконной двери. Вышел на балкон. Облокотился о его перильца. Вдохнул всей грудью. Закурил последнюю сигарету.
Победителем себя он не чувствовал. За спиной была н е е г о квартира. В ней – н е е г о женщина. Своего-то и было – пустая пачка болгарских сигарет «Феникс» да дрожь в коленях. Плохо он себя не чувствовал. Голова легка, и тело неутомимо. Оля пришла к нему вечером, даже задолго до вечера. А сейчас четыре утра, и времени, значит, прошло немало. Достаточно, чтобы уже твердо и успокоенно понять, что он не один. И не с кем-нибудь. С кем-нибудь – это все равно, что один. С кем-нибудь – это грех, но не сладкий (если бы!), а просто грех – стыдный, нерадующий, беспочвенный. Ничего не решающий.
А в четыре утра июля месяца он вышел на балкон, чтобы, мешая горечь болгарского табака с чистой нежностью московского, наработанного за выходной кислорода, в одиночку и втихомолку прислушаться: таинственный шорох, уже не цветение, но еще и не завязь. Бесшумное, самое таинственное, самое решающее – рождение завязи.
Нет у мужчины иной внутренней «анкеты», кроме как кто были его женщины. Учился, добился, защитился, проштрафился – этот пунктир из дипломов и должностей есть всего лишь разметка результатов. Но почему? Почему у одного так, а у другого, может, лучшего и способнейшего, и вполовину не так? О причинах восхождений и дрейфов, скольжений и ничегонеделания говорят другие колышки, вбитые случаем и обстоятельствами. Истинная биография мужчины – это те женщины, с которыми он встречался, с которыми оставался наедине больше одного раза. Те, кто прививал его к своим корням, к своему стволу, к своим проблемам и заботам.
Мужчина по природе своей беззаботен. Он окружен несметным ворохом забот, он рвется изо всех сил, чтобы расшвырять этот ворох, вырваться из него и тянуться, тянуться вверх. Но вверх или вбок, а побеги растут со ствола, к которому они привиты.
Вчера вечером, когда она, прямо посреди комнаты сбросив платье, перешагнула через него и – «Можно я приму душ?» – прошла в ванную, откуда сразу раздалось шумное падение полностью пущенной струи, Хмылов заметался по квартире, безумно пытаясь что-то сделать. Подправить, подзадвинуть, подзадернуть. Безумно – потому что за десять минут не переиграть того, что отпечаталось за десять лет. Дверь ванной открылась, и вместе с клубами пара (она принимала горячий душ, хоть и пришла с жары) до него донесся Олин голос, неневинный, воркующий: «Дай мне какой-нибудь халатик». Тут и метаться было бесполезно, по шкафам нырять. По счастью, хоть чистые рубашки лежали аккуратной стопкой на верхней полке. Только что взятые из прачечной, еще «в форме», переложенные картоном и закрепленные скрепками. Он достал лучшую, приталенную, из белоснежного тончайшего батиста и протянул, не заглядывая в клубы пара, наполнявшие ванную.
Оля только спросила: «Это не синтетика?» – а Хмылов, обрадованный, что хоть в этом совпало, отрапортовал: «Нет, нет, я нейлоновые вообще не ношу». И вышло хорошо и даже весело. Оля выпорхнула из ванной в приталенной сорочке, с отогнутыми манжетами, с незастегнутыми двумя верхними пуговками, босая, счастливая и… даже элегантная. Дима был счастлив – лучшая в мире сорочка не подвела. Он знал по опыту, что она не липнет, не трет, что ее прикосновение… короче, что она достойна прикасаться, достойна облегать то, что ей вдруг доверили облечь.
В мире нет ничего прекраснее тела молодой женщины. Загорелого. Из-под горячего душа. Облаченного в белоснежную, тончайшего батиста мужскую сорочку.








