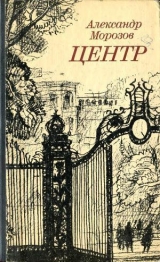
Текст книги "Центр"
Автор книги: Александр Морозов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
И вот эту задачку – куда там математику Льву Абрамовичу, он и не слыхивал о таких, – Люда решила от и до. Разумеется, с подключением едва ли не всех своих сторонниц. Но так, что те и не ведали, что творили.
И разумеется, полная документация по этой блестяще спланированной и твердо, без единого огреха проведенной операции, будь она составленной и переплетенной в десяти томах, с графиками и диаграммами перемещений невольных участников живых шахмат, такая документация вошла бы в анналы, послужила бы образцовым учебным материалом во всех крупных разведцентрах мира. Сама Люда буквально ни разу не обратилась ни к кому с просьбой о пересадке. С другими просьбами – да, обращалась. А уже из них проистекало одно, другое, третье, десятое, и в конце концов кто-то очередной пересаживался с места на место.
Пока однажды в начале февраля Карданов, вбежавший в класс после третьего звонка, обнаружил, что рядом с ним на освободившемся третьего дня месте – он уж и забыл, почему именно освободившемся, – сидит и уже раскрыла тетрадь по зоологии спокойно и строго взглянувшая на него Анастасия Колосова. Только чуть-чуть против обыкновения скованная. Чуть-чуть, которое никто, кроме Люды, не объяснил бы. Которое никто и не отметил-то. Карданов выслушал сбивчивое и поневоле приглушенное – урок-то начался – объяснение Анастасии, почему именно она появилась на борту его корабля, и вникать не стал. Кто возражает, если в троллейбусе рядом с тобой на свободное место опускается невозмутимая матрона? С золотистым отливом шатенка. Случайность… Просто случайность. Она сойдет на следующей остановке. Смотри в окно. Пусть сбоку от тебя – волна лавандовой свежести. Ты школьник, и что с этим делать? С этой волной и с ее взглядом? В ее мире ты окажешься не скоро. Через много лет. Она тоже смотрит в окно. Или вперед через спину водителя. На грифельную доску. На яркие, яркие, яркие… рисунки хордовых и беспозвоночных. Они-то, наверное, и гипнотизируют, не дают глаз оторвать. Она сойдет на следующей остановке… Случайность.
XXIII
И чем же обернулось это замечательное во многих отношениях мероприятие? Эта сложносоставная попытка приручить по-хорошему? Невероятно, Люде вначале сказали бы – предсказали, – не поверила бы. Он просто ничего не понял. Не догадался. Даже через вечность – через полгода школьных. Флюиды какие-то ощущал, но в ответ не потянулся, не посмел, а уж чтобы сопоставить одно, другое и кое-что еще, – куда же… Мальчишка.
Презрительно оттопыривала мясистую нижнюю губу Людочка, несколько раз, оказываясь наедине с Колосовой, по-деловому нетерпеливо хмыкала, постукивала по циферблату на ручных часиках, намекая, что вечность-то она вечностью, но и та просочится струйкой и захлебнется однажды в конце десятого так называемым последним школьным звонком.
Колосова в ответ только краснела, и поводила плечами, и отходила в сторону, ни разу уже больше не перейдя с Людой на тот обезоруживающий, спокойный бабский тон, которым однажды сообщила о своем чувстве. Спустя годы, вспоминая иногда эту историю, Люда поняла, что Анастасия тогда переконспирировалась. Жутко боясь, чтобы остальной класс хоть что-то заметил и о чем-то догадался, она так неприступно и царственно-равнодушно взирала на своего соседа по парте, что ни о чем не догадался даже и он сам. Только пальцы ее руки, передающие ему ластик… так рефлекторно, намертво сжимались, что он не сразу мог взять серый кусочек резины, слегка – раз и другой – тянул на себя… тогда разжимались. Анастасия, словно очнувшись, виновато улыбалась и… снова склонялась над своей тетрадкой.
Вот тебе и взрослая. Инициатива не могла исходить от него. Он ничего не подозревал, ничего не умел, подойти к женщине – это пришло через несколько лет, а в восьмом он честно, как и остальным, выдавал ей свои хохмочки, по-товарищески – нашел товарища, ничего не скажешь! – подсказывал, ободрял, когда она возвращалась на место после неудачного ответа.
Уже на исходе зимнего сезона она вечерами два раза поздно звонила ему по телефону. Подходила мама, с которой он тогда жил, подзывала его, она выговаривала пионерским таким, бодрым товарищеским тоном – что это он не показывается на катке и то, что он не умеет, – отговорки, все когда-то не умели, пусть приходит, научат, мы все плохо катаемся, но крутят такие пластинки, «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» и «Пять минут, пять минут» из «Карнавальной ночи», и ноль градусов, скольжение идеальное, и нельзя же отрываться от коллектива.
Витю приятно волновали эти звонки. Он знал, что завтра в школе она снова предстанет неуязвимой для взглядов и намеков, а значит, недосягаемой для соседа по парте, а судорожно сжатых пальцев, передающих ему ластик, не замечал, а тут, звонки вечером… Но он действительно не умел кататься, никогда даже не стоял на коньках, учиться надо было раньше, как же он, ловкий, изящный, спортивный в движениях, станет кувыркаться и плюхаться, как толстяк перекормленный. Анастасия, кстати, каталась на «ножах» и не в центре, с начинающими, нелепо, смешно вихляющимися карапузами и пенсионерами, а, заложив руки за спину, отмеряла раз за разом, отхватывая пространство по внешнему кругу, рассекая длинными своими «норвегами»… Статью своей, посадкой, телом, заключенным в черное трико, несущимся, как нечеловечески совершенный снаряд, она напоминала Ингу Воронину, зимнюю легенду Петровского парка.
У Вити было одно хорошее свойство: он не любил лажи. Разговоров в пользу бедных. Демагогии неумельцев, ходящих вокруг да около и разводящих дешевую трепотню: «А чего тут уметь-то? Па-а-думаешь».
Он купил «канады», пошел на каток, он крутился в центре, где тумбы, хватался за первоклашек, за их родителей, за воздух… Он падал, хохотал, выворачивал себе ступни, судорожно, встав на мыски, как балерина на пуантах, разгонялся, падал с размаха на ягодицы, ехал на них десять метров по льду, подшибал окружающих, вставал, ковылял, садился на тумбы, пил на морозце обжигающий кофе из бумажных стаканчиков, смеялся… Столько, сколько раз в рубке меняли сумасшедший фокстрот «Но ведь пять минут – не много, он на правильном пути, хороша его дорога».
Через две недели он закладывал виражи, нога за ногу, закладывая щегольски одну руку за спину; через три начал фигурять, сначала, конечно, доморощенно – начал кататься спиной, резко тормозить, ставя на полном ходу лезвия поперек движения. Не натыкался, а подхватывал остающихся сзади; ступни, когда приходил домой, немели, оттаивали, ходил в туфлях, как на ходулях, как не на своих, как моряк по земле после танцующей палубы. К концу марта – ноль градусов и идеальное скольжение – он мчался по внешнему кругу в числе нескольких черных длинных демонов на «норвегах». Он мчался не на «ножах», а на своих «канадах», но среди них, среди недосягаемых для освещенной, веселящейся и кувыркающейся публики в центре, как ледяной Плутон мчится по внешней орбите – что, кстати, он там думает о домашних, тянущихся к теплу, о всех этих Меркурии, Земле, Венере и прочих Марсах с накладными, фальшивыми каналами? Он мчался среди тех, кто на «ножах»!
Но Анастасии среди них уже не было. Он и не заметил этого. Каток несся перед глазами. Он не любил лажи. Знал, что радость, настоящее – всегда только после того, как вложишь усилия. Он научился «ходить» на «канадах», поглощать круг за кругом, опьяняясь музыкой и движением. Полетом сквозь клубы света, нелепые ошибки Мишки, зачем-то навсегда уходящего от своей рыдающей подруги. …Анастасии на катке не было. Караулить, подгадывать случайные столкновения в раздевалке, в очереди за кофе, чтобы проводил два переулка до дома… Не для этого же…
Весной все кончилось, а осенью не возобновилось, они оказались за разными партами.
XXIV
Вот так Людочка тогда пыталась приручить его по-хорошему. И что из этого выходило. То же самое, то есть ничего не выходило, в конце концов, и из попыток по-плохому. Однажды даже и серьезную пробу сил устроила. И выиграла. Полностью и безоговорочно. А Карданов не проиграл. Опять ухитрился не заметить. В природе, конечно, так не бывает. В спорте тоже. Нигде не бывает. А с Кардановым было.
И дело-то ведь нешуточное: с коллективом его развела, резче даже: противопоставила. Тут – мы, а там – он.
Карданов сам, конечно, тогда в петлю полез. Сейчас не упомнишь, с чего тогда началось. Кажется, оставалось десять минут до начала урока, из радиоузла на втором этаже еще долетала не вырубленная, патентованная на всю жизнь радость: «Мальчишки-девчонки, девчонки-мальчишки, мы учимся вместе, друзья. Всегда у нас весело в классе. Да здравствует дружба – Ур-ра!» Мальчишки и девчонки вбегали один за другим в класс и, как сговорились, тоже почему-то с радостью – наверное, все-таки весна: на такое солнце глядя, и на эшафот пойдешь, жизнерадостно щурясь, – без запинки, как вызубренное, выкрикивали: «Ой, ничего не знаю!»
И вот у кого-то первого родилось: «Уйти, что ли? Может, не заметит?»
И кристалл тут же начал расти. В перенасыщенном растворе радости, не умещавшейся в классе, световыми золотисто-синими волнами смывающей все за порогом и окнами. И оформилось в две минуты буквально: в Повторном идет французская комедия. То ли с Бурвилем, то ли с Фернанделем. «Ну помнишь, с таким еще… – Ну да, да. Обхохочешься. Блеск». Десятка сколотилась сразу: идти в Повторный. Немедленно. Те, кто решился, из первой десятки, уже сгрудились у дверей. До этого момента ни Люда, ни Виктор участия в событиях не принимали. Витя, как ни в чем не бывало, сидел за партой, перелистывал общую тетрадь, в общем-то спокойно, как мудрый дедусь, улыбаясь на расшалившихся, неразумных внуков своих.
А неразумные внуки буквально в минуту – и не уследит никто, даже они сами, – освобождались от всяких уже остатков разумности. Последнее, что выкрикнули:
– Всем, всем идти.
– Алексеич зайдет, а в классе никого. Представляете?
Возможность попасть в кино, неготовность к опросу – это как-то даже и отошло, а мгновенно все уцепились, что здесь и грандиозная шутка, розыгрыш, и даже самые рассудительные почему-то сразу загорелись, ухватились за нее, за картинку эту:
– Он входит, а в классе – никого. Умора! Осуществить, и немедленно! Не бредом дикарей необузданных, как еще пять минут назад показалось бы, а просто как последняя земная мудрость, как самая веселая вещь на свете принялась эта идея и прошла в массы. В конце концов вылилось во всеобщее и уже грозновато-организованное:
– Всем, всем идти. Всех не накажут.
На тех, кто еще сидел за партами, не поспевающих за развитием событий, уже поглядывали нетерпеливо.
А Витя продолжал сидеть, как и сидел. Дедусь на завалинке.
– Да я не пойду, – спокойно сказал, как бы и не понимая, из-за чего шум да гром происходит.
– Как не пойдешь?
– А почему я должен идти?
– Всем, так всем. Чего выставляешься?
Карданов моментом раньше одинаково готов был как встать и слинять со всеми, так и остаться. Но тут завелся. Бесцеремонность задела. Веселость общая за эти минуты еще не охватила его. А тут обступили и начали давить, горланить как о деле решенном. Все решили. Вот пусть все и идут. И это все в доли секунды пронеслось у него, а он уже чувствовал, что здесь пропасть перед ним неожиданная, шагу назад не сделать, оборвалось все внутри и заледенело. Уже нерассуждающе. Упрямство первобытное скулы свело.
– Я остаюсь. А каждый – как хочет.
– Да не каждый, а в с е. Понимаешь? В с е решили. Ты что же, плюешь на в с е х? – Это уже Людочка. Но все равно. Если бы не она, то другой бы кто. – Ты что, на коллектив плюешь? Всех, значит, в учительскую поволокут, а ты что, чистенький хочешь остаться?
– В кино опоздаете, – язвил, а не заигрывал, не улещивал Витя.
А дальше все разыгралось – надо бы хуже для Виктора, да некуда.
Вишь ты, идейным заделался. «Я настроен заниматься математикой». Так и лепит. В общем, удар в спину, да и только.
…Какой-то момент вся затея могла сорваться. Те, что примкнули просто потому, что как же не примкнуть, сильно уже колебались, не разбрестись ли втихаря по своим местам, уцепившись за какой-нибудь повод. Речь-то все-таки шла не просто о прогуле, а о срыве урока. Так ведь в случае чего это формулировалось бы.
А с другой стороны, выглядело бы теперь так: Карданов не захотел, и все лопнуло. И потянулись на выход, многие, правда, уже без прежней веселости, а некоторые совсем уж, как на убой, втянув плечи, предчувствуя последствия и про себя уже изумляясь, как это они оказались втянутыми по ничтожному, невесть как и возникшему поводу. Но потянулись, и в полминуты класс опустел.
И вот для тех, кто не понял, что с и е есть еще один вызов, дальнейшее надругательство над лучшими чувствами коллектива, – вот по этому поводу – это когда отгремели уже оргпоследствия, – веско и многократно выступала перед массами Людмила.
Вот так она пыталась и по-плохому. С расчетцем нехитрым: отсечь от коллектива, блокировать. А в одиночку общительнейший Виктор Трофимович, балагур и остряк, в мизантропии угрюмой вроде бы не замеченный, долго ли протянет? А вырваться к людям, мосты навести – через кого? К ней же и обратится.
Но опять вышло – по-пустому старалась. Карданов на следующий день после группового побега, в котором он не участвовал, в школу не пришел. Позвонил Гончару и попросил его передать, что свалился с ангиной ядреной. Гончар о звонке этом спокойно так оповестил кое-кого из интересующихся, и показалось всем, что и интереса тут особенного быть никакого не может.
Однако ж интерес все-таки оказался. Людочка начала сама и как бы вполголоса, ну а ее камарилья подхватила и в открытую уже забубнила, что какая там ангина. Испугался он – вот и весь сказ. Струсил. Вот и сидит дома, носа не кажет, чтобы от гнева народного не пострадать часом.
А на третий день посетила Витю Таня Грановская. По линии комсомола. Так она сразу и сообщила ему, как только вошла, и подошла к постели, и присела, как в хороших романах пишется, у изголовья больного, а Витина мама оставила их наедине.
– Скажу им, что ты болен и что у тебя высокая температура, – сказала Грановская.
– Не поверят, Людочка тебя переговорит, – возразил Карданов, демонстрируя тем самым, что и при температуре под сорок разум не спешил покинуть его.
– А если я… заражусь от тебя?
– Да как заразишься? У меня и чих пропал. Вот лежу и лежу. У меня какая-то блуждающая температура.
И тогда Танечка – вполне неожиданно для себя, для Вити, для всей общественности (отсутствующей), а в общем-то легко и мгновенно склонилась над изголовьем больного и… поцеловала его.
А потом, видимо, чтобы у больного не слишком кружилась голова, строго и назидательно разъяснила:
– Я не одобряю твоего поведения. Но я за справедливость. Ты болен, а они говорят, что ты струсил. Но теперь я им докажу.
И точно: доказала. Аденовирусная инфекция, видя такую преданность юной красавицы делу справедливости, перелетела-таки неслышно от его к ее организму. И когда на следующий день Грановская пришла в школу, то доказательства заболевания Карданова уже цвели ярко на ее взявшемся температурой личике.
– Лежит. Наверное, от него и заразилась, – обескураживающе просто доложила она коллективу, а с третьего урока уже и отпустили ее домой. Пришлось коллективу разговорчики о кардановской трусости свернуть. И вся история получила кристально ясное завершение, за исключением разве способа, которым настырные вирусы попали от одного из ее участников к другому.
Но в конце концов Людочка и к Карданову приноровилась все-таки относиться как к данности. К факту, дальнейшим пробам на зуб не подлежащему. Приучилась просто сосуществовать, принимать во внимание. Но и только. Благо и он в ее деятельность, в дела по опеке над душами неопытными не вникал. Грубого вторжения на территории, ею облюбованные, не предпринимал.
XXV
– Ты материалист! – без околичностей, в лоб заявила Люда Гончарову, которому ведь необходимо было как-то объяснить, в чем именно может она ему помочь теперь и почему берется за это. Гончаров Юра, кандидат наук, ничего на это не возражал. Чего возражать, коли сам приперся, напитком угощают и помочь обещают? Сиди и вникай. Тебе все равно, а ей приятно.
Оп прекрасно знал, что ей это приятно и что действительно может взяться ему помочь – хотя и неизвестно, как это сделать? – именно для того, чтобы приходил еще и еще, чтобы вникал и проникался, понимал, в чьих руках нити невидимые.
– Ты материалист, – повторила Люда, – я химик, значит, тоже материалист. А Карданов здесь ни при чем.
– А при чем здесь Карданов? – вырвалось тут уж у Гончарова.
– Речь идет о тебе, поэтому Карданова мы пока трогать не будем.
– Я тоже так полагаю, – примирительно буркнул Юрий Андреевич.
– Я химик. Пить больше не будем, да? – Люда грузно поднялась из кресла, взяла призму-бутылку, утиной походочкой пересекла комнату и задвинула посудину в недра пузатого буфета. Потом снова подошла к столику и прочно, сразу можно было понять, что надолго, заняла свое место напротив молчащего Гончара. Он только успел в этот момент подумать, что, если она в третий раз объявит, что она химик, он сразу встанет и уйдет. Скажет, что его мутит, что ему нужно на свежий воздух, и уйдет.
– Положи колечко на место. Оно, кстати, из платины. Чего ты нервничаешь, как девица у гинеколога? Ты знаешь, что такое химия?
– Да как тебе сказать? – Юра окончательно отказался от любой инициативы, та, которую он проявил, дойдя до этой квартиры, – последняя, и это все-таки неплохо, что кто-то опять ведет его, крепко взяв за палец, как лиса Алиса Буратино, как Снежная королева Кая. А Герда подождет, иначе не состоится счастливый финал, она знает и поэтому подождет. Только бы не гипертонический криз. Или поджелудочная железа… она тоже, стервоза, без уговоров. Без уведомлений.
– Ты знаешь, что еще в тридцатые годы все мы должны были сдохнуть? Все. На всем земшарике. С голодухи. Еще в начале века ученые рассчитали, что запасы чилийской селитры, которая повышала урожайность, где-то к тридцатым годам – ку-ку.
– И что же?
– А правильно рассчитали-то. Рождаемость-то все вверх, а чилийская селитра – откуковала.
– А чего же не сдохли?
– А с помощью чего сейчас урожаи-то? Всякие зеленые и серо-буро-малиновые «революции»? Ну? Правильно, мальчик, по глазам вижу, что знаешь. Азотные удобрения. Азот научились извлекать из воздуха. А вот этого, – Люда взяла с инкрустированного подносца кольцо, – ты можешь уже и не знать. Что процесс изготовления азотных удобрений идет только на платиновых катализаторах.
Хорошо сделалось Гончарову, и поэтому он молчал. У каждого, наконец, свой метод, но раз она взялась, начала уже и теперь будет долго говорить, проговаривать, чтобы что-то родить и в конце концов, может быть, даже и действительно на что-то выйдет. Реальное для него.
– Теперь ты знаешь, что такое платина. Предмет роскоши, ха-ха, в скобках отметим. Разумеется, не передохнуть с голодухи – тоже ведь, с точки зрения вечности, можно считать роскошью. И что такое химия – а у нас ведь таких, как платина, еще сотня с лишним элементиков в таблице, тебе знакомой, – насчет химии, тоже будем считать, все ты теперь разумеешь. Вот потому, что ты теперь знаешь все про химию, я тебя и спрашиваю: почему ты продолжал встречаться с Кардановым после школы?
– Знаешь, именно этот вопрос все эти годы мне задает моя женушка. Не редко, но зато регулярно.
– И правильно делает. Она у тебя вообще баба умная. Жаль только, что глупая, вот в чем беда. Что вопрос задает – правильно. А вот, что не знает, почему тебе его надо задавать, – это хуже. И ответа, кстати, не знает. А я знаю. Вообще, умный человек задает только те вопросы, на которые знает ответ.
– Как ты, например?
– Просто в этом случае есть гарантия, что в ответ услышишь стоящее. А не бред сивой кобылы. А меня оставь. Я проживу долго. Понятно?
– Нет, – честно ответствовал Юра.
– Я верю в материю. И в технику. Что одно и то же. Я сейчас получаю примерно две с половиной сотни. Через десять лет – автоматически на сотню больше. Без всяких там диссертаций. За работу. Я работаю в области химии. Мы все держимся на технике. А все остальное – ложь и хлипкость. Моды преходящи. Романтика для слабаков. Скоротечные состояния сколачивают сдача пустых бутылок или торговля пивом на бойком месте. Открытия гениальные пыжатся некоторые сделать… или вот сейчас эстрада в ход пошла.
«Не заговаривается ли? – мелькнуло у Гончарова. – Нет, послушаем. Жестко вроде излагает».
– Мой отец был крупный гидрогеолог, – продолжала всерьез увлекшаяся Люда. – И крупный организатор. И всю жизнь почти провел на объектах. Без этого вот всего, – она повела головой на стены комнаты. – Но это все было. И только росло. Без спадов, не подверженное превратностям… И давало ему силу. Это и осталось.
– Чего же ты тогда так уж насчет своих сотен? – попробовал Юра как-то упорядочить размашистую мысль.
– Я же сказала: я проживу долго. То, что я беру от жизни, предполагает длительность процесса. Но к этому еще вернемся. Пока – как постулат. А раз долго – терпеть не могу скороспелости, моды. Цветомузыка, дубленки, тьфу… То на дензнаки, то на шмотки, то на старину скопом шарахаются. Представляешь, захожу к одним, а у них событие: мужик докторскую защитил. По социологии. Ну, пляшут, натурально, как дети.
– А чего ж?
– Да ведь модно же. Только из-за этого. На докторскую себя загнать и купоны стричь. Машинка, дачка. А он уж – предынфарктник. А через десять лет, глядишь, в лаптях пойдут, в подолы сморкаться начнут, луком закусывать… Тогда нам что, тоже за ними шарахаться? Я ж тебе сказала: на технике все стоит. На умении материю обрабатывать. На технологии. Это вне моды. Я от отца генетически это усвоила. Спасибо ему.
– А я все-таки повторю вопрос: чего же ты тогда насчет своих двух с половиной сотен?
– Потому что не все равно, как их зарабатывать. Я полезный член общества. И всегда им останусь. Никаким катаклизмам не подвержено. Химия полимеров. Миллион новых соединений только за последние семь-восемь лет. Еще цифры нужны?
– Не нужны. Знаю, – твердо ответил Юра.
– Знаю, что знаешь. Это-то уж должен знать. А долгая жизнь – единственно, кстати, и достойная человека, я не беру разных там гениев, поэтов и прочих, – она реальна, только если соблюдаешь правило: основного капитала не трогать. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Не позволять, чтобы такие обстоятельства даже приблизились к тебе. Вот почему я тебе и о сотнях сразу так. Думала, что так популярнее. Вот этого-то хоть, всего, что от отца осталось, чтобы не трогать, – этого я достигла. Поэтому я и могу помогать людям. И тебе смогу.
– Не вижу связи. Я, кажется, не взаймы пришел…
– Перестань, Юрочка, все ты понимаешь. Не видишь только с нужной отчетливостью. Потому что у тебя перед глазами то бабы голые летают, то коньяки пополам с бормотухой, ну а уж поверх всего – на облаке галактическом – сам мсье Карданов возлежит. И наблюдает с улыбочкой: с достаточной ли ты скоростью губишь себя, не притормаживаешь ли…
– Слушай, Люд, ты, конечно, корифей и вообще свой человек. Но насчет Витьки-то… Что ты опять Катерину мою цитируешь? Я ведь и дома это во всех вариантах слышал. А от тебя-то и новеньким чем разжиться ожидал.
– Будет тебе и новенькое. Дай закурю. – И, ни секунды не мешкая, снова поднялась, подошла к окну, достала из-за шторы пачку и снова вернулась к столу, уже попыхивая белоснежнейшим «Кентом».
– Ты о престижности слышал? Эти, которые перед другими щеки дуют, – эти совсем дешевка, о них чего… Это для газет, беседы о гармоничном современнике и те пе. Но словечко это используем: от него плясать удобно. Престижность не перед другими, а перед тем, что сам для себя принял когда-то за стоящее: вот дьявольщина настоящая. Знаешь, в чем бесстрашие? Спросить иногда – неважно кого, можно и так, риторически, в небо пустить, но чтобы прозвучало: а р а д и ч е г о?
– Хмылов мне последнее время пытался что-то похожее формулировать. Не от тебя ли?
– Нет. Он сам по себе. Тут классический случай: заяц он, полжизни чужими приоритетами… как спеленутый. И я ничего не могла сделать. Добрейший парень, тут уж – кому и помочь, как не ему. Но что я могла? Я же тебе говорю: тут дьявольщина, заклятие. Причем заметь еще: какую чашу тебе подставят, с каким зельем – этого тоже не угадаешь. В одном случае из сотни – ту, которая с твоим собственным составом совместна. Свой-то собственный, он для тебя проясняться начинает не скоро, когда наломаешься, наживешься в свое, а то и прямо как в гроб сходить подоспело.
– Говори прямо.
– Я тебе постепенно говорю. Чтобы ты понял. С девочкой какой-нибудь, с той легче. Она на тебя смотрит и по глазам что-то определяет. Чувствует, что тут поверить стоит. А тебе же понять надо. Вот и усваивай.
Так вот, они, эти принципиальные-то, со стороны посмотришь – любо-дорого. На компромиссы – ни-ни. Претерпевают, не сгибаются и те пе. То есть как раз идеалы ходячие, к которым подтягивают все эти очерки, беседы журнальные о нравственном облике. О ценностях ложных и истинных. И опять же: со стороны – это еще ладно. Главное, они и сами перед собой так выглядят: нас не прельстишь мишурой модной в глаза – мы глаза зажмурим, жизни, семьи не пожалеем, Антарктиду растопим, с Эвереста на одной лыже сомчимся, – но от идеалов своих ни шагу. Коней на переправах – не поменяем, колод новых – не распечатаем. Чем сдано на руки – тем и отбиваться станем. До последнего. Чуешь, чем блазнит? Картинка-то какая замечательная? Только бы не предать, не опошлить. Ведь это ж прекрасно. С этим жить можно и человеком себя чувствовать. Вот тут-то и дьявольщина.
– А сама? Что от отца усвоила, этим и держишься? Только что говорила.
– Я же говорю: в одном случае из ста – а может, из тысячи – совпадает. С естеством собственным. Вот для меня и совпало. Не перебивай, знаю, о чем спросишь. Откуда известно? Знаю, и все. Не обо мне речь. О тебе проясняется. Замечаешь? Мы с тобой время зря не теряли. Я тебе два вопроса подкинула вначале: ты почему после школы с Кардановым встречаться продолжал? Ты почему в центр переехал? Сам можешь ответить?
– Теперь да. Могу, кажется.
– Вот именно. Теперь можешь. Полчаса назад – не знал. Для этого я тут и гудела перед тобой. А, черт, голова даже разболелась. Да подожди, не суетись. Сейчас таблетку приму, и нормаль. У меня перед обедом это часто теперь… Давай о тебе кончать. Я тебе помогу. И Карданову тоже.
– А ему зачем? То есть в чем?
– А вот ты мне об этом и расскажи. А я, кстати, и отдохну пока.
Она приняла таблетку, запила водой, Юру не прерывала, и он коротко передал о последнем разговоре с Виктором и что ему теперь надо с женой как-то выяснить, что там у них в институте буксует насчет Витиного оформления на работу.
Только он успел закончить с этим, как пришел Додик, двоюродный Людин брат, на несколько лет старше, кто он и зачем существует, никто из них не знал и не спрашивал, но знали о его существовании и даже виделись еще тогда, со школьных лет, заставали на квартире у Люды. Даже имени полного не знали, просто Додик и Додик, какой-то такой скользковатый деятель, родственник Людин имеется на свете, и в квартире у нее на него частенько натыкаешься – вот и все. А он и не изменился, и сразу по нему видно, из тех людей, что и меняться не собираются. Что двадцать, что сорок ему. Та же масленая улыбочка, решительно ко всем подряд вежливая, те же крупные глаза навыкат, как черные маслины, волосы, отдельными кустами торчащие.
И вот этот Додик – конечно, не присаживаясь к ним, какое там, все на ходу, на лету, – проходя мимо их столика, кивнул Юре, как будто каждый день с ним виделся, и сразу к Люде:
– Ну что с тем? Можно рассчитывать?
– Да. Вот, Юра тебе сделает, – без эмоций ответила Люда. – Иди в ту комнату. Там тебя Барсова покормит. Бульончику чашку сделает. А кулебяку сам возьми.
– А заливное?
– Да все есть.
Додик нырнул в соседнюю комнату, а Юра приготовился слушать, чего это такое поручат ему сейчас сделать для дяди с «дипломаткой» обшарпанной, попрыгунчика без возраста, биографии и особых примет, которые для помощи угро предназначены. Он приготовился выслушать, а уж потом, может быть, и возразить. Попенять Людочке за небрежность ее великолепную, с которой нагрузила она его запросто, дружественным манером. Ни о чем серьезном не попросят: это он понимал. Так дела не делаются. Но – мелочь, но – для начала… Тут она была неотразима: мол, пришел, я с тобой занимаюсь, разговоры умные на тебя трачу, значит, мы на тебя сеточку, для начала шелковенькую… Чтобы не взбрыкнул.
Гончар Люду знал и приемчикам ее не удивлялся: у каждого своя натура, чего уж тут. Послушаем. Ход назад-то не запирал никто. Чего паниковать раньше времени?
Юрий Андреевич Люду знал, это так. Но недооценил. Не стала, она ничего ему объяснять насчет Додика, а сразу продолжила разговор, прерванный его появлением. И теперь выходило не только так, что Гончару уже можно порученьица навешивать, не консультируясь с ним, но и объясняться по этому поводу – тоже дело излишнее. Так уж сразу выходило, как будто зачислен он в штат. А на какую должность и в чем обязанности – невелика птаха разъяснять специально.
Юра и на это не осерчал, ему это даже нравилось все больше: хоть одно-то место, одна-то квартира в мире не линяет, стабильностью нравов похвастаться может. Зайдешь сюда хоть через сколько, через эпохи осыпавшиеся, а тут все те же игры, насквозь видимые. И хозяйка – с прежней, наивной, потому что видимой для него, хитростью – цепляет петельки, следы путает. С прежним вкусом занятию, раз найденному, предается. Сделаем вид, что не замечаем белых ниток, как люди воспитанные. Не будем спешить: послушаем дальше о материях возвышенных.
– Техника и технология – этого не остановишь. И в сторону не завернешь. Об этом только дистрофики умственные загибать могут. Которые цинка от олова в упор, на трезвую голову не различат. Отсюда и новые кварталы. От технологии. И Чертаново твое. И тебе как раз это и подходит. Туда все выносится, за чем будущее. Технология требует незанятого пространства. И производство, и жизнь – сейчас все кубами идет. И долго еще будет идти. До середины двадцать первого, как минимум. Каждые десять лет – удвоение. По всем параметрам. Это – общепланетный ритм. Вдох – выдох. И это по тебе…
– Да по мне сейчас, вообще, все что угодно. Хоть удвоение, хоть утроение. Еще пару раз вдохну – этими твоими вдохами-то – глядишь, мне и шестьдесят. О душе пора думать. То бишь о пенсии. А сына жена заберет. За такой вдох-выдох он меня и в лицо-то позабыть успеет. Хорошо. Как у Кюстрина в ванной. У него там, знаешь, бульон первородный закипает.








