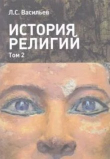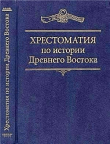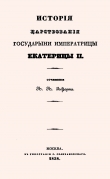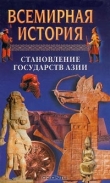Текст книги "Всемирная история в 24 томах. Т.2. Бронзовый век"
Автор книги: Александр Бадак
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
Вообще следует сказать о том, что, пожалуй, самой характерной особенностью костюма жителей древнего Египта является стремление к прямым, четким линиям. Правда, следует оговориться, что несколько особняком стоит одеяние жрецов. При совершении жертвоприношений спину жреца покрывала шкура пантеры. Часть шкуры с головой располагали спереди и прикрепляли к поясу. Голову и лапы украшали золотыми с эмалью пластинками.
Костюм женщины Древнего царства не намного сложнее. Он состоял из длинной прямой рубашки «калазириса» на одной или двух бретелях, оставляющих грудь открытой. Уже в эту эпоху у знатных египтянок на калазирисе появляется отделка – вышивка или плиссировка. Калазирис остается основной женской одеждой на протяжении всей истории Древнего Египта и изменяется лишь в некоторых деталях кроя. Иногда вместо отдельных бретелек делают цельнокроенную рубашку с круглым вырезом горловины. По этой одежде, изображенной в мелкой пластике и на фресках, можно проследить, какое разнообразие пестрых или вышитых тканей вырабатывалось в древнем Египте.
Женщины, как и мужчины, носили парики из растительных волокон, завитых крупными спиральными локонами, более длинными, чем у мужчин.
Известная статуэтка, датируемая 2400-м годом до н. э., которую принято называть «Тенти с женой», пожалуй, лучше других сможет проиллюстрировать тип одежды египтян Древнего царства.
Мы видим семейную пару. Мужчина и женщина стоят, взявшись за руки; мужчина одет в схенти из полотна. Левый конец от середины бедра заложен в мелкую складку и округлен. Пояс из плотной ткани или кожи застегнут костяной пряжкой. Бритая голова египтянина покрыта париком из растительных волокон. Жена Тенти одета в калазирис из полотна, на голове ее также парик.
Прекрасный рельеф из гробницы Акхутотепа периода III – IV династии изображает рыбную ловлю. Рельеф этот поможет нам представить себе одежду рабов того времени.
Здесь изображены несколько мужчин, которые тянут сети, полные рыбы. На невольниках надеты набедренные 1кн1язки из грубого полотна или кожи. Они состоят из пояса и куска ткани, который прикрывает перед. Бритые головы покрыты плотно облегающими шапочками из светлого грубого полотна.
В эпоху Среднего царства древнеегипетская одежда заметно усложнилась. Классовая дифференциация в египетском обществе и антагонизм между классами были на-
столько велики, что кварталы богачей и бедняков в городах разделялись высокой стеной, и беднякам запрещалось проникать за пределы определенной территории. Все это не могло не сказаться на костюме.
Появление новых тканей и привоз материй и различных предметов роскоши из Передней Азии способствует созданию более сложных форм костюма.
Египетская знать уже не довольствуется скромным схенти Древнего царства. Количество ткани, затраченной на одежду, теперь свидетельствует о сословном и имущественном положении ее владельца. Египтяне начинают понимать красоту пластических свойств ткани. Все чаще и чаще появляются плиссированные и гладкие длинные схенти. Схенти прежней формы у знати сохраняются как обрядовая одежда, а у большинства населения – как повседневная.
Женский костюм претерпел не такие сильные изменения. В период Среднего царства калазирис сохраняет прежний покрой, прибавляется лишь отделка и украшения, которые носят женщины привилегированных сословий.
Однако постепенно и в женском костюме проявляются те же стремления использовать пластические свойства мягких и тонких тканей. На некоторых памятниках позднего периода Среднего царства встречаются изображения женщин в тонких, слегка драпированных покрывалах. Основная же масса женщин продолжает носить калазирисы прежней формы.
Фрагмент росписи гробницы, расположенной в Деир-эль Медине, изображает жреца, который преподносит ладан супругам Сеннеджем. Слуга царевны, наливающий ей напиток в плоскую чашку, одет в удлиненный схенти, характерный для эпохи Среднего царства. Калазирис царевны имеет одну широкую, фигурного покроя бретель. Короткий женский парик – нововведение эпохи Среднего царства – в это время имела право носить лишь высшая знать. Костюм служанки – традиционный калазирис и длинный парик.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В одной из гробниц Рамессеума была найдена целая библиотека времен Среднего царства. Среди религиозных, научных и традиционных дидактических текстов были найдены
и художественные произведения «История Синухета» и «Красноречивый поселянин». Кроме того, известно еще немало произведений египетских авторов периода Среднего царства, что позволяет сделать вывод о довольно высоком уровне развития художественной литературы в то время.
Исторический анализ проявившихся в произведениях достаточно зрелых и высокохудожественных тенденций, к сожалению, невозможен. Очевидно, что литература периода Среднего царства опиралась на опыт более ранних творений, однако, практически все письменное наследство Древнего царства утрачено.
Более-менее твердо генетическая связь литературы Среднего царства с произведениями предшествующих эпох прослеживается в жанре поучений. Здесь некоторые произведения авторов древности известны хотя бы по ссылкам на них позднейших дидактиков. Например, велика вероятность того, что известное по многочисленным спискам Среднего и Нового царства поучение царевича Хардедефа в действительности написано значительно раньше. В этом убеждают тяжеловесный, архаичный язык, громоздкость стилистических конструкций и авторитетность текста. Широкая популярность поучений Хардедефа в период Среднего царства заставляет предполагать, что это памятник древний, с устоявшейся литературной репутацией.
Список подобных, архаичных по происхождению, поучений можно продолжить. Это и поучение Птаххетепа, предположительно жившего во времена V династии, и наставление отца сановнику Катемни времен III династии. В одном ряду с ними стоят и оригинальные произведения авторов непосредственно Среднего царства. Достаточно популярно было тогда поучение Ахтоя своему сыну-школьнику, где воплощено чиновничье отвращение ко всяким видам общественно полезного труда. Исключение автор делает только для профессии писца, призывая сына, если уж тому все-таки захочется порадеть о благе близких, выбрать именно это занятие. Еще два известных нам поучения по своему характеру не совсем вписываются в привычные границы жанра и являются по существу политическими завещаниями двух известных царей X и XII династий.
Пространное поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикару полно практических советов наследнику, касающихся многих областей управления государством. Несколько особняком в произведении стоит обширное отступление о значении для жизни всего сущего на земле Солнца, написанное достаточно ярко и выразительно. Несколько иное звучание у поучения основателя XII династии Аменемхета I, адресованного сыну Сенусерту. Здесь остро ощущается горечь много пережившего человека, который пытается предостеречь наследника от повторения собственных ошибок. Возможно, писалось поучение вынужденно отошедшим от престола человеком, глубоко обиженным этой явной несправедливостью.
Столь откровенное выражение чувств, впрочем, было в период Среднего царства скорее исключением из правил, чем нормой. Большинство поучений создано по рецепту, ярко проявившемуся в еще одном достаточно популярном произведении – «Поучении Схетепибра». Этот казначей Аменемхета III самодовольно поучает современников и потомков, как выгодно служить фараону и столь ужасны последствия непокорности царю. Перед нами настоящее славословие владыке, от которого автор целиком и полностью зависит.
Несколько особняком стоит в литературе периода Среднего царства «История Синухета». По определению Б. А. Тураева, это «настоящий роман, совершенно лишенный фантастического элемента». Причем высокий уровень произведения подразумевает, что существовали и другие, возможно, менее художественные произведения подобного типа. «История Синухета» высоко ценилась египтянами, в чем-то приравнивалась ими к жизнеописаниям времен VI династии, но выделялась живостью изложения и напряженностью продуманного до мелочей сюжета. В этом компоненте «История Синухета» не имела равных в литературе Среднего царства. Содержание повести в общем-то незамысловато: придворный Синухет бежит из воинского стана, опасаясь смуты, неизбежной при смене властителя, при первом же известии о смерти Аменемхета I. Герой попадает в Сирию, где, пережив череду испытаний и неудач, все же приобретает высокое положение и богатство, однако в конце концов возвращается в Египет, где ласково приветствуется не забывшим его новым фараоном Сенусертом I. В повести немало удачных сцен, написанных достаточно живо и гармонично, но буквально потрясает описание бегства через пустыню и единоборство героя с сирийским предводителем.
«Красноречивый поселянин» – повесть несколько иного звучания. Это сугубо книжное сочинение, явно написанное по правилам древнеегипетской риторики, где в уста несправедливо обиженного крестьянина вложены обвинительные речи в адрес обидчиков. Из этих речей составляется достаточно четкая мозаика сюжета, согласно которому поселянин в дни гераклеопольских царей отправляется из оазиса в столицу с целью выменять хлеба на добытые им шкуры животных. По дороге он был ограблен прислужниками важного вельможи и долго не может нигде найти управы на обидчиков. Вельможа остается глух к стенаниям пострадавшего, однако, сама речь поселянина ему приходится по вкусу, и он отправляет обиженного поселянина на потеху к царю. Конец морализаторски выведен достаточно благополучным: царь, выслушав крестьянина, награждает обиженного и наказывает грабителя.
Во времена Среднего царства широко бытуют литературные обработки сказок о Хеопсе и чародеях. Сам цикл, возможно, сложился еще во времена Древнего царства и имеет достаточно традиционную для Востока структуру: царевичи один за другим рассказывают Хеопсу о деяниях чародеев, живших при его предшественниках. Набор приписываемых чародеям поступков достаточно своеобразен: один из волшебников сумел перевернуть озеро, чтобы достать оброненную придворной красавицей вещицу, другой сумел покарать неверную жену и ее любовника. При этом царевичи не скупятся на подробности из жизни владык-предшественников: те и любуются обнаженными придворными дамами, заставляя их грести в многовесельных лодках (именно тогда и была обронена в озеро драгоценность), и пируют разгульно, вызывая на пиры чародеев. В конце концов Хеопс сам решается призвать по совету царевича Хардедефа чародея по имени Джеди, но ожидаемого веселья не получается: мудрец, явившийся ко двору, предсказывает, что через несколько поколений власть перейдет к другой династии.
Сказки вообще достаточно популярны в Египте Среднего царства. Пользовалась успехом у читателей и слушателей своеобразная «Сказка о потерпевшем крушение». В фольклорном духе в этом произведении отразились представления египтян о волшебной экзотике далеких заморских стран. Незамысловатость сюжета с лихвой окупается в этом произведении яркими картинками непохожей на египетскую природы, чудностью нравов обитателей неведомых островов. Герой сказки – простой египтянин. В своих скитаниях по Южному Красноморью он был выброшен иа остров в результате кораблекрушения. Хозяином острова оказывается ужасный обликом змей. Когда первый испуг проходит, мореплаватель убеждается, что владыка островка – существо в общем-то достаточно безобидное и общительное. За египтянином вскоре прибывает корабль, и змей, расчувствовавшись, дарит гостю на прощание дивные сокровища, а тот, естественно, сразу по прибытию спешит со змеевыми дарами к царю. Царь тут же производит мореплавателя в свои телохранители.
Видимо, простые египтяне в период Среднего царства достаточно благосклонно встречали подобные произведения со счастливым концом. Однако ближе к закату Среднего царства, в годы, когда явственно проявляются признаки надвигающегося на Египет хаоса, звучание многих литературных произведений существенно меняется. Уже в «Повести о красноречивом поселянине» заметны черты формирования нового жанра обличительных фантасмагорий. Осмысливая современную им действительность, авторы периода упадка Среднего царства все чаще начинают высказывать сомнения в гармоничности окружающего их мира. При этом форма подобных произведений позволяет причудливо переплетать реальный и выдуманный автором миры, сопоставлять их, искать и находить аналоги и между рефлексией смятенной внутренней неустроенностью души и катаклизмами пораженного злостным недугом света. Самое отвлеченное из подобных произведений – «Беседа разочарованного со своей душой». Острый и неожиданный диалог разуверившегося в злом и бездушном обществе героя с его душой завершается победой последней. Герой больше не хочет смерти, якобы несущей ему избавление от страданий. Он готов вопреки официальным верованиям и дальше наслаждаться реальными жизненными благами, не слишком-то доверяя возможности возмещения недополученного потом, в загробном свете. Впрочем, «разочарованный» не изменяет своего мнения об обществе, в котором ему приходится жить, и тут душа не делает попыток переубедить хозяина в обратном. Это произведение пронизано свободомыслием, эпикурейским духом сомнения в истинности господствовавшего в период Среднего царства религиозного учения.
Еще одно обличение, датированное приблизительно серединой правления XII династии, схоже с «Беседой разочарованного» по форме. Однако здесь герой ведет беседу со своим сердцем. В качестве героя выбран рядовой жрец из Гелиополя, и, возможно, этот образ автобиографичен. Глазами беседующего мы видим происходящие в стране события и в свете наваливающихся год за годом на Египет напастей и злосчастий весьма логичным выглядит обращение героя именно к сердцу. Оно буквально истекает кровью, сопереживая хозяину, оно не в силах вынести океаны неправды и горя, затопившие страну.
«Речение Ипусера» внешне выглядит более реалистичным по форме, чем «Беседы». В этом обличении конкретны образы и обличающего и адресата, к которому обращается взволнованный египтянин. Сама же подача материала близка по принципам к повествованию историческому и, возможно, «Речение» основано на реальных фактах из жизни Египта периода Среднего царства. По крайней мере, 17 страниц, хранящихся в Лейдене, заставляют спорить египтологов о вероятном восстании низов в долине Нила. Об исторических событиях, реальных или выдуманных, говорит в долгом и пламенном монологе, обращенном к царю. Ипусер – знатный обличитель, не побоявшийся высказать правду властителю, которого он считает виновником и зачинщиком всех обрушившихся на страну «беспорядков». Автор жалуется, что миновали в Египте хорошие времена, когда люди чтили закон. Теперь все стали, как звери. Всюду бродят шайки разбойников, а землепашцы на работы вынуждены отправляться с копьем и мечом. Законы нарушены, и «земля перевернута, как гончарный круг!» – восклицает Ипусер. Сущность «беспорядков» автор видит в следующем: «Тот, кто не имел собственного дома, бродил в лохмотьях, выпрашивая подаяние, теперь ходит в одежде из тончайших полотен, мажется душистым маслом, пьет лучшие вина. Тот, кто не имел ладьи, дабы переправиться через Нил, завладел флотилией кораблей, а прежний хозяин смотрит на эти корабли, но они ему уже не принадлежат. Девушка, ранее видевшая свое отражение только в воде, ныне причесывается перед бронзовым зеркалом. Рабы и рабыни стали дерзки в своих речах...»
Ипусер обоснованно, как ему кажется, упрекает царя, ведь центром волнений стала столица, а движущей силой переворота – «ничтожные» люди, подвластные властителю. Они разогнали должностных лиц, разграбили пирамиды, сделали доступными каждому магические заклинания. Невозможно терпеть более «беспорядки», и Ипусер, стих за стихом, начинает с рефрена «Истребите противника местожительства частного».
Если описанные в «Речении Ипусера» события действительно произошли в Египте, то они легли в основу еще одного произведения – «Речения Неферти». Список этой повести, выполненный в середине Нового царства, но по всем признакам, просто скопированный с более раннего источника, хранится в Эрмитаже. Произведение достаточно невелико по объему, но весьма интересно по форме. Автор вкратце в форме предсказания передает картину переворота в жизни Египта, но монолог вложен в уста жреца Неферти, а адресатом сообщения выведен царь VI династии Снефру. Подобная ретроспеция придает особую силу стенаниям жреца-предсказателя, взволнованного открывшейся ему картиной возможного потрясения всех устоев жизни египетского общества. Он призывает своего царя сделать все, чтобы ослабить последствия будущего бунта, причем рецепт в этом произведении выписан достаточно своеобразно: необходимо преодолеть засилье иноземцев в стране. Впрочем, в концовке Неферти успокаивает Снефру: мятеж будет подавлен. Избавителем Египта окажется пришедший с юга царь-восстановитель по имени Амени.
Даже достаточно поверхностный обзор литературы периода Среднего царства убеждает, что творческий потенциал египетских авторов был достаточно высок, а набор технических приемов для воплощения своих замыслов широк и многообразен.
Явственно прослеживаются примеры строгого членения произведений по жанрам, каждому из которых соответствует специфический набор поэтических выразительных средств. В период Нового царства следовало ожидать всплеска мастерства египетских авторов, причем подъем был предопределен не только в литературе, но в зодчестве, науке, живописи.
КОНЕЦ СРЕДНЕГО ЦАРСТВА (II -й Переходный период)
ОСЛАБЛЕНИЕ ЕГИПЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
Реформы Аменемхета III предопределили сильную зависимость прочности царской власти в Египте от личностных качеств правителя, занимающего престол. Преемники этого талантливого фараона власти удержать не смогли, XII династия прерывается. Тем самым божественность происхождения следующей XIII династии, взошедшей на царствование, ставится под сомнение. В результате ослабляются морально-правовые основы передачи власти по наследству, престол становится игрушкой в руках многочисленных претендентов. XIII фиванская династия не только не может установить стабильный порядок перехода власти из рук в руки, но и, возможно, вскоре вынуждена допустить отделение низовьев Нила в полусамостоятельное государство под правлением XIV династии, происходящей из города Ксоиса (Хсау). Причем борьба за столицу, за верховный престол идет с переменным успехом: в списке египетских фараонов мелькают представители и XIII и XIV династий. Иногда им удается удержаться у власти только несколько месяцев, а то и дней. В чехарде сменяющих друг друга правителей становится трудно разобраться, тем более что иногда логика непримиримой борьбы возносит на царский престол совершенно случайных людей, явно не относящихся к царским родам. Некоторые фараоны II -го Переходного периода прямо называют своих нецарственных родителей, другие не находят нужным менять свои имена, звучащие отнюдь не по-царски.
Изредка престол занимают действительно деятельные и талантливые правители. Тогда в стране быстро наводится порядок, распри на время прекращаются, и соседи египтян вновь попадают под мощный пресс завоевательных походов властителей долины Нила. Тут же улучшается экономическое состояние страны, в государстве начинается интенсивное строительство, возводятся пышные изваяния, восславляющие удачливого фараона. Однако это скорее исключение из правил, чем норма. Едва власть переходит к менее талантливым наследникам удачливого владыки, вновь наступают хаос и смута. Правда, распада страны, подобного тому, который наблюдался в I-й Переходный период, в Египте не происходит. Даже в пору ослабления царской власти сохраняется понятие самого централизованного государства, и только редкий номарх осмеливается оспаривать верховные права занимающего престол властелина. По крайней мере массовое строительство гробниц номархами, наподобие того, что имело место при XI – XII династиях, в Египте уже не ведется. Более того, египтянам удается удерживать в подчинении отдельные завоеванные ранее области. До конца XIII династии, по крайней мере, ощущается влияние фараонов в финикийском городе Библ, остается под властью египетских правителей и Северная Эфиопия.
Однако в экономике нарастают признаки застоя, связанного с прекращением поступления регулярных трофейных «подпиток» сложившейся системы хозяйствования. Занятые внутренними распрями фараоны редко выбираются в завоевательные походы, а реструктуризация экономики в долине Нила идет крайне медленно.
ГИКСОССКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО В ЕГИПТЕ И ПАЛЕСТИНЕ
На рубеже XVIII – XVII веков до н. э. тринадцатая и четырнадцатая династии были сметены с престола вторгшимися в Египет азиатскими племенами гиксосов. Разнородные орды пришельцев в массе своей состояли из западносемитских, т. е. аморейских или ханаанейских племен. Это были вооруженные скотоводческие отряды, к которым примкнули и отдельные несемитские группы. По крайней мере имена некоторых предводителей вторгшихся в Египет завоевателей похожи по звучанию на «прототигридские» («банановые»).
Вторжение шло через восточную Дельту и, вероятнее всего, не было решительным натиском. Скорее действия гиксосов можно охарактеризовать как постепенное проникновение, которому фараоны XIII и XIV династий противодействия организовать не смогли. Со временем гиксосские цари выступают уже в роли фараонов, приняв все их титулы и называя себя «сынами Солнца».
Пришельцы, утвердившись в стране, объявляют себя почитателями египетских богов, в качестве нового государственного бога выдвигая при этом Сета. Несмотря на традиционное египетское имя, новый бог, судя по отрывочным сведениям о его культе, был только отождествленным с одним из богов долины Нила иноземным божеством. Выбор именно Сета в качестве «маскировки» объясняется достаточно просто: одно из мест его почитания находилось на востоке дельты, откуда и началось вторжение гиксосов.
Осевшие в районе низовьев Нила гиксосы правили в Египте не менее 108 лет. В определенной степени пришельцы сохраняли связь с исходными областями своего обитания. По крайней мере в XVII веке резко возрастает число египетских по происхождению находок в Палестине, характер многих из них указывает не столько на торговые, сколько на государственные отношения между Палестиной и гиксосским Египтом. Кроме того, в городах и селениях Палестины в это время появляются богатые двухэтажные дома, нижние части стен которых сложены из камня, а верхние – из кирпича-сырца. Технология возведения их очень напоминает ту, которая применялась в то время в Египте.
Своей столицей гиксосы сделали Аварис на самом востоке египетской Дельты, однако, прочного объединения захваченных территорий им достичь не удалось. По существу, гиксосская держава так и не была создана. Характер поселений этих племен в Палестине и в Египте свидетельствует о «лоскутности» устройства государства гиксосов в XVIII – XVII веках до н. э. Даже мелкие населенные пункты обводились крепостными стенами и глинобитными валами, а крупнейшие города имели мощные системы укреплений с двойными стенами, с тройными башнями. Пандусы при подходах к воротам спланированы были так, чтобы держать осаждающих как можно дольше под обстрелом лучников при попытке штурма цитадели. И, несмотря на это, почти все раскопанные города гиксосов носят на себе следы разграбления и пожарищ. Возможно, наряду с Аварисом, центром гиксосского государства вскоре становится Газа (ныне городище Тел ль эль-Аджжуль близ современного города Газы), причем между ними не стихают междоусобные войны.
Естественно, прочного объединения Египта гиксосами при таких условиях произойти не могло. Владычество пришлых царей не простиралось выше среднего течения Нила, а в Фивах и в соседних областях Верхнего Египта продолжали царствовать египетские династии. Судя по бедности их памятников, пышностью двора они похвастаться не могли, но как будто независимости у них гиксосы отнять не сумели. Только двум иноземным царям, Хиану и Апопи (Апапи) удалось в какой-то мере подчинить своему влиянию Верхний Египет (близ Фив были найдены печатки и камни с их именами). Вероятнее всего контроль гиксосов над Фивами был кратковременным, и явилось это результатом особо сокрушительных военных поражений верхнеегипетских правителей. Однако вскоре, собравшись с силами, фиванские цари отвергли прямую опеку гиксосских фараонов.
Военные поражения египтян в столкновениях с воинственными пришельцами на первых порах выглядят достаточно закономерно. Чередование фараонов XIII и XIV династий на престоле ослабило египетскую армию, и при встрече с серьезным противником она устоять не смогла. Смутные времена не позволяли полноценно обучать войска, а вооружение вторгшихся в долину Нила скотоводческих племен было на порядок лучше, чем у защищающейся стороны. Именно гиксосы впервые ввели колесный транспорт (а в военном деле это прежде всего колесницы), они же показали пример широкого использования конницы в сражениях.
Уроки первых поражений многому научили египтян. В долине Нила стали активно развивать коневодство, вскоре были построены и первые египетские колесницы. Шансы понемногу начинают выравниваться, ибо египтяне активно перенимали у противника передовые приемы ведения войны, а гиксосы теряли силы в междоусобицах.
Впрочем, достойными заимствования у пришельцев оказались не только их военные хитрости. Как положительные итоги нашествия гиксосов можно отметить создание иноземцами алфавитного, упрощенного египетского письма, привнесение ими в восприятие египтянами окружающего мира новых культов – поклонения грозному богу огня и смерти Рашпу и богине Астарте. Несомненно, велика заслуга гиксосов в повышении уровня скотоводства в долине Нила.
Однако, как и всякое нашествие, вторжение гиксосов оставило в сознании египтян тягостный след. Вплоть до манефоновских времен жило предание о гиксосском нашествии как о страшном погроме, после которого еще столетие храмы в стране остались по большей части разрушенными. Неудивительно, что египтяне вскоре начинают активную борьбу с пришельцами. Одновременно происходит характерная для Древнего Востока быстрая ассимиляция захватчиков численно превосходящим их местным населением. Утрата завоевателями национальной способности произошла буквально за два три поколения, и это даже привело к путанице в вопросах определения происхождения фара-онских династий. В писках Менфона не вызывают никаких сомнений только XV – явно гиксосская – и XVII династии. Пятнадцатая правит в Аварисе, а одновременно с ней в Фивах существует египетская семнадцатая династия. А вот в отношении XVI династии, представители которой вскоре занимают нижнеегипетский престол, до конца не-
ясно, была ли она гиксосской или фиванской. Сохранившиеся источники дают противоречивые указания на этот счет.
Как бы там ни было, однако в начале XVI века шестнадцатая династия теряет престол. Активную борьбу с ней начал правитель Фив Секененра, а после его смерти возглавлял походы верхнеегипетских войск в Дельту Камос. Борьба с гиксосами переплетается со стремлением вновь объединить долину Нила, и это знаменует начало нового периода в истории страны – периода Нового царства.
-=ГЛАВА 2=-
ВАВИЛОН ВО II ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э.
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОГОЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА
Возникновению и возвышению Вавилона, который почти на два предстоящих тысячелетия станет одним из крупнейших центров древней цивилизации, предшествовал целый ряд политических событий в Месопотамии, сплетенных в замысловатый узел.
Под ударами скотоводов-амореев пало централизованное государство – царство Шумера и Аккада, созданное III династией Ура. Не преминули воспользоваться легкой добычей и эламиты, обрушившиеся на южную Месопотамию. На территории Двуречья снова возникло множество мелких и средних царств, около двух столетий боровшихся между собой.
В результате вторжения и завоевания территории Шумера и Аккада аморейскими племенами образовались два самостоятельных царства. Исин стал столицей нового государства на севере, в Аккаде, Ларса – центром основанного амореями после ухода эламитов царства на юге. Вновь созданные государства претендовали на роль преемника державы и династии Ура, поэтому представители обеих династий называли себя «царями Шумера и Аккада».
В событиях, приведенных к образованию Старовавилонского царства, принимали участие еще несколько государств, среди которых царство Эшнунна, расположенное к северо-востоку от Исина в долине реки Диялы и царство Мари на среднем течении Евфрата.
Почти во всех государствах Двуречья утвердились аморейские династии, основателями которых стали вожди племен завоевателей. С течением времени пришельцы ассимилировались местным населением. Этому способствовал ряд обстоятельств. Например, в законах царя Исина для завоевателей отсутствовали правовые привилегии по сравнению с местным населением Шумера и Аккада. Возможно, такое положение дел подтолкнуло амореев к восстанию, которое было подавлено Урнинуртой, преемником Липитиштара, и способствовало временному усилению позиций рабовладельческой знати Шумера и Аккада.
ЦАРСТВОВАНИЕ ХАММУРАПИ
Одна из аморейских династий в результате очередного вторжения завоевателей около 1895 г. до н. э. утвердилась в небольшом городе Вавилон, находившемся в северной части государства Исин. Долгое время вновь созданное государство не играло значительной роли в политической жизни Междуречья. Целенаправленная и ловкая политика шестого царя I Вавилонской династии Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н. э.) способствовала превращению Вавилона и столицу огромного государства, подчинившего себе почти псе Двуречье. В условиях бесконечных междоусобных войн Хаммурапи не раз заключал и легко расторгал военные союзы, которые были необходимы ему для реализации своих далеко идущих планов.
Укреплению позиций Вавилонского царства в Месопотамии способствовал целый ряд событий. Государство Ларса в 1834 г. до н. э. стало легкой добычей эламитов. Исин к началу XVIII века до н. э. способствовало отделение Вавилона. Некоторые северные области, в том числе территории городов Мари и Эшнунны, попали во временную зависимость от Ассирии. Существует мнение, что Хаммурапи для того, чтобы более уверенно действовать на юге, на короткий срок признал свою независимость от царя Ассирии Шамшиадада I.
Первые годы своего правления Хаммурапи занимался возведением храмов и, скорее всего, активно готовился к военным действиям.