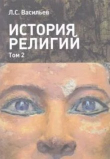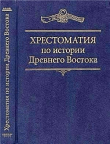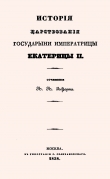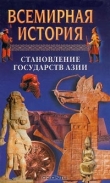Текст книги "Всемирная история в 24 томах. Т.2. Бронзовый век"
Автор книги: Александр Бадак
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Согласно новому закону, Телепину право на престол сохранял за прямым потомством царя, то есть не за родом царя, а за его семьей. Преемником царя должен быть старший сын царя от первой, то есть, полноправной жены. Если царица не приносила главе государства потомства, то царем становился «второй по порядку» или «второй ступени», то есть, возможно, сын от наложницы. Бывало и так, что власть передавалась мужу «первой» царевны, то есть дочери от первой жены царя. Такое случалось в том случае, если царь не оставлял после себя мужского потомства.
Телепину удалось провести закон о престолонаследии в тулию (совете), государственном учреждении, в состав которого входили сыновья царя, его родственники, свойственники, высшая племенная знать, а также высшая придворная знать и начальник телохранителей.
Ограничив престолонаследие лишь пределами семьи царя, этот закон, несомненно, укрепил царскую власть. Вместе с тем, он сохранял большое значение тулии. Тулия имела право наложить вето на решение царя казнить кого-либо из своих братьев или сестер. Царь, казнивший кого-либо из них самовольно, отвечал за это своей головой и его могли казнить на основании решения тулии.
Царь получал право казнить кого-либо из своих царевичей в случае подтверждения тулией его виновности, однако он не имел право причинять зло семье казненного и конфисковать его дома, поля, виноградники, рабов, скот и |. д. Все имущество казненного наследовала его семья.
В государственном строе Хеттского государства продолжал существовать и такой институт, как древний панк («толпа»), то есть, собрание воинов. Но в его состав входили теперь не все воины, а лишь привилегированная их часть – телохранители царя и начальники тысяч, наряду со знатью, входившей, кроме того, еще и в тулию.
Реформированный панк, подобный народному собранию племенной демократии, являлся во всемя войны высшим органом власти, который имел право требовать от царя, чтобы он притеснял врагов, а не прощал их.
В мирное время «толпа» имела право «свободно говорить» о преступлениях царя, которые карались, уже прав да, по решению тулии. Наказание виновного члена панка было правом этого собрания: «...если кто-нибудь злое сделает, либо отец дома, либо начальник слуг дворца, либо начальник виночерпиев, либо начальник телохранителей, либо начальник знатных тысячников... и вы, панк, захватите его и предайте наказанию», – говорится в указе царя.
В отличие от власти царя в Шумерах, Иокадо и фараонов Египта, власть хеттских царей не была деспотичной. Об этом свидетельствует указ царя Телепину. В силу исторических условий Хеттская держава представляла собой единение мелких царств, управлявшихся частью родственниками хеттского царя, частью представителями местных царских родов.
ХЕТТСКИЕ ЗАКОНЫ
Законы хеттских царей стали известны историкам на несколько лет позже, нежели законы царя Хаммурапи. Эти законы являлись важнейшим источником для определения общественных отношений в Хеттском государстве.
В богатой сокровищнице богазкейского архива едва ли не самыми ценными текстами являются две большие, правда несколько поврежденные, клинописные таблицы, сохранившие часть законов хеттских царей. Одну таблицу можно датировать примерно концом XIV века, а другую – первой половиной XIII века до н. э. Благодаря ряду имеющихся фрагментов текстов, содержание таблиц, в особенности той, которая старше, было почти полностью восстановлено.
Содержание первой таблицы посвящено вопросам уголовного права (убийства, преступления против личности, кража скота из домов, поджоги закромов, бегства и укрывательства рабов, похищения рабов и свободных), а также семейного права и положения воинов.
Что касается второй таблицы, то она производит впечатление беспорядочной выписки самых разнообразных дополнительных положений с прибавлением обширного тарифа цен различных товаров. К некоторым статьям, выписанным в первой таблице, писец добавлял замечания о том, что внесло новое законодательство в старое право.
В хеттских памятниках право несколько детализировано по сравнению с законами Хамурапи. По крайней мере, если таблички богазкейского архива дают нам полную картину хеттского законодательства, то такой вывод кажется бесспорным.
Например, кража различных видов скота в различных частях хеттского сборника трактуется в противоположность законам Хаммурапи весьма подробно, что, пожалуй, и не удивительно в обществе, в котором скотоводство играло еще и в это время значительную роль.
В других случаях следует искать причину большей детализации законодательства хеттских царей в большей сложности социально-экономических условий Хеттской державы, объединившей в XIV в. до н. э. на сравнительно долгий срок обширную территорию.
В одном отношении хеттское право было значительно более совершенным, нежели законы Хаммурапи, а именно в отношении кары за убийство. Умышленное убийство каралось двойным штрафом, по сравнению с убийством, когда "грешит лишь рука". Значит, хеттский законодатель принимал во внимание наличие злого умысла или отсутствие его у виновного.
В позднейшей переработке первой таблицы в случаях убийства купца предусматривались три возможные причины преступления. Убийство купца с целью грабежа, убийство из мести, а не из корысти и, наконец, убийство по неосторожности. А что касается законов Хаммурапи, то злая воля в них учитывалась в очень малой степени.
По сравнению с законами шумеров, ассирийцев, евреев, египтян, хеттские законы при первом поверхностном взгляде кажутся более мягкими. Однако следует подчеркнуть, •по эта мягкость хеттских законов является лишь кажущейся. По отношению к рабам эти законы были чрезвычайно жестоки, а по отношению к свободным более гуманны.
Свободный человек должен был платить за кражу лишь штраф двенадцать сиклей, заменивший штраф в одну мину (60 сиклей или около половины килограмма серебра), установленный более древним законодательством. Раб за то же преступление платил меньший штраф, и платил конечно же не он сам, а его хозяин. Но зато раб карался обрезанием ушей и носа.
В случае поджога свободный должен был лишь снова построить дом, но «если раб поджигает дом и если (даже) хозяин его возместит убыток, то рабу отрезают нос и уши сто хозяину».
Подобная же дифференциация в наложении кары по отношению к свободным и рабам имеется и в статье, связанной с представлением о магическом употреблении чьим-либо именем с целью причинить вред: «...если свободный человек убьет змею и назовет при этом имя кого-либо, то он должен уплатить за это мину серебра. Если же это сделал раб, то он должен за это умереть».
Вообще через все законы хеттских царей проходит красной нитью противопоставление раба свободному человеку. По отношению к непокорным рабам хеттские законы были значительно более жестокими, нежели законы Хамурапи. Вавилонский раб за сопротивление своему господину подвергался отрезанию уха, а хеттский раб предавался мучительной смерти.
Возможность брака раба со свободной женщиной была ограничена. Наряду с двумя статьями, допускавшими брак раба со свободной женщиной, мы имеем две статьи, которые должны были препятствовать сожительству свободной женщины с рабом. Рабы, от сожительства с которыми хеттские законы стремились удержать свободных женщин, были конечно же не рядовыми рабами, а рабами, занимавшими привилегированное положение, подобное «рабу сокровищницы» или «рабу престолонаследника». Что же касается большинства рабов, которые не владели ценным имуществом, то они, конечно же, не могли заплатить требовавшуюся «цену жены».
Сразу несколько документов свидетельствует о том, что рабы были лишены средств производства. Один из документов говорит о положении рабов в хозяйстве крупного рабовладельца.
Это царская дарственная грамота рабов, скота и земли, датированная концом XIII в. до н. э. Эта грамота была дана одной из дворцовых женщин высокого ранга. Здесь за перечислением общего количества рабов по возрасту и профессии следует перечисление скота «десять голов крупного скота челяди, десять голов крупного скота домоповинности царю, сто пять овец, две лошади, три мула». Первый пункт перечисления дает основание думать, что рабам в большом имении могло принадлежать некоторое количество скота, которое, однако, включалось в состав собственности рабовладельца. Перечисление скота сменяется перечисление земельных участков, но здесь нет указаний на то, чтобы часть земельных участков принадлежала рабам. Основная масса скота, а также вся земля находились в непосредственном владении землевладельца и рабовладельца.
В маленьких же хозяйственных наделах тяжело вооруженных воинов рабы не владели и скотом. Как об этом свидетельствует одна из статей закона: «...если воин и его оруженосец вели совместные хозяйства и разъединяются и разделяют свой дом, то воин может, если их хозяйству принадлежит десять голов (то есть рабов), взять семь голов, три головы может взять оруженосец. Крупный и мелкий скот они делят так же». О скоте рабов здесь нет речи, хотя упоминание его было бы весьма естественным при подобном дележе.
В пользу того, что раб, как общее правило, был лишен имущества, говорят и статьи закона, посвященные карам рабов за их преступления, поскольку они свидетельствуют об ответственности рабовладельца за убытки, принесенные его рабом.
Хеттские законы были жестокими в отношении рабов-военнопленных, однако, они не были мягкими и по отношению к тем свободным, которые попадали в положение раба-должника. Оговоров, которые имеются в аналогичном случае в памятниках ассирийского права, о хорошем обращении с подобными бедняками, хеттские законы не содержат.
Рабовладельческая знать, наиболее мощная и склонная к насилиям в отношении экономически слабых слоев общества, могла остаться почти безнаказанной за совершаемые ею преступления.
Крупные рабовладельцы могли, не боясь угрозы применения к ним принципа «око за око, зуб за зуб» и права кровной мести, расправляться со всеми неугодными им лицами, ведь новое законодательство хеттских царей требовало уплаты пени не только в случае увечья, но и в случае убийства. За преднамеренное убийство виновный должен был отдать семье убитого четырех рабов, а за убийство по неосторожности – двух рабов. По более позднему дополнению к законам убийца платил серебром.
Некоторые представители хеттской знати, как нам известно, имели до сотни и больше рабов, потому им ничего не стоило отдать за убийство своего врага двух или четырех рабов, а за телесное повреждение – некоторую сумму серебра.
Из этого становится понятно, почему рабовладельческая знать могла не бояться никого и ничего. Знать могла не только расправляться со своими врагами из среды мелких рабовладельцев, но также и расширять, по существу безнаказанно, свое рабовладельческое хозяйство за счет хозяйства тех же мелких рабовладельцев. Хеттское законодательство это им позволяло.
Согласно закону, лицо, укравшее раба, каралось не смертью, а одним лишь денежным штрафом. За укрывательство беглого или украденного раба хеттское законодательство также налагало один лишь денежный штраф, хотя и весьма значительный.
Законы же Хаммурапи, как было указано выше, устанавливали и за кражу раба, и за его укрывательство смертную казнь, но не пеню. Разумеется, пеня не могла удержать крупного рабовладельца от соблазна усилить свое хозяйство включением в него беглых рабов. Следовательно, отсутствие в хеттских законах угрозы смертной казни за кражу и укрывательство рабов следует сопоставить с отказом тех же законов от принципа «око за око, зуб за зуб» и права кровной мести.
Все это свидетельствует о том, что крупная рабовладельческая знать занимала в хеттском государстве господствующее положение. Авторитет суда представителей знати утверждался хеттскими законами в той же мере, как и суд самого царя. Лицо, позволившее себе издеваться над судом царя, уничтожалось вместе со всей семьей, а виновнику непризнания суда сановника рубили голову.
ХОЗЯЙСТВО
По мнению О. Герни, во времена хеттов малоазийский климат был менее суровым. Природные условия, сложившиеся в наше время, этот ученый, проживший немало времени в центральных районах Турции, описывает следующим образом:
«Плоскогорье Малой Азии в известном смысле является продолжением русской степи и климат его весьма суров. Злые ветры с севера вызывают в зимние месяцы сильные снегопады, а после короткой весны страна опаляется беспощадным летним солнцем. Тучи проливаются дождем, по большей части, на склонах Тавра или на холмах черноморского побережья. Таким образом, центральное плато – это продуваемая ветрами степь, и лишь в долинах рек можно найти достаточно воды и укрытия для человеческих поселений.
Можно часами ехать по унылой волнистой равнине, пока вдруг внизу не покажется напоенная водой долина, а там, вдали опять вырисовываются мягкие очертания низких холмов, подобных тем, которые только что оставил за собой.
На родине хеттов, к северу от каппадокийской реки (Делидже-Ирмак) долины и реки встречаются чаще, и край не кажется столь унылым. Здесь почти все поля лежат вблизи селений и тщательно обработаны. Но отсутствие деревьев на холмах поражает, и нет спасения от леденящих зимних ветров» («Хетты», М., 1987).
Далее О. Герни утверждает, что люди здесь, как нынче, так и во времена хеттов занимались главным образом сельским хозяйством. Это подтверждается текстами. Главный источник сведений о природе хеттского общества – свод законов – исходит из того, что страна была повсеместно аграрной. Мы располагаем также списками полей и документами на владение, содержащими подробные инвентарные описи владений, которые имели, по-видимому, довольно значительные размеры. Вот несколько параграфов свода законов, характеризующих сельскохозяйственный фонд хеттской цивилизации:
75. Если кто-нибудь возьмет взаймы и запряжет быка, лошадь, мула или осла, и тот падет, или его растерзает волк, или он заблудится, то, взявший его должен заплатить полную его стоимость. Но если он скажет: «От руки божьей он погиб», то должен принести клятву.
86. Если свинья забредет на гумно, или на поле, или и сад, и хозяин гумна, поля или сада ударит ее и она падет, ни должен вернуть ее владельцу. А если он не вернет ее назад, то станет вором.
105. Если кто-нибудь подожжет (валежник?) и (оставит его) там, и огонь перекинется на виноградник, если, виноградная лоза, яблоки, гранатовые деревья и грушевые деревья сгорят, то за каждое дерево он должен отдать (шесть) сиклей серебра и посадить плантацию заново. Если он раб, то он должен отдать три сикля серебра.
151. Если кто-нибудь наймет пахотного быка, то один месяц найма стоит один сикль серебра.
159. Если кто-нибудь запряжет пару быков, то стоимость найма полмеры ячменя.
91. Если кто-нибудь украдет рой пчел, то прежде давали одну мину серебра, теперь же он должен отдать пять сиклей серебра.
Главными зерновыми культурами были ячмень и эммер, они шли не только на муку и хлеб, но также и на пивоварение. Считается, что виноградная лоза это местное растение Анатолии, и она без сомнения, усердно культивировалась в хеттские времена. Олива, которую ныне можно выращивать только на прибрежных равнинах, в римские времена пышно произрастала на значительных высотах. Из хеттских текстов мы знаем, что она была обычным источником получения растительного масла.
Зерно, вино и оливковое масло были основными продуктами страны. На них призывалось благословение богов. Горох и бобы также время от времени упоминаются в текстах, а лен, вероятно, выращивался в отдельных районах так же, как и сейчас.
Общины, в которые были организованы массы свободного населения, по-видимому, были уже сельскими, а не родовыми. В хеттских документах эти общины назывались термином, означающим и большой город и небольшое селение. В состав территории сельских общим входили поля «человека оружия». Были также и поля «человека повинности». По-видимому, это были люди, которые вели хозяйство на царской земле.
Повинности, выполняемые свободными, назывались «саххан» и «луцци». Совокупность работ, требовавшихся повинностью саххан и повинностью луцци, включала в себя пахоту, доставку телег, колес, топлива, зерна, соломы, шерсти, мелкого скота, мотыжение, кормление гонцов, некоторые работы на начальника области, начальника пограничного округа, предоставление тягловых лошадей и разного рода строительные работы.
Гражданским чиновникам принадлежала некоторая часть полей «человека повинности», однако, число подобных наделов было незначительным, потому что в хеттском государстве почти все должности государственного аппарата были тесно связаны с военной организацией. Вот о чем гласит отрывок одного из договоров хеттских царей с союзными государствами: «Если из страны (такой-то) бежит какой-нибудь свободный человек в страну Хатти, то я тебе его не выдам, ибо выдавать беглеца из страны Хатти нехорошо. Ежели это пахарь или ткач, плотник, кожевник или какой-нибудь ремесленник, и он не захочет работать и станет беглым, и придет в страну Хатти, то я схвачу его и выдам тебе».
Пожалуй, в таких документах противоставление свободного некоторым категориям труженников, бывших, по всей видимости, несвободными, обнаруживается наиболее отчетливо.
Торговля играла немалую роль в хеттском государстве, но, как ни удивительно, купец в общественном отношении стоял не выше ремесленника. Об этом нам опять-таки говорят законы хеттского государства.
Убивший купца по неосторожности уплачивал ту же пеню, что и виновный в убийстве раба, опять-таки по неосторожности.
БРАК И СЕМЬЯ В ХЕТТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Как утверждает английский ученый О. Герни в своем исследовании «Хетты», организация хеттской семьи носила ярко выраженный патриархальный характер. Власть мужчины над своими детьми в своде законов регистрируется следующим положением: «Если он убил ребенка, то должен отдать за него своего сына».
Сюда же О. Герни относит и то обстоятельство, что отец был вправе «отдать» свою дочь жениху. Его практически неограниченную власть над женой английский исследователь выводит из всей фразеологии, связанной с браком. Жених «берет» себе жену и затем «владеет ею». Если она застигнута в прелюбодеянии, он вправе распорядиться ее судьбой (далее в этой главе мы наиболее полно представим концепцию О. Герни).
Возможно, что некоторые привилегии, которыми пользовались женщины у хеттов, отражают следы более ранней системы. Например, один закон предусматривает некоторые условия, при которых мать может отречься от своего сына, а по другому закону она решает вопрос о замужестве дочери совместно с отцом. Возможно также, что весьма независимое положение хеттской царицы имеет сходное происхождение.
Первым этапом бракосочетания была помолвка. Она сопровождалась подарком от жениха. Однако помолвка не налагала строгого обязательства, ибо девица была вольна иыйти замуж за другого человека с согласия родителей или без оного, лишь бы первоначальному жениху в возмещение ущерба был возвращен его подарок.
Сама женитьба обычно сопровождалась символическим подарком (по-хеттски «кусата») от жениха семье невесты. Это в точности повторяет вавилонский обряд вручения «терхата». В силу различных причин, вероятно, было бы ошибочно рассматривать этот подарок как «плату за невесту», и как доказательство того, что хеттская и вавилонская женитьбы первоначально относились к типу так называемого «покупного брака». Со своей стороны невеста получала приданое (по-хеттски «ивару») от своего отца. Если после этого жених или семья невесты отказывались от совершения брака, это было равносильно невыполнению договора. Соглашение аннулировалось, и виновная сторона наказывалась. Жених лишался своего кусата, а семья невесты выплачивала жениху двух– или трехкратную компенсацию.
Обычно молодожены устраивались жить своим домом, но считалось правомерным и то, что жена оставалась в доме своего отца – обычай, который мы находим также у ассирийцев.
После смерти жены ее приданое становилось собственностью мужа, если жена жила в его доме. Но если она жила в доме отца, дело обстояло иначе. И хотя такая ситуация конкретно в дошедших до нас текстах не комментируется, вероятно, что приданое переходило детям.
Браки между близкими родственниками были запрещены, и закон содержал на этот счет подробные правила. Мужчине запрещалось иметь половые сношения со своей матерью, сестрой или дочерью жены (от прежнего брака) или с женой своего отца или брата, пока отец и брат живы.
Однако примечательно, что в действительности сам царь Арнуванда I был женат на своей сестре.
Среди этих правил мы находим одну статью, в которой устанавливается, что если мужчина умирает, то его вдова должна выходить замуж за его брата, а если тот умер, за его отца, а затем, в случае смерти отца, за его племянника. В данном контексте это имеет вид лишь исключения из ряда запретов и потому в одной из копий текстов добавлены слова: «это ненаказуемо».
Однако закон исключительно похож на еврейский закон о левиратном браке, согласно которому, если мужчина умирает бездетным, то обязанность его брата (а если он умер, его отца или ближайшего остающегося в живых родственника) – жениться на вдове. Родившийся от этого брака ребенок получает имя и наследство умершего. Этот обычай иллюстрируется историями Иуды и Ира; Руфи и Вооза. Целью этого обычая, очевидно, было продолжение рода умершего «чтобы имя его не изгладилось...».
Вавилоняне и ассирийцы достигали этой цели иными средствами и не нуждались в левирате. Однако вышеприведенная статья доказывает существование этого обычая у хеттов, хотя она и приводится в законах с другой целью и явно не содержит исчерпывающего изложения закона. Сходным образом другая статья гласит, что половое сношение с мачехой после смерти отца не наказуемо, однако, это опять-таки, вероятно, указывает на существование обычая, широко распространенного среди древних народов, по которому сыновья наследуют жен своих отцов (за исключением собственных матерей).
ХЕТТСКОЕ ВОЙСКО
Нет нужды лишний раз говорить о том, что хеттское государство было военизированным государством. Хетты располагали значительным постоянным войском, в котором были как колесничие, как и тяжеловооруженная пехота. Воины могли не беспокоиться о своем пропитании и о своем быте. Их наделы в сельских общинах были обеспечены достаточным количеством рабов. Как правило, все боеспособные представители знати входили в состав отрядов колесничих. Колесницы были основной ударной силой в войсках того времени и потому становится ясно, что знать тем самым еще более укрепляла свое положение.
В распоряжении египетского царя были небольшие, но маневренные колесницы, хеттами же применялись колесницы большей мощи, хотя и меньшей маневренности. Этим они отличались от колесниц многих враждебных армий.
Хетты вели колесницы с экипажем из трех лиц (бойца, его оруженосца и возницы), а не из двух. В этом, пожалуй, и было главное преимущество хеттских колесничих. Ведь боец на хеттской колеснице охранялся от стрел и дротиков своим оруженосцем. Оружие нападения – копье и лук. Щит или прямоугольный или похож по форме на широкий двусторонний топор, поставленный вертикально.
Поскольку колесничие решали исход сражения, то и львиная доля добычи людьми, скотом и имуществом доставалась именно им. Более многочисленная команда хеттской колесницы должна была давать численное преимущество в ближнем бою, который завязывался после начальной атаки.
Пехота хеттской армии численностью несомненно превосходила колесничные войска, но в открытом бою, которого хетты, как правило, искали, играла подчиненную роль.
На египетских рельефах пехотинцы в действии не показаны, они сосредоточены вокруг крепости Кадеша для защиты царя и обоза. Кавалерии не было, хотя время от времени гонцы, по-видимому, передвигались верхом. Иногда для внезапных стремительных атак использовались «суту», вспомогательные войска, сформированные, как правило, из иноземцев, вооруженные луками и стрелами.
Читая о строительстве укреплений, мы узнаем о существовании саперов. Обоз, как показывают египетские рельефы, состоял из тяжелых четырехколесных повозок, запряженных волами и тяжело навьюченных ослов.
Хеттского флота не существовало и мы не знаем, на каких кораблях осуществлялась связь с Кипром, которым хетты, по-видимому, управляли.
Что касается одежды и вооружения хеттской пехоты, то имеется странное несоответствие между египетскими рельефами и собственно хеттскими памятниками. На первых хетты изображены в длинных платьях с короткими рукавами, но на анатолийских памятниках воины одеты в короткие, не доходящие до колен туники, подпоясанные ремнем. Иногда это юбочки, оставляющие торсы обнаженными.
Высказывалось предположение, что длинные платья, изображенные на египетских памятниках, были своего рода тропической униформой, предназначенной для жарких равнин Сирии. Это, правда, лишь догадка.
Наиболее примечательное изображение хеттского воина – это рельеф на внутренней стене большого монолита, образующего косяк так называемых Царских ворот в хеттской столице. Этот страж ворот изображен только в подпоясанной юбочке и шлеме с коротким мечом и боевым топором. Юбочка, показанная на этом и других памятниках, представляет собой просто кусок ткани, обернутый вокруг бедер. Верхний конец косо обрезан спереди и украшен горизонтальными полосами с чередующимися косыми линиями и спиралями. Шлем имеет наушники и султан, а сзади – назатыльник, прикрывающий затылок и шею наподобие косицы. Рукоять меча сделана в форме полумесяца, лезвие с легким изгибом. Кончик ножен резко изогнут. Боевому топору придана форма человеческой руки, сжимающей топорище между большим и указательным пальцами; режущая часть образует почти круглое утолщение, добавленное к «запястью». Само положение этой фигуры с очевидностью говорит о том, что она изображает обычный тип хеттского воина в боевом снаряжении.
Хетты в долгополых одеждах на египетских скульптурах вооружены длинными копьями. Это оружие известно также по анатолийским памятникам, но главным образом по тем, которые относятся к позднехеттскому периоду, последовавшему за падением Хеттской империи.
Сезон активных походов был ограничен весной и летними месяцами, потому что сильный снегопад на Анатолийском плато исключал военные действия в зимнее время. Ежегодно в начале весны изучали предзнаменования, и если они были благоприятны, то высылался приказ о мобилизации. Называлось место сбора, и в назначенное время царь сам производил смотр своим войскам и лично принимал командование войсками. Поход, как правило, длился все лето.
Когда приближалась осень, офицеры обычно говорили царю, что «год слишком короток», чтобы предпринимать что-либо, кроме мелких военных операций. И когда последние были завершены, армия отходила на зимние квартиры.
Хеттские цари были мастерами стратегии и тактики. Цель всякого похода заключалась в том, чтобы застигнуть вражескую армию в открытом поле, где непобедимые хеттские колесницы могли бы быть использованы с максимальным эффектом. И здесь неприятель мог надеяться на лучшее, только избежав генерального сражения, рассеяв гнои войска и ведя партизанскую войну.
В этом смысле стратегически важный поход Суппилулиумы в северную Месопотамию в начале его царствования не достиг своей главной цели, так как царь прошел напролом через столицу Митанни и далее, на сирийскую равнину, так и не встретив митаннийских сил. Вот однако короткое описание удачной военной хитрости, взятое из анналов Мурсили II:
«Как только я услышал эти слова (т. е. сообщение о замысле некоего Питтагаталли помешать вступлению хеттской армии в город Сашщдуву), я превратил Алтанну в склад и оставил там кладь. По армии я приказал выступить в боевом порядке, а так как враг имел передовые посты, то если бы я попытался окружить Питтагаталли, передовые посты видели бы меня и он не стал бы ждать меня и ускользнул бы до моего прихода. Поэтому я развернулся в противоположном направлении, в сторону Питтапары, но когда настала ночь, я развернулся обратно и двинулся против Питтагаталли. Я шел всю ночь напролет, и рассвет застал меня на окраине Саппидувы. И как только солнце встало, я вышел на битву с ним, и те девять тысяч человек, которых Питтагаталли привел с собой, вступили и бой со мной, и я дрался с ними. И боги мне споспешествовали, могучий бог Грозы, мой господин, богиня Солнца из Аринны, моя госпожа... и я уничтожил врага».
Если хеттам не удавалось достичь внезапности, то неприятель часто успевал укрыться в крепости или на вершине горного пика, и тогда, чтобы привести его к покорности, требовалась длительная осада. Осадное искусство хеттов, несмотря на то, что мы знаем о нем сравнительно мало, было на высоте, ибо такой укрепленный город, как Каркемиш, сдался царю Суппилулиуме после всего лишь восьмидневной осады. Единственное упоминание об осадной технике содержится в отчете об осаде Уршу, где говорится о таране и «горе». Последнее это, несомненно, то же самое, что римский крепостной вал, на который втаскивались осадные машины.
О тактическом таланте хеттских царей лучше всего судить по Кадешской битве, которая очень подробно описана в одном египетском тексте.
Хеттской армии, устроившей засаду у Кадеша, удалось полностью скрыть свою позицию от египетских разведчиков и, когда ничего не подозревавшие египтяне двинулись походным маршем к городу и начали разбивать лагерь, сильное подразделение хеттских колесниц незаметно обошло Кадеш с задней стороны, пересекло Аронт и обрушилось на середину египетской колонны. Египетская армия была бы полностью уничтожена, если бы отдельному египетскому полку не удалось весьма своевременно подойти с другой стороны и застать хеттов врасплох, когда они занимались разграблением лагеря. Эта счастливая случайность позволила египетскому царю спасти остаток своих сил и изобразить битву, как свою великую победу.
В обороне хетты были не меньшими мастерами военного искусства, чем в нападении. Остатки их вооружений служат впечатляющим свидетельством мощи укреплений, которыми они окружали свои города.
В Богазкее могучие скалы и ущелья требовали лишь незначительных добавочных укреплений. Вокруг открытого сектора обороны, на гребне холма, обращенного к югу, были сооружены массивные стены, остатки которых стоят и сегодня. Линии укрепления двойные и состоят из главной стены и более низкой вспомогательной, вынесенной на двадцать футов вперед от главной.
Главная стена – двойная и состоит из внешней и внутренней кладки с поперечными стенками между ними. Это образует ряд прямоугольных проемов, которые заполнялись камнями. Такая конструкция характерна для хеттских оборонительных стен, где бы они ни воздвигались.