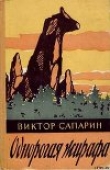Текст книги "Таврические дни (Повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Ей стало жалко его и мерзко его видеть. Митинга никакого не было. Сначала стоял великий шум, беспорядочная голосня. Люди так напирали на телегу, что передние, схватившись руками за грядки, трясли ее. Мелькнуло доброе лицо артиллериста, все в плачущих складочках кожи. Мальчик с простреленной шеей кулаком стучал по ноге Крылова. Вскоре возбуждение стало спадать, потому что всем хотелось услышать, что скажет Крылов в свое оправдание.
Кто-то из толпы, кого не было видно, голосом тонким, как флейта, задавал вопросы. Крылов, не поворачивая головы на голос, а глядя на Ольгу и на гуся, зажатого между ее коленями, отвечал, стуча челюстью.
– Ты что же, собака, шатаешь нашу дисциплину? – спрашивала флейта.
– Виноватый, – отвечал Крылов, – виноватый я.
– Винова-а-тый? – в недобром изумлении вздохнули бойцы.
– Ты что ж это сделал, Крылов? – допрашивала флейта.
– Я сделал преступление, но я кушать хотел.
– Если кушать хотел, добром просил бы. Кто из нас кушать не хотел?
– Столько я кушать хотел, что разум-голову потерял.
– Pa-а-зум потерял?! – задохнулись бойцы. – Это боец, это ковтюховец-то?
– Виноватый я, – сказал Крылов, – простите меня.
Здесь опять поднялся великий шум и продолжался долго. Ковтюх сошел с крыльца, короткой рукой сделал знак, чтобы расчистили ему к телеге дорогу. Бойцы потеснились. Ковтюх, заложив руки за спину, прошелся взад-вперед. От сильного движения его рук, когда он их закладывал за спину, на рубашке его лопнула пуговица.
Едва шум затих, он повернулся к Ольге и громким голосом, разнесшимся по всей площади, закричал Ольге в лицо:
– Бесчинство какое-нибудь, насилие делали над тобой?
Она видела, что ненависть к ней клубится и бьется в его глазах.
Она ответила ему звонко:
– Не делали.
– А зачем говорила, что делали? А зачем морда в крови?
Голосова высунула из-за плеча Ольги остренькое лицо:
– Он кулачищем ахнул ее между глаз. Сама видела!
Крылов дикими глазами взглянул на нее с телеги, обернулся к толпе и выкинул перед собой руки, сжатые в кулак.
– Ребяты! – сказал он густым голосом. – Даю прямое слово бойца: не ударял я ее ни в лицо и ни в куда. Я только гуся у нее позаимствовал, очень я кушать хотел. Судите меня за гуся, а за истязание женщины милуйте.
Флейтовый голос пропел из недр толпы:
– А за поросенка, Крылов, судить тебя или миловать?
– Не крал я поросенка, восподи!
Лошадь дернула, Крылов упал на колени, схватился руками за грядку. С головы его покатилась фуражка почтового ведомства. Редкие и злые, коротко стриженные волосы щетинкой стояли на голове. Добрый артиллерист поймал фуражку и двумя руками надел ее на голову Крылова, расправил смятую тулью.
Крылов, опершись на колени, встал на телеге, открыл рот.
– Восподи! – истерически выкрикнул он. – Этот подсвинок промеж ног у меня вышугнул на улицу независимо от меня. Даю вам клятву бойца! Подсвинка я не брал и с женщиной не шалил. Я только в гусе виноват. Пусть эта казачка подтвердит по совести.
Но здесь флейта оборвала его, крича: «Довольно допрашивать, судите его по всей строгости!» Многолюдная площадь снова пришла в движение.
Крылов тоскливо оглядывал море голов и плеч, бушевавшее вокруг телеги. Крики и угрозы вспыхивали то здесь, то там, подобные разрывам снарядов при ураганном артиллерийском огне. Эти разрывы голосов должны были казаться ему теперь артиллерийским огнем, из кольца которого не выйти. Бойцы нащупывали страшную его вину, и вот начались первые попадания! Он услышал слово «расстрел». Потом он услышал слова, связанные в беспощадные сочетания: «К стенке его, безо всякой жалости!» И он понял, что жалости нет к нему и, вероятно, не должно быть к нему никакой жалости.
Тогда он сам потерял к себе всякую жалость, вдруг успокоился и стал тем Крыловым, каким знали его все товарищи, – батраком из-под Армавира, пошедшим за Ковтюхом расшибать в щепки буржуев и генералов, солдатом революции, через плечико поплевывающим на смерть. Он был тем самым Крыловым, каким знали его товарищи, и вместе с тем другим Крыловым. Крыловым – вором, укравшим гуся, оплевавшим пороховое знамя полка.
Он снял фуражку и рукавом вытер со лба холодный пот.
Президиум митинга на крыльце атаманской хаты писал приговор. Крылов сурово и терпеливо глядел на Ковтюха, на товарища – матроса Жукова, и на большевика Комарова, и на то, как в руке Комарова колышется быстрый карандаш, набрасывая на клочке бумаги торопливые строчки.
Ковтюх взял у Комарова листок. Бойцы затихли. Ковтюх внятно и гулко стал читать:
– «…митинг бойцов Приднепровского полка постановляет: рядового Крылова, нарушившего железную дисциплину, опозорившего честь революции, расстрелять».
Услышав это, Крылов широко перекрестился, поклонился бойцам и стал слезать с телеги.
Никто не помог ему, хотя он был какой-то необыкновенный и напоминал больного. Слезши с телеги, он внимательно и умело оправил свои халат. Фуражку почтового ведомства он так надел на голову, чтобы козырек торчал параллельно бровям. Зайдя за телегу, он оправился. Широкая, но бессильная улыбка раздвинула его черные губы. С этой улыбкой Крылов пошел прямо на Ковтюха и, не доходя до него, щелкнул голыми пятками, встал во фронт.
Необыкновенно полным голосом он сказал:
– Рапортую, товарищ командир. Рядовой четвертой роты Приднепровского полка, осужденный резолюцией митинга, к смерти готов.
– Есть! – по-морскому ответил ему Ковтюх.
И Ольге стало страшно – невесть чего. Ей стало страшно Ковтюха, матроса Жукова, который засунул ленточки своей бескозырки за ворот, потому что дул ветер. Ей стало страшно молчания бойцов – ух, и кричали же они! – а сейчас вся площадь молчала так, словно это было кладбище. Ей стало страшно Крылова с его мертвым телом и широкой улыбкой.
Ковтюх сказал штабу:
– Выделить отделение четвертой роты Приднепровского полка для совершения казни.
– Прощаю, прощаю его! – закричала Ольга.
Все увидели, как она подняла гуся на своих руках и, бессмысленно качая головой, сначала пошла, потом побежала навстречу Крылову и, наклонившись, поставила гуся у его ног.
– Дарю тебе гуся, задаром отдаю! С голоду, с голоду он, простите его!
Гусь, утомленный пережитым, поднял голову на высокой шее, посмотрел на босые ноги Крылова и сел в пыль.
Крылов оторвал глаза от Ковтюха, посмотрел на гуся и протянул ему руку, шевеля пальцами, будто давал гусю хлеб.
Бойцы, сдвинув брови, закурили трубки и свертыши.
Мальчик, раненный в шею, вдруг вышел вперед, собираясь дать Крылову свертыш, но испугался того, что на него все смотрят, бросил свертыш на землю, пошел в толпу. Множество глаз смотрело на него. Он вернулся, поднял свертыш, мокрым от слюны, спрятал его в карман. То здесь, то там коротко ржали лошади. Люди молчали. Ковтюх посмотрел, как Ольга сидят на коленях и плачет.
Он спросил:
– Бил он тебя, казачка?
– Ни, – ответила она, руками опершись в землю.
– Отчего ж лицо твое в крови?
– О скобку вдарилась.
– Врала подружка твоя?
– Богачка она! – тяжело сказала Ольга. – Соврала я ради нее.
– Подсвинка, черт его, крал наш боец?
– Ни!
– Зачем неправду говорила?
– Ой, командир, стреляй меня, расстреливай! Вместе с ним, с солдатом этим, смертную муку приму!
Подняв голову, она увидела босые ноги Крылова, большие ноги с широкими стухшими и плоскими подошвами. Они были бронзово-грязные до косточек, но между щиколотками и концами подштанников оставалась чистая полоска. Наверно, Крылов сейчас поддернул подштанники. Эта полоска так была жалобна, так родна!
Отдохнув, гусь поглядел на Ольгу своим блестящим глазом и сказал: «О-го-го!» Ольга ладонями упала в пыль. Нет, не была теплой эта пыль! Осень шла на Кубань и все подхолаживала – и травку, и деревце, и небо, и пыль! Осенний ветер шумел над Кубанью. Ветер, ветер, ты куда летишь, ты о чем свистишь?
– …революционным решением… прощается!
«О-то-го!» – сказал гусь и пошел прямо навстречу распростертым рукам Ольги.
V
Услышав о том, что Ковтюх подступает к станице, атаман попрощался с семьей и пошел прятаться в малинник. Он присел в кустах и отсюда слушал шум войска. Захватив кончик уса пальцами, крутил его в тоненькую ниточку. Несмотря на осенний холодок, в малиннике было парно. В это лето трижды обирали малину, и даже сейчас кое-где висели налитые, сочные ягоды. На шершавом листе, прямо перед глазами атамана, сидела муха-жигалка. Зеленое ступенчатое брюшко ее было необыкновенно красиво. Ее крылышки были прозрачны. Атаман впервые видел муху так близко. Впервые так пристально он ее разглядывал. Шум войска, вступающего в Хадажинскую, все увеличивался. Муха, пригретая бледным солнцем, высунула хоботок.
– Вот ты улетишь! – с завистью сказал старый атаман. – Эх ты! Эх ты! Вольная!..
Спустя час пришла дочка, принесла в подоле горшок топленого молока и кусок белого хлеба.
– Чего там? – спросил атаман, в обе руки беря горшок.
– Шел бы ты к Сметанниковым, батя, – сказала дочка, сверкая глазами. – К нам становят штаб. Ужо убьют тебя. Зараз убьют.
Он увидел, что она оживлена, что ей все это нравится, залпом выпил молоко, как пьют водку; отдал ей горшок и, выйдя за огороды, медленно направился к Сметанниковым.
Идя позади дворов, он озирался и прислушивался к шуму в станице. В то же время он словно руками ощупывал свою душу: в ней было что-то дрянцеватое, она похожа была на загнанную мышь, уткнувшуюся в темную щель.
Атаман не привык стыдиться себя, но сейчас приходилось стыдиться собственной походки и легкого дрожания в ногах. Его страх был унизительный, а стыд шел от головы, от гордости, от гордого представления о себе, которое создавалось на протяжении всей жизни. Пока он шел, то страх осиливал в нем, то побеждала гордость. От этой внутренней борьбы атамана кидало и в жар и в холод.
Слабея, он схватился руками за тын. Пятна солнца, лежащие на золотой траве, вдруг сдвинулись с места и поплыли в его глазах, сливаясь в одно огненное рядно. Он оттолкнулся от тына и пошел дальше, рассуждая сам с собой. «Надо было выставить заставы, – думал он, – принять бой. В станице и пулеметы есть, и винтовки, и казаки. Настоящие казаки, бившие немца, а не какой-нибудь голодный сброд!»
Он присел на бугорочек и вдруг заметил, что видит тускло и плохо из-за слез, застлавших его глаза. Вынув носовой платок с начальными буквами своего имени, вышитыми шелком, он помял его в широких ладонях.
«Выставить бы надо заставы, стрекануть бы по ним пулеметиком», – подумал он, прислушиваясь к шуму.
«Грабеж, видимо, еще не начинался». Отерев слезы, атаман поглядел на крыши, но нигде не было видно пожара. «Покидать бы их всех в костры, пусть покорчились бы!» – подумал он.
С задов он прошел к Сметанникову на баз. Здесь было пустынно, все будто вымерло, не видать ни скота, ни домашней птицы, ни людей. У свежих тесин, заготовленных под крышу, лежал на боку самовар.
Атаман присел на тесины.
В боку самовара искаженно изобразилось его лицо в подкове опрятной бороды.
Вскоре на крылечке появилась работница, задрала подол и, закрыв им губы, стала смеяться.
– Чему ты, чему? – сказал атаман сердитым шепотом, закрывая глаза, чтобы не видеть бесстыдства голых девкиных ног.
– Сашку в горнице потчуют, – ответила девка, опуская подол и блестя глазами. – Сашка прощаться пришел. Сашку потчуют.
– Будет врать-то, – приказал атаман. – Пойди кликни мне хозяина.
Терентий Кузьмич легким шагом спустился со ступенек, отирая усы, вымоченные похлебкой. Остановясь перед атаманом, он косо поглядел на него, погладил себе живот и ягодицы. Спросил:
– Прятаться ко мне пришел, атаман? Так тебя вижу?
– Шутишь все. Смотри не перешути – тошнить будет.
– Одному богу известно, что с нами буде. Пойдем, пересидишь в амбаре. Ковтюх, слышно, ночевать у нас не собирается.
В амбаре приятная прохлада шла с земли. Белая бабочка сверкала в тонком луче солнца, проколовшем крышу.
У закрома на низеньком табурете сидел Платон и черствым пальцем листал маленькое евангелие с восьмиконечным крестом на красном переплете – тоже прятался от Ков-тюха. Он не поздоровался с атаманом, только пододвинул ему табуретку, сам пересел на пустые мешки.
Терентий Кузьмич сел на мешки рядом с сыном. Сытный обед давил на сердце. Терентий Кузьмич икнул, сунул руку в закрома – пропустил меж пальцами муку.
– Несмотря на глубокие пророчества великих евангелистов, – медленно проговорил Платон, засунув палец между страницами, – не могу найти в этой святой книге точного ответа моему вопросу. Если диавол ведет Ковтюха, то как же господь бог попустил, чтобы дети тоже были среди полчищ его? А они там имеются. И они там кричат: «Хлеба!», страдают и болеют, и смерть равно угрожает им. Дети – существа, чистые сердцем, и как же допускает господь поругание невинных? На этот вопрос святое евангелие не дает мне ответа.
– Ты об одном боге не думай, – раздраженно сказал атаман, – ты диавола тоже пожалей. Чертенят ему нужно. Откуда взять? Только с земли.
– Разве что, – ответил Платон, подумав.
Он полистал евангелие, шевеля сухими губами.
Бабочка, вырвавшись из луча, зигзагом пролетела мимо его лица и села на землю, трепеща белыми крылышками.
– Все же не могу я убивать детей, – скромно, будто стесняясь, проговорил Платон, – не могу я убивать все непорочное, все невинное, все славящее бога чистым дыханием своим.
И, приподняв сапог, со вкусом раздавил бабочку.
Сидя среди Сметанниковых, атаман чувствовал, как в нем все сильнее разгорается раздражение. Ковтюх-то, видать, не так уж страшен. Казакам выйти бы со дворов и ударить с флангов – только шерсть полетит. Атаман поглядел на Терентия Кузьмича, на Платона. От раздражения он младенчески почмокал губами. Казаки, прости господи! Один – святоша, ему бы кадила раздувать попу, ему бы с демонами воевать. Платон послюнил палец, перевернул страничку, глаза у него были светлые, как у бабы в минуту крайней нежности. Смотреть на него было противно.
Терентий Кузьмич сидел молча, но казалось, что его усы и борода улыбаются.
– Отличился ты, Терентий Кузьмич! – гневно сказал атаман. – Чего это девка балакала? Беглого батрака потчуешь, как гостя?
– Потчуем, – покорно согласился Терентий Кузьмич, однако не пряча своей насмешки. – Пришел Сашка, говорит: «Попрощаемся, Кузьмич. Навсегда исчезает точка нашего соприкосновения. Я от тебя особой обиды не терпел, и ты от меня злодейства не видел. Поэтому прощай». Я говорю: «Всего доброго». Он говорит: «Встретил я у Ковтюха Ольгу, велела, чтоб я ее сундучок взял. Не вернется она к вам».
– Брешет, – равнодушно сказал Платон, не отрывая глаз от текста евангелия.
– Сашка мне говорит: «Верь или не верь – твое дело, хозяин. А только если веришь, то сундучок мне дай». Я отвечаю: «Уж лучше я не стану верить». Он все стоит, не выходит, мнется, слабый, как некормленный конь, и говорит: «Я исты хочу».
– И дал?! – закричал атаман, тряся бородой.
Терентий Кузьмич повел на него своими вялыми, бледными глазами, но в черных точках его зрачков будто ластился, стлался и перебегал опасный огонь.
Опустив глаза, Терентий Кузьмич сказал вкрадчиво:
– Как не дашь? Мне моя хата и мой баз дороги. Он с полчаса в хате подышит, а мне до конца жизни в ней дышать. Ему одну ложку глотать, а мне их глотать еще тысячи. Ничего. Сейчас сидит и жрет – и все молча. Похлебки ему велел поставить, гусиных потрохов. Молчит и жрет, но только с каждым глотком уходит из него доброта. Лютеет. Что ни глоток, то больше. Черт с ним! Тьфу!
Он сплюнул.
– Тьфу! – сплюнул вслед за ним атаман.
VI
На закате войско Ковтюха покидало Хадажинскую. Густая кровь зари лежала на церковном кресте, проводившем мусульманский полумесяц. Длинной и нестройной вереницей тянулись конники, за ними шла артиллерия, за ней тяжелые обозы – визжали оси, заходились в крике младенцы, и, окрашенная зарей, нежным светом вспыхивала пыль.
Из густых садов станицы, из-под тутыней и груш, зорко глядели на войско старики станичники. Платон, растолкав стариков, грудью и руками оперся о тын. Ямки его висков блестели от пота. Обозы шли очень долго, огибая дертянки и мельницы-вальцовки. Беженцы в одиночку и кучками шли вдоль телег, отсюда они казались муравьями.
Платон протянул руку назад и, не оглядываясь, нетерпеливо пошевелил пальцами, сказал незвучным голосом:
– Давай!
Чей-то голос откликнулся с опаской:
– Бачьте, як поспешае Платон. Не було б чего?
– Давай! – повторил Платой.
В руку его вошел ствол винтовки, гладкий и приятно прохладный. Платон ладонью зажал его возле мушки и потянул к себе, везя прикладом по земле. Он глядел не отрываясь на телеги, уходящие в степь, на багровые клубы пыли и на женскую фигурку в белом платке, бредущую у задней арбы. Она шла легко, но неровно, как пьяная; платок, спустившийся на спину, бился на легком степном ветру и похож был на крылья бабочки, той, что он раздавил в амбаре. Платон вскинул винтовку, рукой ощупал затвор, и сухой, безрадостный, бесплодный восторг сошел на его душу. Небо, пыльный шлях, сонные крылья ветряков, вся земля, божья вотчина, вдруг обесцветилась для него, потеряла цвет и рельеф и стала плоской, как картинка, и на этой картинке ему четко стала видна каждая черточка, каждый завиток. Жизнь выцвела и остановилась, и только один он, Платон, дышал и двигался в ней, и горел сухим восторгом отчаяния. Локтем левой руки он оперся о поперечную жердь тына, установил в руке винтовку и впалой коричневой щекой прижался к ложу. Тогда перед сощуренным глазом его на конце дула появилась белая фигурка Ольги, будто бабочка села на ствол и мягко помахивала белыми крылышками. Потом белое пятно платка надвинулось на самый глаз, будто вошло в зрачок и затопило его. Платон дернул спуск. Плечо его заныло. Звук выстрела на дворе расколол его душу. Он бросил винтовку о землю и, не глядя на стариков, твердым, бессердечным, машинным шагом пошел в глубь сада, задевая головой за ветви яблонь – яблоки били его по высокому лбу.
Пуля пропела высоко над головой Ольги, и, не поняв ее песни, Ольга не подняла головы.
Она шла в хвосте обоза, держа за руку чужого казачонка в тряпичной шапке и мужской вылинялой рубахе. Рядом на арбе, ныряющей в лад ходу лошади, сидел древний старик, тот, что помешался в походе; он держал Ольгиного гуся на своих остреньких, сухих коленках, глядевших в прорехи его портов. Гусь кричал, старик ладонью зажимал ему клюв и, показывая белые десны, смеялся, как ребенок.
– Шадись, молодка, к штарику, – сипел он сквозь смех, – отшюда мне видать обетованную землю!
– Молчи уж, древний, – тихо говорила Ольга и все заглядывала, нагибаясь на ходу, в ясные глаза казачонка.
– Придем вшем народом, разляжемся на обетованной земле, – сипел старик, – а бог шидит на ней, рожа кратная, одежда царшкая. Што ты шкажешь? Повелит он нам: «Пошли взад, вшивый народ!» Што ты шкажешь? «Я, грит, чиштого народу кликал на обетованную землю – генералов и тузов, помещиков, родных моих племяшей на земле, – одну чиштую птицу. А вы, народ, – птица нечиштая, провались, народ, развейся прахом, дымом беги от глаз моих!» Што ты шкажешь? Тогда подходит к нему начальник Ковтюх, р-раз ему в шытую харю, глянь-поглянь, а бога-то нет, одни черепки, и все шлавно.
– Не богохуль, – сказала Ольга, – тебе помирать скоро.
– Да я ж ужо помер, ужо на той ли переправе, где не дали мне хлеба, – серьезно ответил старик, и улыбка сбежала с его черствых губ. – Один дух мой ш вами. Што ты шкажешь?! Не шледовало мне перед шмертью читать противобожных брошур. Без этого брошура я, хрен тебя ешь, может, встрел бы Суса Христа, а так на небе ни души нет.
– И коли тебя угомон возьмет? – сердито сказал казачонок, поглядел на дедовы коленки, сплюнул, потом поглядел в лицо Ольги.
Так они шли около часа, и Ольга смотрела, как широкий шар солнца, огрузнев, коснулся земли и вдруг вытянулся и стал похож на столб. Длинное облако словно кушаком перепоясало его. От долгой ходьбы и таборного шума Ольга оглохла. Она шла босиком и вдруг поняла, что шлях перестал жечь ее подошвы, что воздух посвежел и близка ночь. Словно проснувшись, она дико огляделась вокруг.
Никого не было знакомых среди этих расхристанных тысяч людей, они текли в неизвестность, по выжженной степи, как течет по руслу реки косяк рыбы. Казачонок, которого она продолжала держать за руку, устал и спотыкался. На коленях у деда все еще кричал гусь, мерцая голубым глазом. Ой, куда ж ты идешь, Ольга? С кем блукаешь, с каким байстрюцким войском, да не с той ли вшивородной гольтепой связала ты свою судьбу?
Она вдруг с прозрачной ясностью представила себя посреди своего хозяйства, брошенного ею, увидела дом, свой двор, свои базы, своего послушного свекра и гнилого мужа, который будто затем существовал в ее жизни, чтобы рядом с ним, уродом, она казалась красивее. Вот какое счастье ты бросила, Ольга! Ветер, ветер! Что ж ты, Ольга, повернулась против него лицом, что ж ты бредешь, сумасшедшая Ольга, навстречу его мстительной силе? Он же сорвет с твоих плеч платок, он же повалит тебя и бросит в пыль, эх, сумасшедшая Ольга!
Казачонок дернул ее за юбку, попросился на арбу. Ольга подняла его и посадила рядом с дедом, который дремал, обняв гуся. Грустная борода его лежала на спине гуся. Посадив казачонка, Ольга почувствовала, что сама устала и едва бредет. Она прошла некоторое время, держась за передок; ей показалось, что она заснула на ходу, она разлепила веки и неловко, как старая, взвалилась на арбу. Она легла за спиной деда на тряпье. Под головой ее лежал пучок сухих веток, припасенных для костра. Казачонок, уснув, свалился на ее ноги. Гусь на коленях деда затих. Арба покачивалась, как лодка на воде. В пустынном, глубоко зеленеющем небе Ольга увидела одинокое облако в виде кольца. Это было то облако, что недавно перепоясывало солнце, ветер быстро гнал его и вдруг разорвал кольцо, и облако, вытянувшись в ленту, понеслось очертя голову на край степи.
Ольга спала и проснулась от голоса Сашки. Держа коня в поводу, Сашка шел рядом с арбой, он был страшно бледный, но веселый, больше ничего не говорил, и все-таки было видно, что он веселый.
Ольга села в телеге и смотрела на Сашку, испытывая почти непереносимый страх. Сашка шел, мелькали пучки подорожника, которые он засунул себе за голенища.
Страх не проходил.
Ольга подумала, что до конца жизни обречена быть с этим человеком. Она облилась потом, страх ее прошел, и она увидела, что рубаха у Сашки очень грязная и ее нужно постирать в первой же речонке.
Пройдя за арбой около версты, Сашка вдруг приблизился и, схватившись за передок, поглядел прямо в лицо Ольге. Она готовно нагнулась к нему, покорная и печальная. В зрачках Сашки плыло зеленое небо. Держась за передок, Сашка шел боком, занося правую ногу за левую.
Он сказал шерстяным голосом:
– На биваке ты не спи, Оленька. Я приду, ты, Оленька, не кричи.
И она ответила покорно:
– Задавлю свой крик.
Тогда он взвалился на спину коня, неловко дернул ногами, сел в седло и, не оглядываясь, поскакал вдоль обозов.
И Ольге запомнилась от этой встречи только страшная Сашкина бледность.
VII
Где-то там, в голове похода, в штабе, был отдан приказ становиться на ночлег. Мимо арб проскакали верховые, назначенные на дозор в арьергарде. Потом прошел отряд матросов – черные ленточки, золотые якорьки: Ковтюх на крайний случай выставлял заслон со стороны Хадажинской. Чистое, свободное от облаков, откровенное небо играло тихим золотом звезд. Арбы и телеги сгрудились; стало похоже на ярмарку, только недоставало веселого гомона. Выпрягли лошадей и волов, пустили их в степь. Сторожить их пошли деды и подростки. На привале зажгли костры. Запахло разогретыми чугунками. Вместе с худой, жилистой молодой таманской казачкой Ольга варила траву в кипятке, посыпав в чугунок соли, покрошила хлеба. Казачка была потная, в лихорадке. Она говорила, ловя зрачками пламень костра:
– Ох, надо жить! Ох, как жить-то надо!
Безумный дед вдруг обрел большие силы, он ходил между арбами, спрашивал:
– Угодника Николая не прячете? Нашолил мне в жизни Николай-угодник, хочется ему потряшти бороду. Што ты шкажешь?
Ольга хорошо знала эти места: здесь в прошлом году атаман продавал свои улеши, а она с Терентием Кузьмичом ездила в лаковом тарантасике мерить землю. Она знала здесь неглубокую балочку, поросшую осокой, сон-травой и беленой. Она встала, загорелась щеками и пошла в балочку ждать Сашку. Как она ждала его, как жаждала! Всей растерянностью души она жаждала его: придет, обнимет, повалит на землю, крест и радость женщины, и последняя тревога за дом, за деньги, за проклятый якорь богатства навеки, навеки потонет в его любви. Она сошла в балочку, запах белых чашек дурмана закачал ее. Она вспомнила горы, воздух юга, бараньи шкуры, навешанные на бечеве, ветер, мальчика Сашку и его слова: «Пойдешь за меня женой? Вырастешь… торопиться-то некуда».
Она села в зарослях дурмана, и ей вспомнилось, как час назад они проехали мимо того места, где убили Кованька. Это было плоское место, даже холма не было на могиле Кованька. Кто-то прикатил валун на его могилу, и на этом валуне лежал чей-то перстень: много казаков ездило по этой дороге, но никто не взял перстня, потому что тихий его блеск был блеском памяти о Кованьке. Ольга проехала мимо могилы, и душа ее будто выдохнула дым и стала чище. Овчины на бечевине, ветер, пустынное море за горами. Пусть же Сашка повалит ее на землю, она лопатками почувствует эту землю под собой…
Он пришел и был нехороший, весь в липком поту, хотя было по-ночному свежо. Он бросил в траву картуз, картуз перевернулся донышком кверху, на донышке было написано слово: «Ленин».
Дышал Сашка тяжело, она посадила его возле себя, ей было так же весело, как тогда, когда по зимней пороше она летела к венчанию, так же весело, но и гораздо лучше. И вдруг она почувствовала, что у нее пропал всякий страх к Сашке, она ощутила свое тело как неслыханное богатство, которое сейчас кинет под ноги Сашки, и осчастливит его, и поработит.
Но ее большая власть вдруг сломалась – так же вдруг, как возникла. И Сашка ей стал дорог по-иному. Он тянулся к ней длинными худыми руками, она поймала руку, поцеловала ее в твердую ладонь, Сашка стал для нее такой ясный, что захотелось петь.
Он навалился на нее грудью, и она почувствовала, как его пот пропитывает ее рубаху. Она рукой схватила прядь его волос, подергала ее. Она увидела страшную зелень его лица, но боязнь за него не дошла до нее.
Держа ее в своих руках, Сашка сказал почему-то на украинском наречии:
– Так нэма ж кращего, як наш край.
Руки его ослабли, он упал на спину, и будто ветер встрепенул его тело.
Она наклонилась над его телом, бьющимся в конвульсии, и совсем не испугалась его, потому что знала, что любовь к Сашке, если она займется, будет не похожа на все то, чем она жила раньше. На губах Сашки выступила пена. Ольга сорвала пучок сон-травы и отерла его рот.
– Так нэма ж кращего, – повторил Сашка через муку и вдруг отчетливо произнес – Подсыпал мне Терентий Кузьмич яду. Если встретишься, помяни ему эту ночь.
Он стал вытягиваться, она всем телом легла на него, он плюнул пеной, и она успела поймать закат его взгляда. Под своим живым телом она почувствовала его еще горячее тело, которое дарило свое последнее тепло степи, земле и ей, Ольге. Ей показалось, что сейчас наступит всеобщая смерть: людей, звезд и земли. Она ошиблась. Она увидела себя сидящей в зарослях балки, Сашка лежал мертвый.
Ольга встала и пошла из балки, ветер был встречный, но не сильный, против него было легко идти. В таборе горел только один костер – его шевелил безумный дед.
На шляху цокали копыта.
Всадник в солдатской гимнастерке скакал вдоль лагеря, увидел Ольгу и осадил коня. По манере его движении Ольга узнала Ковтюха.
Ковтюх спросил, вглядываясь в темноту:
– Чего слоняешься, баба?
Ольга сказала тихим голосом:
– В балке-то. Отравленный. Сашка.
У Ковтюха в войске было с тысячу Сашек. Но он снял армейскую фуражку, подержал ее на отлете, сказал: «Честь павшему за революцию!» – и, ногами сжав бока коню, поскакал в ночь. Ольга слушала, как падают в пыль копыта его коня, и вдруг она увидела, что ночь прошла, что небо порозовело и что нужно идти дальше.
Истра, 29 июня 1936 г.