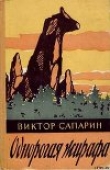Текст книги "Таврические дни (Повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Счас канцелярист ревкома принесет бумаги, и я вам, товарищи, постановлю правду трудового казачества.
Он сел на ступеньки, и тотчас же в дверях ревкома показался канцелярист, и это был не кто иной, как Сашка. Терентий Кузьмич, сидевший на переднем дубке, крякнул. Ольга подняла руку, потерла заалевшие щеки. И вдруг подумала: «Значит, так-то ты? Для ревкома ты в Хадажинскую перебрался жить? По ночам, что ли, пишешь ты Кованьке бумаги?»
Она глядела на Сашку растерянно и злобно.
Он развязал шнурки на большой рыжей папке, подал ее Кованьку. Кованько тяжелыми пальцами выдернул бумажонку, снял фуражку и начал говорить:
– Атаман втирал вам очки насчет армии Ковтюха, казаки. Это верно, что немцы сидят на Тамани. Это верно, что Ковтюх отошел с боем. Неверно только то, что Ковтюх есть враг, а немцы, рада, Краснов и доброволия есть друзья. Атаману они друзья. Сметанникову они друзья, а всему трудовому казачеству, усталому от войны и бедному касающе земельки, они есть хозяйчики и прожорливые акулы. Плохо обстоит дело на Кубани! Топчут наши законные поля сапоги царской доброволии. Немцы обнажают свой аппетит на наш хлеб, скотину и домашних птиц, гусей. Втравляет нас самозванная рада в братоубийственную войну, чего казакам совсем не надо. Правильно ли я балакаю? Плохо обстоит дело на Кубани! Рада подписала с русскими генералами договор, не спросись трудовых казаков. Что за Рада? Кто ее выбирал? Подпирают ее богатые казаки, владетели несметных десятин. А про эту Раду песня есть. Читаю песню:
Гудит бычачье стадо…
– По фамилии Быч песня! – круто выбросил Кованько кулак и продолжал:
Гудят все, что шмели…
Ой, Рада, ой, дид, Рада,
Ой, люшеньки люди!
В гуще казаков, стоявших у забора, притушенно скрипнула гармонь, тонкий тенорок подхватил вполголоса:
Ой, Рада, ой, дид, Рада,
Ой, люшеньки люди!
Старики задвигали плечами, но оглянуться им не позволила честь.
С чистым тенором гармониста сплелся сочный баритон; второй баритон, еще посочнее, пошел с ним в ногу, потом занял ведущее место; октавой ниже взял тучный бас; скворцом взвился подголосок; тонко прозвучала казацкая походная войсковая дудка; войсковой бубен стал отбивать такты; грянул припев:
Ой, Рада, ой, дид, Рада,
Ой, люшеньки люди!
Утром к хате атамана подскакали двое верховых. Атаман вышел встретить их на крыльцо, повел в горницу. Бабам велел подать чаю, варенья, хмельного. После чая гости, сверкая оружием, пошли в ревком и арестовали Кованько именем генерала Деникина.
Кованько сидел на ключе в той самой комнате, где еще вчера писал станичные декреты и правил протоколы митингов. Он очень мучился тем, что с утра не побрился и перед врагами показывается неопрятным. Его жена тряпкой замывала порог комнаты, бросала тряпку, глядела в скважину и плакала.
Ночью гости увезли Кованько в неизвестном направлении и к сомнительной судьбе.
Утром к Сметанникову пришли старики. Они были одеты как на бой, вооружены и торжественны. Вежливо и долго они сидели в нижней горнице, вызывая Сметанникова на разговор. Терентий Кузьмич все не мог понять, зачем они пришли, не знал, угощать ли их или только разговаривать с ними. Посидев сколько нужно, старики встали и пошли во двор арестовывать Сашку.
Когда Ольга увидела это, она побежала искать Сашку. Она нашла его на овечьем базу. Она испугалась его бравого вида – сам пойдет на смерть. Она шепнула ему:
– Иди за мной. Черт. Любый.
Как слепой, он пошел за ней. Там у них, у Сметанниковых, была криница, накрытая сколоченным из досок щитом. Ольга сняла щит, сказала неверным голосом:
– Лезь, что ли. Не найдут здесь.
Сашка полез в криницу, увидел под собой черную бездну. Близость смерти тоской глянула на него. Только сейчас он понял, что голос у Ольги неверный. Он спросил у нее:
– Подержаться мне или уж… потопнуть? Один конец!
– Я тебе потопну, я потопну тебе! – ответила Ольга таким жарким голосом, что он поверил ей.
Ногами он упирался в продухи на стене криницы. Руки его лежали на срубе. Ольга навалила щит, подергала его вправо, влево, пригоняя, чтобы он лежал правильно. Она сорвала щитом кожу на пальцах Сашки. Раскорячась, он висел над смертью. Ольга побежала навстречу старикам, которые вместе с Терентием Кузьмичом шли арестовывать Сашку.
– Сашка-то… – проговорила Ольга задыхаясь.
– Чего? – спросил Терентий Кузьмич.
– Ускакал Сашка. Взял коня…
– Которого? – спросил Терентий Кузьмич и, не дожидаясь ответа, тревожась за своих коней, пошел к конскому базу.
Ольга пошла за ним, нагнала его и шепнула ему в спину:
– На чужом коне ускакал Сашка.
– Где взял чужого? – обернулся Терентий Кузьмич. И, взглянув на Ольгу, он понял, что она любит Сашку.
III
Темрюкский залив, Керченский пролив и Черное море омывают берега Таманского полуострова. Казаки здесь издавна промышляют неистощимой на урожаи землей и самосадочной солью. Станицы богаты и многосадны: широкие бахчи полны сивых дынь и зеленых арбузов; на море казаки ловят рыбу, в плавнях бьют птицу. Революцию встретили исподлобья. Красные… Что за люди? Что за человек полководец Ковтюх?
Испугавшись красных, казаки поманили из Крыма немцев. Те пришли с артиллерией и железными касками, повесили на атаманских хатах приказы: ферботен направо, ферботен налево. На востоке немцы дотянулись до Батайска. Грузинская меньшевистская дивизия повисла на Сухуме, заняла Сочи.
Война занималась на Кубани.
Под Хадажинской, на кладбище, поселилась выпь: по ночам плакала навзрыд. Ворот на станичной кринице прежде ходил легко – теперь стал скрипеть. На закатах роса на жнивье отливала кровью. Казаки откармливали коней, чистили чересседельники, готовили саквы. Таились друг от друга, кто куда метнется. На хаты, на сады Хадажинской знойно дохнула война. Сыны вдруг перестали ломать кубанки перед стариками. Сашка исчез из станицы. Терентий Кузьмич потерял сон, ночами сидел у окошка, глядя, как медленно плывет ночь и просыпается заря, казачки в расшитых рубахах выводят с базов скотину.
Три молодых казака проехали верхами мимо окон. Они снимали кубанки и, вертя ими над головой, кричали казачкам:
– Прощайте, бабы! До всего доброго!
На стук босых ног Терентий Кузьмич оглянулся: Ольга, накинув на плечи мужнину черкеску, стояла в дверях; лицо у нее было измятое, синие глаза налиты тоской. Увидя свекра, она подхватила болтающиеся рукава черкески и стянула их на груди.
Терентий Кузьмич пальцами взбил бороду, покосился на белую рубаху Ольги:
– Чего встала? Скотину выгнали. Чи под боком у мужа плохо спится?
Она стояла не отвечая.
– Садись. У меня тоже сна нет, все думаю и тревожусь. Садись, поговорить мне, кроме как с тобой, не с кем.
Она села позади него, запахнувшись в черкеску. Колени у нее были холодны, не согрелись за ночь. Терентий нахмурился, проговорил без злобы:
– За Сашкой плачешь, сучка?
– Нужон он мне!
– Или хлебом-солью недовольна? Теперь всего у тебя есть, всего богато, а раньше, кроме бабьей стати, ничего у тебя не было. Трудно, Ольгушка, много всего иметь: обойми-ка его, имущество, защити, убереги от людской зависти. Землю поди-ка обойми – рук не хватит. Незащищенная лежит земля. Платон – казак срамной, слабый, других сынов нет, ты и есть вся моя опора.
– Кто это у вас, батько, землю собрался отнимать?
– Люди, – сказал Терентий Кузьмич, вздохнув, – и всё, видно, недоброго ума. Вон как война перетасовала, казаков: все были в одну масть, а теперь, гляди, завелись в казачестве и тузы, и валеты, и двойки – и двойки, гляди, желают тузов бить! Самый последний казак лезет в козыри! Сейчас, гляди, по улице простегнули трое, при оружии и чересседельных мешках, – куда поехали казаки? То-то. Слышно, Ковтюх вывел с Тамани сорок тысяч войска: рабочих питерских и донецких, морячков черноморских, казачков-беднячков. Ломит через Кубань на соединение с красными.
– Красные-то, – сказала Ольга, ежась, – тоже не звери. Кованько кому сделал зла? Землю он твою трогал? А как с ним? Бабы сказывали, три дня в степи кровавый лежал, пока не помер. Как это с ним?
Осенним ясным днем Ольга выехала с работниками на выпас собирать навоз для кизяка и далеко в степи, на шляху, увидела широкое облако пыли. Сначала оно долго стояло на месте, похожее на дым костра, потом метнулось в сторону и по шляху, увеличиваясь в размере, стало катиться ей навстречу. Вскоре в самой середине облака неясно проступили туманные фигурки коней и людей.
Работники закричали: «Ковтюх идет!» – и, перекинув вилы, побежали к телегам. Ольга, оглядываясь на облако, медленно подошла к передней телеге. Работник натягивал на лошади подпругу, натуженное лицо его покраснело. Он побежал на нераспрямленных ногах к передку, сел одним прыжком, и телега понеслась к станице, теряя по дороге навоз. Пыль поднялась из-под колес и закрыла от Ольги ясный горизонт, осеннее ясное небо и облако, катящееся из степи на станицу.
Въехав в станицу, работники кричали:
– Красные идут! Спасайтеся!
Бабы и казачата бросились сгонять птицу; ко дворам потянулись цепочки гусей; застукали калитки; работники открыли ворота, и телеги въехали во двор. Ольга соскочила наземь; под ноги ей кинулась собака, проскочила мимо ног и, вытянув передние лапы, высоко вздернув лохматый зад, залилась лаем. Ольга слышала, как на улице откликнулся ей пес тоньше голосом, потом по всей станице поднялся визгливый, гулкий, хриплый и тонкий собачий перебрех. Ольга, стряхивая с юбки дорожную пыль, закричала, чтобы запирали базы.
«Скотина-то в поле!» – проплыла в ее голове тревожная мысль.
Через двор с кипящим самоваром для свекрови бежала кухонная девка, поставила самовар на землю и заголосила. Кран раскрылся, кипяток, пробивая землю и клубясь паром, потек к воротам. Ольга кинулась в дом. Бледный Платон спускался по лестнице, на ходу щелкая затвором винтовки, губы у него были черные.
За ним проворно, как мальчик, скатился Терентий Кузьмич, отнял у сына винтовку:
– Валух чертов! Пропадешь ни за что… Пронеси, пронеси, господи!
Он выбежал во двор и кружился среди без толку бегающих людей, подняв ладони, будто в пляске, поматывая седой бородой. Из расстегнутого ворота его бешмета вываливалась полная красная шея.
– Пронеси, – причитал да, – пронеси, господи!
Увидел Ольгу, кинулся к ней:
– Беги на гумно, Ольгушка, заройся в скирд – не случилось бы беды!
Она с досадой сбросила с плеч его руки, отворила калитку и вышла на улицу. Платон пошел за ней, сжав кулаки и раздув ноздри. По пустынной улице, тукая о землю палкой, шел слепой Гаврилов, станичный бедняк, и бормотал что-то в свислые, поверху черные, а понизу седые усы.
Навстречу ему, занимая всю ширину улицы, шагом продвигались отряды Ковтюха.

Конные и пешие смешались. Голодные люди, одетые кто во что, шли молча. Не слышно было ни песен, ни шуток. Совсем близко от Ольги прошел заросший до глаз человек в женской кружевной сорочке под шинелью, потерявшей петли и крючки. В прорезе сорочки торчали ключицы, обтянутые темной кожей. Треух бил его по вдавленным щекам. Винтовка оттянула ему плечо. Он остановился возле Ольги, обветренные губы его пришли в движение, она поняла, что он выговорил «хлеба», но вдруг не поверил казачке, стоявшей у такого богатого дома, зло ощерил зубы и пошел дальше.
Люди шли и шли. На одних были шинели, на других – штатские замызганные пальтишки с оборванными карманами, на третьих – шубы; из швов лезла мятая желтая вата. Сапоги, штиблеты, татарские чувяки вздымали пыль; мелькнули босые ноги, разбитые в кровь. От сплошного движения людей голова Ольги пошла кругом.

Мимо нее плыли бородатые и безусые лица, либо тупые от усталости, либо молодеческие, то сведенные молчаливой, но угрожающей злобой, го добродушные и открытые, как у казаков на гулянках.
Проехала группа конных.
Впереди, кулаком опершись в ребро, ехал широколицый крупный человек, к его запястью браслеткой была привязана ременная плетка. На серой сатиновой рубахе его лежали пятна застарелого пота, обветренного, засыпанного пылью. По тому, как он глядел поверх войска и на окна хат, по остроте его взгляда Ольга угадала в нем начальника. Всадник вез за ним вылинявшее знамя, складками упавшее вдоль древка.
Ольга следила за проходящим войском, за этими усталыми, измученными толпами, с боями вступившими на Кубань, и вдруг сознание страшно и тяжело повернулось в ней: ей тайно открылась изнанка этой толпы – то непонятное ей, что эту толпу двигало, что заставляло ее идти, драться, верить в широколицего человека на коне, то, что делало толпу войском.
– Оборвыши, таких-то я голой рукой возьму! – дохнул ей в самое ухо голос Платона.
Они оказались страшнее, чем она думала о них! Закрыв глаза, Ольга слушала лишь разбродный топот множества ног, прошедших бесчисленные версты. Она открыла глаза и снова стала различать отдельных людей. Их лица возникали перед ней на какую-то долю минуты, потом словно выползали из памяти. Молодое, безусое, еще по-детски мягкое лицо с коричневыми висками и мягким, круглым подбородком заставило ее встряхнуться – она поглядела мальчику вслед. Это был матрос, на его плечах прыгали черные ленточки с золотыми якорьками. Тонкая, маленькая винтовка, каких она никогда не видела прежде, прямо и хищно торчала за его спиной, плотно пригнанная к плечу ремнем.
Потом она поняла, почему ее поразило лицо этого мальчишки: шея его была перетянута белым лоскутом, и на лоскуте цвело пятно крови.
Полки шли нескончаемой, потерявшей стройность колонной. Потянулась артиллерия. Исхудалые лошади потащили орудия в грязных чехлах. Седая кобыла плакала на ходу крупными, как горошины, слезами. На спицах колес каменными култышками сидела засохшая грязь. Везли снарядные ящики. Посреди артиллерии шел тучный человек, весь опухший, раздутый и мягкий. За голенище его сапога был заткнут пучок татарских сережек. Он то шел за орудием, щупая рукой чехол, то выбегал в сторону, пропускал орудия мимо себя, покрикивал на лошадей, на ездовых, опять вбегал в колонну. Был он в неутомимом хозяйском беспокойстве.
И в голубых глазах его кипела любовь; любил эти орудия на разболтанных тележках, и этих отощалых лошадей, влачивших орудия, и этих ездовых, понукающих лошадей, – как любят жизнь, как любят надежду и свое будущее. Еще долго Ольга видела тучную его спину, желтый затылок, слезшую на правое ухо синюю фуражку. И ей захотелось догнать его и дать ему хлеба. И почему-то ей подумалось, что, получив хлеб, он не станет его есть, а сунет в горло орудия.
Но она не сдвинулась с места.
Потом в станицу вступили обозы. Это был поток крестьянских телег, линеек и татарских арб. Проколыхалась на разбитых тонких колесах извозчичья городская пролетка. Но больше всего было степных длинных телег, запряженных лошадьми и волами. Кострецы волов кровоточили. Женщины, и дети, и седобородые старики, закутанные в свитки и чекмени, тесно и неспокойно сидели на телегах. Орали грудные младенцы. Причитал, и взвизгивал, и открывал улыбкой беззубые десны старик, помешавшийся в походе. На одной из телег, поверх наваленных тулупов, проплыл мимо Ольги лупобокий, нарядный двухведерный самовар с ручками в виде крыльев и с краном в виде лебединой шеи. В трубу самовара был воткнут красный флаг. Многие из крестьян брели рядом с телегами, и среди них легко было различить чеченцев из притуапсинских хуторов в черных бурках и широких, как вороньи гнезда, папахах.
Едва головные телеги обоза въехали в станицу, как улицы огласились воплями. Старческие голоса, уже тусклые и бессильные, сливались со звонкими голосами детей.
Беженцы кричали, шаря глазами по оконным наличникам, по калиткам глухо запертых ворот:
– Хле-ба-а!.. Хле-ба-а!..
Но глаза людей, слезящиеся от ветра, красные от бессонницы и светящиеся от голода, встречали пустые пороги, запертые двери, калитки с неподвижно висящими кольцами и длинные ряды окон, на которых невидимые руки поспешно задергивали занавески. Станица встречала их тишиной и безлюдьем. Псы, уже уставшие брехать, сидели у своих дворов и, подняв уши, слушали гром и шум движения.
– Хле-ба-а! – кричали беженцы.
Платон за плечи повернул Ольгу и втолкнул ее во двор. Запер калитку на щеколду, поднял с земли палочку и всунул ее в петли запора. Из круглых ноздрей его прямо в лицо Ольги летело встревоженное дыхание. Он жевал губами, собирал слюну. С ненавистью и страхом плюнул на калитку. От непрерывного движения обоза по улице калитка вздрагивала. Плевок потянулся по ней вниз, оставляя блестящий след.
«Хле-ба! Хле-ба! – безостановочно плакал за воротами детский голос. – Хле-ба!» У Ольги тошно засосало под ложечкой. Будто сама она не ела много дней. Хлеба! Воображению ее представился ломоть хлеба, еще горячий, дымящийся… красноватая корочка, душистая мякоть… На губах ее выступила слюна.
Она покорно пошла за мужем в дом.
Свекровь сидела у окошка и, пухлыми пальцами отогнув занавеску, глядела на улицу, как на пожар или на половодье. Детский голос еще звучал в ушах Ольги. Она встала, без толку стала перебирать посуду на столе.
Прибежала с улицы возбужденная девка, говорком стала рассказывать:
– Все заперлися. Казаки стоят за воротами с ружьями, ждут грабежу. А Кованькина баба вынесла хлеб, так ей руки было не оторвали: Голодные, как черти… Говорят, еще хромой Степан отчинил ворота, кормит – народу навалило, как на свадьбу, всю хату разнесут! А так все заперлися. Говорят, сейчас грабить начнут.
Голос Терентия Кузьмича сказал через стенку:
– Ты остался б, Платон, во дворе. Ольгушку возьми.
Да винтовку-то, гляди, не бери, спаси бог, голыми руками его не пускай и голосом. Я полежу – тоже выйду.
Во дворе было тихо. Работник, отворив калитку, глядел на улицу, потягивая дым из костяной трубки. Шум доносился издалека, глухой и невнятный. Крики «Хлеба!» стихли. Вероятно, полки и обоз частью вышли за станицу, частью расположились на площади, напротив церкви.
Ольга вместе с Платоном села на крыльце, стала глядеть в небо. Гонимые ветром, облака низко шли над крышами, быстро меняя рисунок, форму и плотность. Синяя туча сронила несколько капель дождя. В хвост ей ударило солнце.
– Что дрожишь-то? – спросил Платон.
Она не успела ответить.
– Пусти-ка пройти! – сказал за воротами сочный и веселый голос.
Работник попятился, хотел прикрыть калитку, но ему помешали. Послышался шум борьбы.
Работник икнул, схватился за живот и, перегнувшись пополам, сел на землю. Гуси, испугавшись шума, вытянули шеи и стаей пошли от ворот к крыльцу. Наметом пробежал по двору розовый поросенок, потряхивая лопушинами ушей.
Калитка распахнулась с треском.
Через сидящего на земле работника перешагнул солдат, не старый и не молодой, смуглый, поросший цыганской бородкой, и с глазами, кипящими яростью. Одет он был в женский халат морского цвета, перепоясан широким ремнем, на голове фуражка почтового ведомства. К плечу его были привязаны растоптанные ботинки с длинными пыльными шнурками в узелках. Патронташ перепоясывал его грудь, и у бедра в деревянной огромной кобуре висел наган.
Солдат остановился, расставив ноги и оглядывая двор, базы, хозяев на крыльце. Голубые белки его глаз блестели, как очки.
– Здорово, хозяева! – крикнул он. – Здрасте-мордасте, солдат революции заботится покушать. Не угостите ли?
Работник поднялся с земли и встал в некотором отдалении, почтительно поглядывая на солдата.
Платон и Ольга сидели не двигаясь. Солдат встряхнул плечом. Ботинки стукнули каблуками. Солдат подтянул ремень на животе, придержал рукой деревянную кобуру и вдруг, согнувшись, вытянув вперед узловатые руки, стремительно кинулся в гусиное стадо.
Гуси взмахнули крыльями, полезли на стену, на крыльцо.
Чувствуя в себе ту же яростную силу, которая была в глазах солдата, Ольга схватилась с крыльца. Солдат, прижимая к груди большую белую птицу, кинулся к воротам. Работник стоял в стороне и смеялся. Солдат прищелкнул языком, вильнул перед работником бедрами и выскочил на улицу.
Ольга оглянулась на Платона. Он лежал на крыльце, сжимая в руках гусыню, которая билась крыльями, крича гортанно и смертельно. Винтовки под рукой не было. Ольга нагнулась, искала камень. Оттого что в глазах ее стало темно, она потеряла равновесие и лицом ударилась о скобу на ступеньке. Кровь хлынула из ее рассеченного надбровья.
– Держи его, разбойника, – шепотом, проговорил Платон, все еще не выпуская птицу.
Едва помня себя, Ольга выбежала за калитку. На улице трава была примята прошедшим войском и обозом. Следы обутых и босых ног, следы колес исполинскою паутиною лежали на широкой пыльной дороге. Блестела среди улицы манерка, оброненная уставшим бойцом. На стволе акации осью телеги сорвало кору; белое и душистое тело дерева обнажилось – вытекал из раны благоуханный сок.
У ворот стояли казачки и старики, пасмурно глядели вдоль улицы.
Ольга побежала вдоль дворов, прижимая ладонь к рассеченной брови. Кровь огнем жгла ладонь.
Сейчас же за поворотом Ольга увидела телеги обоза. Бабы и мужики слезли с телег и сидели прямо на земле, копаясь в своей одежде. Лошадей выпрягли – они ходили между телегами и, опустив морды, вялыми губами трогали траву. На этой улице тоже наглухо были заперты ворота и занавешены окна. Здесь пробиться было нельзя. Солдат с гусем провалился как сквозь землю.
Ольга свернула на боковую улицу и побежала по ней. Здесь за Ольгой увязалась простоволосая, босая баба с острыми голыми локотками. Ольга признала в ней Голосову.
– Ограбили, ограбили! – крикнула Голосова на бегу. – Покрали гусей!
Они побежали вместе. Узким переулком они свернули к площади. Против каменной церкви с красной крышей, на всем пространстве от ограды до калитки атаманова дома, кишел пестрый вооруженный народ. Люди стояли, ходили, сидели на земле. Ольга и Голосова вытерли слезы; расталкивая людей, они стали протискиваться к атаманскому дому. Старый солдат, сидевший на земле, расставил руки, поднял на Ольгу красные, больные глаза, сказал:
– Куда, красавицы?
Ольга коленом ударила по его шершавой ладони. Солдат сделал вид, что помер, опрокинулся на спину и задрал вверх босую черную ногу с толстым и черным ногтем на большом пальце. Кругом захохотали. Ольга увидела желтого хозяйственного артиллериста, который, заложив толстые руки за спину, задумчиво и отсутствующе глядел в небо, где ветер трепал подолы облаков.
– Где у вас главный-то? – зло крикнула ему Ольга.
Он устремил на нее добрые глаза.
– Командир? – спросил он ласково. – Или комиссара вам нужно, милая женщина? Впрочем, оба они там.
Он подбородком указал на атаманский двор. Бойцы расступились, пропуская женщин. На крыльце толпились вооруженные люди в гимнастерках и пыльных сапогах. Боясь, что их не пропустят к командиру, Ольга стала кричать: «Грабители! Разбойники!» Голосова стала плакать, резко и громко, с большим искусством.
Бойцы, сердито сдвинув брови, глядели на них.
– Кровь-то у тебя это почему? – сурово спросил один из них.
– Подавай мне командира, ты, усатый! Очень я испугалась твоего револьвера!
– С жалобой?
– Испугалась я твоего ружья, насильник!
– Пусти, пусти их, – сказал второй.
За дверью, в коридорчике, на лавке сидел Ковтюх, затылком опираясь о дощатую перегородку и закрыв веки, припухшие от недосыпания. Матрос Жуков и политкомиссар Комаров возле окна рылись в своих кожаных сумках, доставая помятые бумажки и расправляя их на ладонях. Ковтюх раскрыл глаза, тупо поглядел на Ольгу. Спустя минуту глаза его пояснели, зажглись, через зрачки впустили в усталый мозг беспокойный и горячий мир.
Взгляд этих глаз был широк и зорок. Ольга собиралась кричать, но сердце ее вдруг ослабело, словно вытолкнуло злость.
Она сказала, кривя губы:
– Какой же это порядок, господин генерал или как там тебя… Мы тебя не трогаем, зачем же ты нас трогаешь? Ворвался солдат во двор и стащил гуся. Поросенка стащил. Меня разбил в кровь.
– Грабители, бандиты! – закричала Голосова. – Кто вас звал, чертей? Воюйте в степи, а станицу не троньте!
Ковтюх легко вскочил со скамейки, яркая краска вспыхнула на его щеках, на загорелом лбу и подбородке. Он сделал широкий шаг вправо, повернулся, сделал шаг влево.
Матрос и Комаров молча поглядели на него. Плечи Ковтюха откинулись назад, грудь выпукло выпятилась. Он подошел к Ольге вплотную, пальцами приподнял ее голову за подбородок. Прищурясь, поглядел на ее разбитую бровь. Изо рта его несло махоркой.
Голосова перестала кричать. Раскрыв большой рот, она глядела прямо в лицо Ковтюха.
– Поросенка увели, – тихо повторила Ольга, – гуся утащили. Меня разбили в кровь.
Ковтюх спросил:
– Узнаешь бойца в лицо?
– А то нет?
– Выстроить полк! – тихо сказал Ковтюх Комарову.
Тот вышел на крыльцо, хлопнув дверью. Расставив ноги, Ковтюх стоял перед казачками, лицо его тяжелело, что-то огромное и сильное, что жило в нем, глянуло на Ольгу из его глаз. Она сказала про себя: «Грабитель» – и сама не поверила себе. По клочкам она собирала в себе свое растерянное остервенение. Ковтюх нагнулся, за ушки подтянул голенища сапог и вдруг выругался.
Спустя некоторое время он повеселел, сказал казачкам:
– Идите за мной, птицы-вороны! Ишь круглые! Раздобрели, бабы, на жирных-то гусях!
IV
Приднепровский полк во фронту стоял напротив крыльца атаманской хаты. Все это были пороховые ребята, не раз стеганные смертью. Здесь были бородатые дяди, и усачи, и такие, что успели побриться в Туапсе у базарных брадобреев, а теперь заросшие беспорядочной щетинкой. На лицах лежали степная пыль, усталость и мужество. Пальцы их крепко держали винтовки, взятые к ноге. «Смир-рна-а!» – пропел полнозвучный голос полкового командира. Люди были одеты пестро и плохо, истомлены и голодны. Люди умели лежать под снарядами немцев, слушать свист пуль, цепями идти на золотопогонников. Приди нужда – они с голым кулаком пошли бы на танки, на дредноуты и на броневики. Самолеты интервентов сбрасывали на них смерть с воздуха, каждая кулацкая станица в степи грозила им смертью, и смертный ветер обдул их, и они не боялись смертного ветра.
– Слушай меня, бойцы! – закричал Ковтюх своим легким голосом, сходя с крыльца.
Он пошел вдоль фронта, вбирая в себя взгляды людей.
– Слушай меня! В Туапсе на армейском митинге поклялись мы перед лицом революции и партии большевиков-коммунистов хранить дисциплину, как собственное око! Позор тому стрелку, который запоганит себя грабежом! Позор сукиному тому сыну, который поспит с беззащитной бабой! Позор насильнику над мирным населением Кубани! В этом ли мы клялись на революционном штыку и на большевистской сабле? Дружно отвечайте мне, бойцы!
– Верна-а! – закричали ряды, как кричат «ура».
– Не бандиты мы, не прислужники буржуазии, не лакеи империалистов, не базарная шпана. Мы – солдаты Ленина, на своих бесстрашных штыках мы несем славу революции. На смертях наших расцветает революция, как маков цвет. В этом ли мы клялись? Дружно отвечайте мне, бойцы!
– Верна-а! – прокатилось по рядам.
– Верна-а! – подхватил Ковтюх. – Почему ж тогда прибегают ко мне эти вот бабы, одна из них разбитая в кровь? Почему жалуются мне, вашему боевому командиру, и говорят, что боец революции ворвался, как бандюга, в мирный двор, сграбастал гуся и поросенка, избил бабу? Либо клевещут эти бабы на славные полки Ковтюха, либо есть среди нас такой распоследний черт, которому плевать на знамя революции? Отвечайте мне, бойцы!
Но бойцы не отвечали. Сомкнуто стояли их ряды. Каменели на винтовках пальцы. Ковтюх своим легким шагом дошел до фланговых, повернулся и двинулся назад.
– Горько мне, что молчат бойцы, – сказал он с большой силой. – Позор и стыдоба! Мы в боях, как через колючий дерн, продираемся через кулацкую Кубань, мы на Кубани льем жгучую кровь, и Ленин слушает нас из Москвы. Весь российский пролетариат слушает наш поход. А здесь какая-то бандюга тишком марает нашу честь. Уж беспроглядная, видать, это бандюга, раз боится перед лицом товарищей назвать свое проклятое имя!
При этих словах вышел из рядов бледный солдат с цыганской бородкой, бросил винтовку на землю и, чувствуя тошноту, тихо сказал:
– Это я того гуся спер.
Ковтюх неторопливо нагнулся, поднял винтовку и, держа ее обеими руками, повернулся к крыльцу. Ольга, тяжело дыша, сошла со ступенек навстречу его взгляду. Она заплетала ноги, как пьяная. Круглый камешек, сбитый ее носком, докатился до ноги Ковтюха.
Ковтюх неподвижно, но горячо глядел на нее.
– Этот боец? – спросил он ее.
– Этот самый.
– Гуся и поросенка угнал?
– Он же все.
– И в морду бил?
– Он же все.
– Вольна-а! – закричал Ковтюх, оборачиваясь к фронту. – Бойцы, товарищи! Вот перед вами Крылов, боец четвертой роты Приднепровского полка. Пользуясь оружием, он пустил из женщины кровь, украл у нее гуся и подсвинка. Как назвать все это? Можем ли мы терпеть в армии бандитов? Как нам поступить с этим человеком? Быстро отвечайте мне, бойцы!
Люди, ставшие вольно, единодушно закричали о том, что нужно созвать митинг и на митинге судить Крылова.
Вся площадь, усеянная бойцами и беженцами, уставленная боевыми тачанками, орудиями и телегами, пришла в движение. Толпа потекла между телег к чистенькому крылечку атаманского дома. Где-то позади толпы человек высоко поднял гуся, его перехватили другие руки, и белая тучная птица, роняя жемчужные перья, крича всей своей потрясенной душой, поплыла над половами. На лапе птицы крутилось металлическое колечко.
Тщедушный боец с нежными глазами, стоявший впереди, подскочил, на лету сгреб гуся и присел на коленки, борясь с птицей, в смертный час свой обретшей громадную силу. Совладав с ней, он подбежал к Ольге.
– Держи! – выговорил он, обливаясь потом. – Держи свое достояние!
Ольга обняла гуся, села на ступеньку и коленями зажала ему крылья. Ей вдруг стало страшно этого народа и всего, что здесь происходит.
У самого уха ее Голосова визжала:
– Судите его, вора окаянного! Судите его воинским судом!
Гусь спрятал клюв под мышку Ольги и затих. Подняв глаза, она увидела солдата с цыганской бородой, залитого, несмотря на смуглоту, какой-то шершавой, серой бледностью.
Толпа поставила его на телегу.
Раскорячив ноги, он стоял среди домашнего скарба, среди горшков, сухолицых икон в медных окладах, среди детских люлек и домотканых ряден. Его дамский капот распахнулся, открыв подштанники, у лодыжек перехваченные красненькой конфетной тесемочкой. Неспокойные лошади дергали телегу, и, чтобы не упасть, солдат приседал, выкидывая руки с распяленными черными пальцами. Он хотел что-то сказать, опустил нижнюю челюсть и так и не смог ее поднять. Она тряслась, открыв ряд нижних блестящих зубов. Ольга вспомнила, как он, ворвавшись во двор, сказал с веселой злостью: «Здрасте-мордасте!» Сейчас невозможно было представить себе, чтобы этот человек, стоящий на телеге, был способен на веселость!