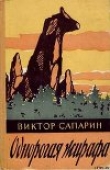Текст книги "Таврические дни (Повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Глава седьмая
На следующее утро после ареста английское командование передало Анджиевского в руки белых. К вечеру в закрытом автомобиле Анджиевского повезли в порт. Ветер, дующий с Сурахан, кидал на кузов машины жаркую и жесткую пыль. В машине было так душно, что высыхал мозг. Поры на теле здоровенного поручика, сидящего рядом, изливали пот, едкий и тонкий.
Вскоре машина остановилась, и поручик швырком выкинул Анджиевского из дверцы. Упав на землю, Анджиевский долго не мог подняться: кандалы на руках и ногах держали его у земли. Удар сапога, казалось, разломил ему бедра.
– Не бей! – сказал за его спиной голос, предостерегая. – Англичане смотрят…
Анджиевский собрал волю, отодрал плечи от земли и, откинувшись назад, подняв вверх закованные руки, начал медленно и страшно вставать. От висков его отхлынула кровь, глаза перестали видеть. От полуобморочного состояния он пришел в себя у парохода. Он шел по сходням, делая медленные и мелкие шажки закованными ногами, сходни упруго оседали. Казалось, не будь на нем кандалов, они, подбросив, швырнули бы его в море. Он увидел серый борт парохода, давно не чищенные золотые буквы на борту: «Крюгер»; светлый глаз на фок-мачте мерцал, странно белый на фоне заката. На палубе, осыпанной угольной пылью, было пустынно и голо. Черная пыль блестела на солнце, как чешуя. Серый и плоский Каспий, весь в перламутровых пятнах нефти и кровавых вспышках заката, лениво гнал спокойную волну на горизонт. Отбрасывая на корму гигантскую тень, край лебедки вскинул в воздух обтянутый старой рогожей тюк, гибкий голос пропел вдалеке:
– Ви-и-ира!
Анджиевский, окруженный конвойными, спустился в душное чрево парохода. От машинного отделения пахнуло теплом, запахом разогретого масла. В трюме, кивая язычками, печально горели рожки. Анджиевского втолкнули в каюту, с размаху он сел на незастланную койку. Против него на табурет сел офицер. Дверь задвинули, слышно было, как ставили в коридоре караул. Иллюминатор задраен. Душно. Волны, играющие за бортом, бросают на него длинные бенгальски-холодные отсветы.
Анджиевский закрыл глаза. В первую минуту ареста – именно в ту минуту, когда от него оторвали Анну, – он увидел, как в отчаянии и гневе она вскинула вверх руку (разорванный рукав ее скатился до плеча, рука тонкая, детская, с белыми шрамами оспы на предплечье), и он услышал свой собственный крик («Никто не может разлучить меня с женой!»). Именно в эту минуту Анджиевский почувствовал себя оглушенным.
Сидя в комнате английского штаба, он собрал силы. Блестел паркет, высокие окна были завешены зелеными жалюзи, за окнами ходил часовой. Сначала Анджиевский не мог осознать их плен. Сейчас он видел себя со стороны: длинноволосый, порывистый, ершистый парень. Он оценивал себя со стороны и, конечно, он знал себе настоящую цену! Кто может остановить Анджиевского? Только тот, кто может остановить революцию. Анджиевский, широко ставя ноги, восемью шагами покрыл расстояние от окна к двери. Сейчас в типографии Купцов, Андрей, Иван Иваныч и Дикий готовят номер подпольного «Прибоя». Купцов у конторки пишет «шапки»: у него оттянута книзу губа, и к ней прилип изжеванный окурок. В руках товарищей верстатки; с коротким щелканьем падают в них литеры. Другой товарищ стоит у ворот, он спрятал руки в карманы, чтобы они не белели. Россию перепоясали фронты. Солдаты, матросы, казаки, рабочие… Где тот бахвал и тот безумный, кто взялся остановить их?
Он шагал по комнате.
Пленник? Только убив, они смогут сказать, что он их пленник. До последнего дыхания своего он – враг.
Сознание силы было до того ясно в нем, что он ощутил жажду немедленной горячей деятельности – один из тех мощных приливов сил, когда все одолеешь, все опрокинешь и сомнешь, только пожелай, только захоти! Он ли не умел хотеть – Анджиевский? В октябре Сорокин, оголив фронт, стянул свою армию к Пятигорску. По пятам за его пьяным штабом тащились предательство, измена, кровавая игра в диктатора. Уже легли под его пулями члены ЦИКа: Абрам Рубин, Семен Дунаевский, Борис Рожанский, Михаил Власов, Викторин и Абрам Крайние. По ночным улицам Пятигорска молодцы Сорокина охотились за членами исполкома, окружного Совета и за Анджиевским.
Подполье. Задняя комнатка у сапожника Порываева в Новом Пятигорске. Электрическая лампочка на шнуре, прикрытая старым носком. В углу горка цветных чувяк, запах кожи. Купцов, Мансуров, Анджиевский, еще ряд товарищей. От бессонницы лица опухли. Измена! Негде ходить: стол, койка Порываева, чувяки. Два шага вдоль, шаг поперек. Распяленная ладонь вдралась в волосы, лежит на темени. Сам чувствует, как горят глаза. Действовать! На шею революции вскочил изменник, пьяный от водки, от власти, от крови. «Мы не бессильны, товарищи!» Это тогда он сказал фразу, которая была рождена его кровью и нервами, всей неистовой убежденностью его мысли. «Даже мертвый не бессилен коммунист, потому что его смерть кричит о революции!»
На рассвете первый допрос. Английский военный следователь, свежий после сна, сухой и жилистый, поднял над голубым глазом бровь. Подошел переводчик и, повернувшись к Анджиевскому, смерил его взглядом с головы до ног, как новый материал, с которым ему сейчас надлежит иметь дело. Переводчик был старый, он нюхал необычайно зловонный табак и вытирал нос большим шелковым платком с лиловой монограммой.
– Отвечайте немногословно, – шепнул он Анджиевскому. – Нечего тянуть, нечего тянуть…
Допрос был короток. На бритой щеке следователя лежало бледное солнце. Ясность и точность, с которой Анджиевский давал показания, понравились следователю.
Следователь поднял на Анджиевского глаза.
– Вы не должны создавать себе иллюзий, – почти вежливо сказал он, – вас ждет плохой конец.
– Мне это известно.
– Вы могли бы избежать резких выпадов против английского командования. Ваши показания фиксируются.
– Я не считаю нужным скрывать своих мнений.
Переводчик, пряча платок, покачал головой. Табак его был крепок. На глазах, покрытых сеткой красных жилок, выступали слезы. Следователь, вычистив перочисткой перо, сказал интимным тоном:
– У вас есть жена. Насколько мне известно, у вас есть ребенок. Неужели вам не жаль их?
– Я – революционер, – ответил Анджиевский. – Мы живем борьбой за будущее. Ему жертвуем собой, женами и детьми.
Следователь подумал, потом вынул записную книжку и, усмехнувшись, записал в нее эти слова себе на память как русскую революционную экзотику, которая мило прозвучит в лондонских гостиных. Утром Анджиевского передали белым. В комнату вошли конвоиры. К Анджиевскому приблизился огромный человек в потной гимнастерке, бородатый, со щеками, как пузыри. В руках он держал кандалы.
– Давай руки! – закричал он раскатистым голосом.
Анджиевский встал, говоря:
– Я и без кандалов…
Удар в лицо сбил его с ног.
Глава восьмая
«Крюгер» вышел в море, держа курс на Петровск. В иллюминатор видно, как длинная плоская полоса дыма медленно клонится к морю, ложится на волны и стелется по ним. Желтое безоблачное небо качается вместе с горизонтом. В буфете звенят рюмки, расставленные по полкам. На спардеке хрустят шаги: как заводной ходит капитан. Длинно и заунывно бьют склянки.
От духоты Анджиевского одолевала дрема. Офицеры, сторожившие его внутри каюты, менялись каждый час – дольше не могли выдерживать духоту. Открывая глаза, Анджиевский всякий раз видел нового соседа. Первым сторожил его длинный, сухоногий поручик с вылинявшим лицом, отекшим от водки и от водянки. Движения его были вялы и развинченны. Он дышал с хрипом, открывая, как рыба, нечистый сухой рот.
Отдышавшись, поручик перегнулся в талии, пальцем взбил пушистые усы и, приблизив бледные глаза к Анджиевскому, скорчил рожу идиота.
– Ха-ха! – сказал он густо, вроде того, как это делают неумелые певцы, поющие «Блоху».
Вслед за этим он откинулся к стене и устало закрыл глаза. На шее его, вспухнув, колотилась вена. Прошло минут пять. Анджиевский задремал.
– Ха-ха! – громыхнул поручик.
Открыв глаза, Анджиевский снова увидел близко от себя бледные, очумело выкаченные глаза, перекошенный рот и золотую коронку в ряде ощеренных, черных как уголь зубов. Во всех его движениях и в бледном мерцании глаз была саднящая и яростная, отпето-больная тоска.
Около часа продолжалась эта дикая игра.
Поручик запел:
Я на бочке сижу
И кричу народу:
«Распротак вашу мать
За вашу свободу!»
– Хорошо поешь, барин, – медленно сказал Анджиевский.
Гримаса сбежала с лица поручика, глаза его сузились, белесые веки задрожали. Погоны встали на его плечах дужками. Он сильно качнул плечами, выдохнул, раскрывая рот:
– Ха-ха!
И, устало откинувшись назад, стукнулся затылком о стенку.
Его сменил молодой, розовый, черноглазый офицер, почти мальчик. Усы у него росли только у кончиков губ, тонких, подвижных и красных, как помидоры. Он был одет с тем военным щегольством, которое нравится начальникам, полковым дамам и обывателям, любящим военные парады. Ярко начищенные сапоги его хорошо обтягивали ноги. Он был очень решительный и живой: щелкая каблуками и делая виртуозные повороты, он вертелся и крутился по каюте и вдруг, будто невзначай, зацепил Анджиевского локтем.
Удар был рассчитан и силен. На губе Анджиевского проступила кровь.
– Как сидишь, комиссарская морда! – закричал мальчик полным и свежим, металлически звонким голосом. Щеки его охватил румянец. Он вынул серебряный портсигар и, вскинув, задел им Анджиевского за подбородок. – Прямо сидеть, сволочь! – Вынул папиросу, закурил, не затягиваясь, набирая полные щеки дыма и пуская его в глаза Анджиевскому. Отборная брань, брань, доведенная до высот бессмыслицы, опрокинулась на Анджиевского.
– Познакомимся, комиссар! – кричал этот полумальчик, повернулся, отчетливо щелкнул каблуками. – Штабс-капитан второго сводного полка Анатолий Щербацкий, честь имею. Питаю надежду собственными руками затянуть на вашей шее ожерелье из веревки. Попалась, ворона… ч-черт, с-сволочь! Ты у меня будешь тридцать девятым, кого я сам… Номер тридцать девять! Имею невесту: роскошная девица, но не соглашается, покуда не наберу пятьдесят. Пятьдесят штук самых родовитых комиссаров. Встать, когда о невесте говорят! Моя невеста – Россия!
Он отстегнул кобуру, вынул наган и положил на стол. Он был в состоянии неистового самоупоения. Вероятно дожидаясь своей очереди, он бегал по палубе и в нетерпении придумывал все те штучки, которыми добьет комиссара, и, облизывая губы, пил в буфете английский коньяк. Все лицо его, как стекло дождем, покрылось каплями пота. Подняв револьвер и положив палец на спуск, он закричал:
– Да здравствует государь император! Кричи, комиссар… «Да здравствует…»
Их плаза встретились. Анджиевский приподнялся, на ногах скрежетнули кандалы, долго качалась цепь. Он понял, что вот сейчас решится: или он, в кандалах, одолеет мальчишку, или мальчишка изобьет его рукояткой нагана. Опять он чувствовал, как горят его глаза. Холод свел лопатки, побежал по позвоночнику вниз. Выпрямившись, опустив руки, он не спускал глаз: это был поединок глаз, долгий, томительный и страшный.

Кадык нырнул на розовом горле офицера: офицер проглотил слюну. Нос его обострился, ноздри расширились. Анджиевский увидел, как офицер побледнел. Краска сошла со скул, поплыла вниз, лицо стало белым, как хина, он сломился и вдруг безвольно и мягко сел на табурет. Рука с наганом повисла между колен. Рот его открылся: розовый язык облизывал губы.
– Сесть! – крикнул он без голоса, закрыл глаза и вдруг, мотнув головой, начал засовывать револьвер в кобуру. Потом он расстегнул воротник и вытер платком белую шею.
Минут пять они сидели молча.
Ударом ноги офицер отпихнул дверь и закричал часовому:
– Егоров! Зови капитана Филиппова. Душно, мочи нет!
Штабс-капитан Филиппов от старости был мешковат.
Войдя, он воровато и даже как будто с испугом оглядел Анджиевского своими мелкими, добродушными, доверчиво-ясными глазами. У него была голова в виде пенька, с необыкновенно плоским теменем, лоб и темя сходились почти под прямым углом. Волос на этом четырехугольном черепе не было, и кожа, обтянувшая его, желтая, как сурепка, пошла пятнами лилового цвета. Также не было волос ни на щеках, ни на подбородке капитана Филиппова. Высоко приподнятые, вывернутые наружу ноздри были розовы и нежны.
Войдя, он осторожно прикрыл за собой дверь, старчески медленно повернулся к Анджиевскому и сказал поблекшим, но еще приятным тенорком:
– Чем это вы пригрозили штабс-капитану Щербацкому? Ай как нехорошо! В вашем положении, голубчик, это очень неосмотрительно.
Анджиевский не ответил. Филиппов сел, белыми руками погладил колени. Испарина так обильно покрыла его, что, казалось, капитан дымился. Он ласково поглядел Анджиевскому в глаза, потрогал его кандалы, осведомился: «Очень, я думаю, тяжелы?» Покачал вспотевшей головой. Все говорило в нем: «Вот какой я домашний, миролюбивый, симпатичный человек! Какое это несчастье носить погоны в столь шумное время!»
Вскоре ему стало жарко, он снял защитную куртку и ловко, по-юнкерски сложил ее на столе, подумал и сказал:
– Духота, голубчик. Азия! Мне с вами тут целый час сидеть. А сниму-ка я и рубаху!
Он снял рубаху, обнажив пухлые желтые плечи, грудь с черными сосками и раздутый, гладкий, как шелк, живот.
– Вы уж не осудите старика, голубчик.
– Оголяйтесь, – усмехнувшись, сказал Анджиевский, – голыми-то вас я давно вижу.
– На то вы и комиссар, – миролюбиво и даже ласково откликнулся капитан Филиппов, похлопывая себя по телу, которое тряслось и плыло под его ладонями. – Раздеваете народ до последней нитки, как же вам после этого голых людей не видеть? – Он благодушно растер ладонями живот, будто сидел в предбаннике. – Я, батюшка мой, неестественную жизнь прожил. Моя профессия – управляющий имениями. Ну, война. На войну – в чине прапорщика. Воевал на турецком фронте – и такой курьез: что ни бой, то имею отличие, хотя доблести никогда не проявлял; я, знаете, ни крови, ни барабанов не люблю. Я с вами откровенно. Сунулся после войны в Москву, к семье. А там – комиссары. Все, что в банке скопил, реквизировано. Жена дома только ночует, а живет в церкви Николы Мокрого, молится о вашем низвержении и умом шатнулась. Дочь, Зинаида, нюхает кокаин, у нее с утра до ночи поэты, они весь дом растащили. Сын – у Деникина. Нехорошо. Вижу, делать мне дома нечего, – и сюда. По дороге, на станции Прохладная, хотели расстрелять, но я дьяконом прикинулся – сумасшедшим дьяконом. Вы, красные, простачки, вам смешно на дьякона – отпустили. Вам как, не скучна моя болтовня?
– Мне сейчас общество выбирать не приходится.
– Эх, голубчик, до чего ж вам хочется меня зарезать! За что? Меня б не трогали, и я бы никого не трогал. А раз из-под меня постель тащат, то нет, извините, мне тоже не хочется на голых досках спать!
Он оживился. Что-то похожее на мысль зажглось в его глазах.
– Давно мне хотелось задать комиссару вопрос в лоб. Но до сих пор не находил случая. Этот вопрос можно задать только в редкой ситуации, то есть при условии, если комиссар в кандалах. Очень опасный вопрос. Позволите?
– Позволяю.
– Вот я человек пожилой, стало быть, трезвый. Есть всякие высокие и нарядные слова: у вас «свобода», у нас «родина». Но я человек бывалый и опытный, мне родина только потому нужна, что она предоставляет мне тепленькую постельку. Вас, надо думать, родина положила на голые доски. Вот вы и стоите за свободу, против родины, чтобы она, свобода, дала вам теплую постель. Так? Но смею заверить, что родина давала постели не всем, а только избранным, лучшим людям. Вы ж от лица свободы обещаете каждому с улицы. Не хватит столько постелей, господин Анджиевский! Перегрызетесь, предупреждаю вас. Нельзя, чтобы царей были тысячи, а подданных – один. Да у вас и одного не будет, если всех буржуев перестреляете.
– Эх ты, – вздохнул Анджиевский, – царь! А где ж твой вопрос?
– Сейчас. На борту этого парохода следует князь Голицын и сын его превосходительства генерала Радко-Дмитриева, героя войны, бессудно вами расстрелянного. От них нам известно, что мы везем тебя на расправу. На смерть. Но почему ты не боишься, не цепляешься за жизнь, Анджиевский? Почему не покоряешься? Почему не просишь пощады? Вот мой вопрос: неужели тебе, Анджиевский, смерть менее страшна, чем жизнь на голых досках? Ведь на голых досках ты все-таки дышишь!
– Поди полежи на наших досках. Подыши.
– Неужели за постель погибаешь?
Анджиевский засмеялся.
– Врешь, врешь! – закричал капитан Филиппов в страшном беспокойстве. – Ты помираешь за слово! За нарядное слово помираешь ты. Но слово-то – его не съешь, им не насытишься: оно воздух, феерия! Дурак! Опоили тебя на немецкие деньги!
– Погибаю я, господин управляющий, не за слово, – сказал Анджиевский. – Я за дело погибаю.
– Какое же твое дело?
– Наше дело – прежде всего очистить землю от гадов. Чем скорей, тем лучше.
Капитан Филиппов, положив ладони на мягкую желтую грудь, прищурил глаз и долго молча глядел на Анджиевского. Живот его подымался и опускался, как волна. Капитан обиделся. Губы его задрожали.
– Это я гад? – тихо спросил он.
– Ты.
– Ага! – сказал капитан Филиппов. Ладони его опустились к животу, помяли сиреневые, пропитанные потом подтяжки.
Не открывая левого глаза и не оборачиваясь, он крикнул в дверь приятным тенорком:
– Егоров!
Дверь открылась: стуча о пол винтовкой, вошел солдат, пожилой, бородатый. Вытянувшись, он высоко закинул дремучие брови.
– Дай комиссару в зубы, – ласково сказал капитан Филиппов, – да потяжелей.
В Петровске Анджиевского перевезли в тюрьму. Избитый, он плохо держался на ногах, у него поднялась температура. В каменной одиночке было прохладно, это оживило его. Он лежал на полу и глядел, как лиловая мышь, взобравшись на столик, чистила лапками острую мордочку. Солнце, отражаясь от стены, зажгло ее усы.
Но в середине того же дня в камеру ввалились офицеры, среди них он узнал Щербацкого. Тонкий запах коньяка тянулся от усов офицеров, от их шашек и погон. В руках Щербацкий держал доску, черной тушью были намалеваны на ней слова: «Убийца! Вор! Грабитель!»
– Встать! – закричал Щербацкий, вспыхивая румянцем, завертелся, закрутился по комнате, отчетливо щелкнул каблуками. Он был взбешен своим давешним испугом и, широко раскрывая глаза, все старался глянуть прямо в глаза Анджиевского – в эти глаза, которые, согнув, бросили его на скамейку каюты.
Анджиевский встал через силу. В толпе офицеров, уже изрядно пьяных, он заметил капитана Филиппова, который улыбнулся ему, как знакомому. Бешенство охватило Анджиевского. Он опустил голову, чтобы офицеры не увидели бессильной ярости, исказившей черты его лица. Паясничая, Щербацкий подвязал доску к его шее.
День был ветреный, тени от облаков плыли по крышам, по деревьям, по мостовой. Влажным голосом кричали в море сирены. Впереди Анджиевского встали два барабанщика в бескозырках с красными околышами, подняли локти. Тотчас застучала и мелко рассыпалась барабанная дробь. Русые кудри барабанщиков, выпущенные из-под бескозырок, заплясали. Шествие двинулось. Цепь от кандалов волочилась по булыжникам, звеня и стуча, Анджиевский шел, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, чувствуя за своей спиной свору полупьяных офицеров, идущих за ним в звоне шпор, в дыме белой пыли.
Доска, вздернутая до подбородка, била по его коленям.
Сначала идти было больно и не под силу, потом он разошелся. Он не чувствовал ничего, кроме своей душевной силы. Он уже не боялся в себе взрыва бешенства, только что потрясавшего его. Круг замыкался. Двадцать шесть лет жизни прожито, а двадцать седьмого не будет. На тропку, пробитую им, встанет товарищ и пойдет дальше. Он понял до конца, что обречен, что уже никакая сила не вырвет его из рук смерти. Осталось подумать о суде, если его станут судить, и о том, как он умрет, когда его станут вешать, колоть или расстреливать. Он понял, что нет силы, которая смогла бы его смять или смутить, что он на суде будет тем же бойцом, каким был в строю революции, что он умрет хорошо.
Его вели улицами, самыми людными в городе. Толпы зевак и военных чиновников уже окружили его, шли рядом, перетасовывая свои ряды. К нему проталкивались, и он услышал дыхание толпы. Его длинные волосы упали ему на глаза. Старуха в черной кофте, в черном платке, переходя улицу, глянула на него, в страхе перекрестилась: «Праведник! Мученик!» Он понял, что бледность его лица, разорванная побоями губа и сухой жар глаз, вероятно, страшны. Старуха не умела понять, что он страшен ненавистью.
– Вор! Вор! – кричали в толпе на разные голоса. – Кровавый комиссар! Собака!
Его водили по улицам в течение двух часов. В одном из окон особняка стояла девочка лет трех. Она раскрывала круглые губы и смеялась, била в ладоши. На волосах ее прыгал бант. Он вспомнил о своей дочери, которую не увидит, и об Анне. Он подумал, какое это счастье, что Анны нет с ним. Ветер кинул ему в лицо тучу пыли. Он не мог поднять рук, чтобы прочистить глаза, и, моргая, остановился. В спину его толкнули прикладом. Он пошел. Барабанщики без умолку били в барабаны. Он подумал, что ненависть, которую он нес в себе, похожа на счастье.
Человек в светлой тройке, немолодой, с тонкими и уже седеющими усиками, вынырнул из толпы. В углу его губ скопилась слюна и падала ему на грудь, на голубенький галстук.
– Повесят!.. Как кошку поганую… повесят! Дождался!
И не ему, не этому сброду, истекавшему перед ним гноем своей злобы, но всему этому нечистому, жадному, потерявшему под ногами почву, осатаневшему от ненависти и жадности классу, против которого вел его Ленин, Анджиевский сказал прежними своими словами, вспыхнувшими сейчас в его памяти, как огонь:
– Даже мертвый не бессилен коммунист, потому что смерть его кричит о революции.
В тот же день его отправили в Пятигорск.