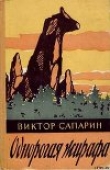Текст книги "Таврические дни (Повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Глава четвертая
В январе казачьи орды появились у Владикавказа. Из Беслана Анджиевскому сообщили, что путь на Грозный свободен. Анджиевский двинул на Беслан поезд, нагруженный ценностями Монетного двора.
В полуразбитый классный вагон, к бойцам, Анджиевский втиснул Анну с ребенком и Ваню. Они сели на чемоданы, набитые делами Владикавказского и Пятигорского Советов.
Летучие гривы снега завивались вокруг обледенелых тополей, на ветру сам собой звонил станционный колокол. Пурга, подхватывая шинель Анджиевского, открывала его поджарые ноги в каменных солдатских сапогах.
Анна высунулась в разбитое окно.
Анджиевский, сделав руками воронку, закричал промерзлым голосом, чтобы она берегла дочь. Она услышала только звук его голоса. Пурга сорвала с Анджиевского картуз, и его длинные волосы вытянулись по ветру, как флаг.
Одетый льдом, поезд двинулся в степи. Жесткий снег хлестал из окна в окно. Свечи в фонарях погасли. Бойцы легли на пол, где было тише; товарищ согревал товарища, спали, бредили. Вытянув окоченевшие ноги, Анна прижала к груди ребенка, укутанного в лоскутное ватное одеяло. Ее груди отяжелели под тулупом, их мучило молоко. Ребенок спал, причмокивая губами, круглое личико казалось темным, как ржаная лепешка.
«Ты же счастье мое… лазорик мой, – задыхаясь, говорила Анна. – Анджиевская ты моя дочка!»
Братишка сел на пол и, положив на ее колени голову в треухе, пел сиплым, как у мужчины, голосом песню о степных травах и о любви.
В километре от Беслана поезд остановился.
Вьюга не утихала. Будто белые псы с холодной взъерошенной шерстью сидят вдоль полотна, воют, задрав головы, и когтями скребут обшивку вагона.
Валенком Анна толкнула бойца, спавшего у ее ног.
– Вставай, – крикнула она ему. – Мы стоим.
Спина в шинели, засыпанная снегом, ворохнулась. Боец сказал мирным голосом:
– Не производи паники, дочурка. Постоим – поедем.
– Стреляют, слышишь?
– Пьяные осетины стреляют. Растревожили ихнюю горячую кровь, они, осетины, теперь вплоть до мирового пожара будут стрелять.
Снаряд ударил в тамбур, гром и визг осколков покрыл шум пурги, вагон сел на заднюю ось.
В темноте бойцы, держась друг за друга, вылезали из-под лавок, разбирали винтовки. Анна, держа ребенка, прижалась к стене. Возле нее опустился на пол длинный широкоплечий боец, сказал безнадежно и просто: «Смерть моя». Он не удержался на полу, вставшем горой, сполз, локтями и головой лег на скамью.
Вагон опустел.
Стрельба погасла.
– Возьми ребенка, – сказала Анна братишке, – беги на станцию. Я поведу этого товарища.
Ваня взял на руки ребенка. Она следила, как он осторожно пополз к двери… милый, храбрый брат!
Тогда она стала поднимать с пола раненого бойца. Его большие стиснутые зубы блеснули ей в глаза. Он был так высок, что не мог обнять ее за шею. Она схватила его повыше бедер, и они выбрались из вагона.
Пурга еще выла, но в ней не было прежней ярости. На платформе кучкой стояли казаки, курили, пряча папиросы в горстку; горстки светились, как фонарики. Анне уже не под силу было поддерживать тяжелого бойца, и он упал в снег: умирать. Она наклонилась к нему.
Челюсть у бойца отвалилась.
Анна пошла на платформу. Офицер в нагольном тулупе, в башлыке с серебряным кантом стоял на ее пути, расставив ноги, как Гулливер. У него были такие же ожестеневшие глаза, как у того бойца, что умер.
– Не видали здесь мальчика с ребенком? Сейчас прошел, – спросила Анна.
– Ты кто такая?
– Пассажирка. А вы кто такой?
– Я сейчас занял Беслан.
Он взял в руки ее косу, ветром прижатую к спине, потер в пальцах, сказал: «Густая у тебя коса, девочка!»
Она пошла на станцию, вошла в дежурку.
В печке гудел малиновый огонь.
Два телеграфиста с зелеными от испуга лицами смотрели в окно через дырочки, проверченные в морозном насте.
На столе аппараты трещали так бешено, что, казалось, они подпрыгивают.
– Товарищи. – проговорила Анна, – это вызывает Владикавказ. Сообщите, что наш поезд разбит.
Телеграфисты обернулись, вздрогнув спинами. У обоих были выпуклые глаза жаб.
Первый сказал душным голосом:
– «Товарищей» повышибали отсюда. Да-с! Не осталось здесь «товарищей».
– Сволочи, сволочи! – проговорила Анна тихо. – Ведь вы были с нами, вы нас предали.
Второй, зашипев, сунул руку в воздух, будто в зубы Анне. В щелях его зубов пузырьками выступала слюна. Анна, ослабев, села на скамью.
Грудь ее жгло так сильно, что вот сейчас задымится тулуп.
Телеграфисты опять присосались к окну. Анна, лихорадочно соображая, вынула из кармана партийный билет и, занося руки за спину, разорвала его; клочки она бросила под стол. Потом под тулупом нащупала револьвер, подаренный Анджиевским. Она не сомневалась в том, что ей придется стрелять.
Верная тяжесть револьвера успокоила ее.
Она спросила тихо:
– Мальчика с ребенком не видали? Это мой ребенок.
Телеграфисты не ответили.
В подвижных и густых клубах пара она вышла из дежурки. Ветер стих, снег визжал под валенками крепко и звонко. В станционном садике, перед строем казаков, давешний офицер держал речь станционному начальству.
Донеслись слова:
«…задержанный вами поезд позволил мне…»
Отцепленный и опечатанный вагон с деньгами стоял возле самой станции. Анна сошла с платформы, прошла мимо бойца, который умер на ее руках. Теперь его завалило пургой, из снега торчали его плечо и черная рука, туго сжатая в кулак.
Анна подошла к разбитому составу, влезла в вагон, севший на ось. Здесь, на полу, в фонаре догорал свечной огарок. Чемоданы были вскрыты, и промерзшие бумаги, стеклянно звеня, носились на сквозняке под лавками. В перекошенное окно глядело ледяное чистое небо.
Анна вышла из вагона.
Шел человек в овчинной шубе, заглядывал под вагон, напевал: «В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть…»
Сцепщик.
Анна спросила его, не видал ли он ребенка.
– «Одну молитву чуд-ную…» – пропел сцепщик, поднял на нее глаза и сказал приветливо – Как не видеть? Они на паровозе.
Но паровоз был темен, покинут, топка погасла, возле топки валялась мужская варежка, черная от смазки.
Анна пошла в степь.
Белая степь в безветрии лежала под ясным ночным небом, дыхание ее было чисто и морозно. Трупы расстрелянной поездной охраны казаки навалили неподалеку от насыпи. Вероятно, людей расстреливали им пулемета, они бежали в степь и падали там, где их настигал свинец. Три казака ходили теперь от трупа к трупу, нагибались и обшаривали их. Один из них светил фонарем. Желтое яйцо света ползло по белому снегу, взбиралось на мертвое колено, на мертвую грудь, на заиндевевший ус. Если боец еще дышал, передний казак говорил: «Ну-ка», второй поднимал винтовку и коротко бил в голову.
Анне вспомнилось, как девочкой она любила ходить на пожарища; обтрепанные старики нищие с окраин бродили среди черных руин и длинными суковатыми палками ворошили еще теплую золу, искали «клад». В золе вдруг открывалась чадно тлеющая головешка, и тогда, вздрагивая бородами, тусклыми от старости и нищеты, старики топтали ее ногами – так же молча и буднично, как эти казаки дотаптывали тлеющую жизнь.
Анна обогнала казаков.
Ей пришло в голову, что они найдут ребенка и прикладом разобьют ему голову.
– Эй, эй! – закричал на нее казак, несший фонарь. – Чего надо? Мертвого, молодка, не воротишь. Подыскивай теперь живого, кто повеселей.
– Ребенок у меня пропал, – сказала Анна, остановясь перед казаком. Ненависть перехватила дыхание. – Палачи! – сказала она тихим голосом. – Палачи, убийцы!
Казак пробурчал в бороду:
– Но, но… иди себе, иди…
Она бродила всю ночь и сама не помнит где. Только бледное, белое утро помнит она, золотые плеши в степи и сцепщика, который вел ее к себе домой через пути.
Этим утром у Анны открылась грудница.
Боли так были сильны, что она лежала без памяти, и жена стрелочника, накинув платок, побежала в больницу за доктором.
В бреду Анна видела ребенка: голенький и красный, он лежит в снегу, а руки у Анны в огне. Ребенка нужно кормить, а она боится спалить его своими огненными руками, наклоняется над ним, но ребенок не может поймать грудь.
Огонь сверкающими ручьями стекает с ее рук в снег, и снег начинает гореть вокруг нее и ребенка.
Ей было восемнадцать лет, и, очнувшись, она говорила: «Я жена Анджиевского, я – боец его отряда». Вместе с женой стрелочника, бойкой, тугогубой казачкой, она обошла весь Беслан, но никто во всем Беслане не видал ни ребенка, ни братишки. Прозрачная, злая ясность сошла на ее душу. Шкуро восьмой день сидел на подступах к Владикавказу, но казачьи лавы после каждой атаки откатывались назад. Владикавказ держался. Днем, когда стрелочник был на дежурстве, а жена ушла на рынок, Анна отыскала в рабочем ящике плоскогубцы. Она спрятала их в карман.
Потом она ходила в степь, укрывалась в балках. Солнечные дни грели землю. Плоскогубцами Анна перерезала провода полевых телефонов белых. В ночь на девятый день Шкуро начал бросать зажигательные снаряды в ингушские аулы, расположенные близ Владикавказа. Веера зарев встали над глубоким ночным горизонтом. Ингуши бросили позиции и пошли спасать аулы. Шкуро ворвался во Владикавказ, и город увидел на статном, надменном донце крепкого, коротконогого человека с глазами смелой крысы и волосатыми ушами. Город увидел Шкуро.
Глава пятая
Большевики отступали по Военно-Грузинской дороге на Тифлис. На горных вершинах лежали плотные длинные облака, такие же белые, как ледники. В широкой долине на ветвях кустарника висели сосульки. Порошил снег, вдруг скрывая горы и небо. Острый ветер резал ноги, как серпом. Гривы обледенелых лошадей, башлыки людей сдувало на сторону. Отряды, вышедшие из Владикавказа, в строю смешались, и теперь люди тянулись длинной сплошной колонной, голова и хвост которой терялись в пурге.
На подъеме к Ларсу ветер усилился.
Колеса повозок, обсыпанных снегом, издавали резкий звук, похожий на крик ишака. Иногда, скрещиваясь, стучали неотомкнутые штыки винтовок. Люди шли, глубоко засунув посинелые руки в рукава шинелей либо растирая снегом побелевшие уши. Иногда какой-нибудь боец, обмерзнув на ходу, вдруг начинал вертеться на месте волчком, приговаривая: «Ах, мать честна!», глухо бухая сапогами о щебень шоссе, и, снова покрутившись, догонял товарищей. Звенящая снежная пыль неслась по шоссе, завиваясь кольцами и вытягиваясь.
Издалека, разрываемая ветром, долетала песня:
Ты воспой, сирота, песню новую!
Хорошо песню играть пообедавши,
А я, сирота, еще не ужинал…
Пели донцы в голове колонны, за пляшущей стеной пурги:
Поутру сироту на допрос повели:
«Ты скажи, сирота, где ночь ночевал?
Ты скажи, сирота, с кем разбой держал?» —
«У меня, молодца, было три товарища:
Первый товарищ – мой конь вороной,
А другой товарищ – я сам, молодой,
А третий товарищ – сабля вострая в руках».
– Донцы поют, – сказал Анджиевский Купцову, – хорошо!
Ему было жарко. Он отстегнул крючок у ворота шинели, обнажил шею.
– Донцы, – отозвался Купцов. Хвостом башлыка перетянул себе рот, слова долетали глухо. Он быстро поглядел на Анджиевского, поймал его за рукав, проговорил – Сел бы ты в повозочку, Григорий!
– Это зачем?
«Первый мой товарищ – мой конь вороной…» Грива коня летит, как эта песня, и так же, как песню, ее рвет и душит ветер. «А другой товарищ – я сам, молодой». «Летит конь, не сорваться бы, – думает Анджиевский. – Зачем мне такое долгое тело и зачем мне такие долгие руки?» Он видит, как длинны его руки: вытягиваясь, поднимают к небу непомерно огромные ладони. Пальцы похожи на сучья. Такими бы руками – да за горло Шкуро! «Мы еще встретимся, мы еще посчитаемся, генерал». В карусельном движении снега – рожа Шкуро, его папаха с красным верхом, бандитское знамя его с оскаленной пастью волка.
– Это бред, – говорит Анджиевский, – брежу.
Он слышит глухие удары своих сапог о камень. Он думает: «Сапоги стучат – это действительность. Тяжелые руки – это бред». Он выдергивает руки из рукавов шинели, смотрит на них. Синие руки с белыми круглыми ногтями, ногти в трещинах, на сгибах пальцев кожа припухла и побелела, его руки – это действительность.
– Лег бы ты в повозку, – говорит Купцов.
– Повозки – для больных.
– Ты на ходу бредишь, Григорий.
– Я не брежу. Я здоров. Хорошо поют донцы, чего ж перестали? «А третий товарищ – сабля вострая в руках…» Слушай, Купцов, когда я ездил к Ильичу… Ты знаешь, чем силен Ильич? Он видит вперед на сто лет.
Он хотел рассказать об Ильиче, как часто делал это, но воспоминания, нахлынувшие на него, были слишком живы и до неправдоподобия ярки. Он замолчал, подхваченный их сильным непрерывным течением. Свист ветра и гром множества ног, отступающих по шоссе, как бы отдалились на несколько верст. Воспоминания представали картинами, в которых он снова принимался действовать, будто они были не его прошлым, а настоящим. В этих картинах все было приподнято и дивно. Он снова шел широким двором Кремля, вымощенным булыжником; стоял знойный день, на булыжниках вертелась пыль. Но сейчас он сам был как бы выше ростом, крепче в плечах, веселей душой, и смерчики пыли на булыжниках подымались как бы выше, чем а тот первый раз. И кабинет Ильича сейчас шире, и сам Ильич крупней. И он, Анджиевский, не делал сейчас доклад Ильичу – все было ясно без слов: прямо перед Ильичем, на столе, лежала живая карта Северного Кавказа, пылали в огне станицы и хутора, по степям, вздымая пыль, рыскала конница Шкуро и перебегали цепи красных, упорные, железные цепи революции. «Я одобряю доклад, – сказал Ильич. – Вы знаете, на какие группы населения вам нужно опереться?»
И тогда серая голова волка соскочила с бандитского знамени Шкуро и клыками вонзилась в ребро Анджиевского. И пока он бил эту голову, из пасти которой вырывался огонь, Шкуро с бандитами скрылся за мелькающей стеной пурги.
– В Тифлисе меньшевики и англичане, Купцов, – сказал Анджиевский, – выставь у повозки Ленина караул. Мы не отдадим Ленина. Будем биться! Будем биться!
– Пойдем, ляжешь! – сердито сказал Купцов, схватил Анджиевского под локоть и потащил к повозке. Красноармейцы расступились перед ними. Купцов взвалил Анджиевского на повозку.
Всю дорогу Анджиевский бредил Москвой, Лениным, Грузией и Анной. Тиф жестоко мучил его.
Очнулся он в небольшой, опрятно убранной комнате. На стене вишнево-яркий коврик; перламутровый веер висел на беленой стенке, как бабочка. Неяркое, жидкое солнце вливалось в окно. Пришел Купцов в бурке и кавказских сапогах, заулыбался, сел к постели и стал рассказывать. Красноармейцы интернированы «республикой». Анджиевского удалось скрыть. Купцов служит сторожем в винном складе. Есть связь с подпольем Батума и Баку. Как только Анджиевский поправится, они поедут в Баку.
Анджиевский долго лежал молча, вдруг понял, что здоров, и засмеялся. Он спустил ноги с кровати. На него жалко смотреть: желтое лицо, отросшие волосы достают до губ, ноги и руки дрожат. Но он уже знал, что болезнь сломлена.
– Экий ты орел! – сказал Купцов, глядя на него.
– Не слышно ли чего об Анне? – спросил Анджиевский.
– Анна вчера приехала в Тифлис.
Глава шестая
Когда начали ходить поезда, Анна поехала во Владикавказ, предполагая, что через подпольщиков узнает об Анджиевском.
Владикавказ встретил ее тюрьмой.
Били.
Осколок неба в окне, перехваченном решеткой.
Тоска по ребенку.
В камеру часто входил часовой, зверски кричал:
– Ходи в расход!
Ночью у тюремных ворот этот часовой сказал Анне:
– Я – свой. Подальше бежи, товарищ Анджиевская.
Она поехала в Тифлис, думая, что Анджиевский там.
Долины, горы и бездны Военно-Грузинской дороги шли ей навстречу. На скале сидел серебряный кондор. В Тифлисе Анну ждал Анджиевский.
Он сказал:
– Осторожней, Анна, ты в подполье.
Она ответила:
– Понимаю, Гриша.
Он спросил:
– Где дочка?
Она рассказала. Глядя на его вздрагивающие плечи, Анна заплакала. Плакала тяжело, потому что знала: этих слез не выплакать.
Партия направила их в Баку. Там они сняли комнатку неподалеку от базара, у сапожника, полуподвальную. Сиреневые пятна сырости лежали на стенах. Было темно. В целях конспирации Анна одевалась мещаночкой. Она делала вид, что ей скучно, что она ищет интересных знакомств. На базаре она купила себе фетровую шляпку с шелковыми васильками.
Море – в нефтяных лужах – было очень грязное.
Английский моряк гулял по набережной и, не владея ни персидским, ни греческим, ни русским языками, улыбался встречным, как радушный хозяин.
Завидев Анну и ее шляпку с васильками, он подошел.
Он спросил Анну:
– Тюрк?
Она ответила:
– Нет.
Он ее спросил:
– Перс?
Она ответила:
– Нет.
Он ее спросил:
– Коммунист?
Она ответила:
– Я вас не понимаю.
Этой фразы он тоже не понял и повторил за ней, как попугай: «Непо-на-ю». Потом он вынул из кармана бриджей бумажник, сделанный из молодой ланкаширской свинки. Там у него было очень много прекрасных на ощупь, пленительных на глаз, белых и будто накрахмаленных бумажек.
Анна взяла одну, сделала вид, что она – скучающая мещаночка, что она по-женски ценит моряка и наверное придет сегодня в полночь на набережную.
Он был очень счастлив и долго кланялся ей.
Анна принесла билет Анджиевскому и сказала:
– Это в партийную кассу.
Он спросил:
– Откуда?
Сказал:
– Порви и брось в помойку. Эти самые бумажки уж лучше мы будем брать винтовками, а не так. – Подумал и посоветовал – Ты на свидание это пойди, Анна. Попробуй узнать, так ли уж они, матросы, довольны капитализмом.
Этому матросу начальство дало недельный отпуск, и он все время думал, что горячо и страстно любит Анну. Ему нравилось то, что Анна недоступна, несговорчива, это ему напоминало его жену, которая в девушках тоже была несговорчива. Он тратил свои накрахмаленные бумажки на все прихоти Анны, которые сам за нее выдумывал. Он покупал ей открытки с сочными видами на очень красивые горы и на очень глубокие озера. Так как он не владел местными языками, то эти открытки обходились ему дорого, но это ему нравилось.
Никакой другой красоты, кроме открыток, в Баку не было.
Город этот – черный и страшный. Он – плоский, и у домов европейской части плоские крыши. Эта часть называется Белым городом, хотя все дома желтые. Между Захским и Баиловским мысами опустошительно и гадко летали норды. За Белым городом распространился Черный город: городьба тартальных и насосных вышек, заводы, вырабатывающие из нефти мазут, парафин и машинное масло. Черный город посыпал Белый город черной бакинской пылью. Нигде в Баку не росло зелени. Возле нефти, добывая ее для промышленников, жила грандиозная армия батраков, поденщиков труда. Были здесь коричневые персы, черные тюрки, рязанские мужики, узбеки, греки с гортанными голосами и татары с медленных вод Волги и Оки. К этому черному огню, бьющему из земли, стекалась всеобщая всероссийская сила, чтобы кормиться от него. Сила была дешева, земли, родящие огонь, неистощимы, и поэтому к Апшеронскому полуострову подошли англичане.
Английский матрос нанял ялик, смахнул с лавочки черную пыль и попросил Анну садиться. Он произнес какую-то длинную речь, после чего снял куртку и тельник, положил их на дно ялика и, любуясь своим тренированным телом, налег на весла. Он раскачивался, гребя, его светлые волосы вспотели; вспотели его крепкие плечи; хороший запах мужского пота, хлынул Анне в лицо. У этого парня был нос, как у ястреба, глаза цвета лиловой сирени и мягкие, совсем не мужские губы.
На груди у него не росли волосы, и соски были розовые, как у девушки.
Он начал петь – неприятно и отрывисто, будто лаял. Так как он был влюблен в Анну, то он скоро понял, что его пение неприятно ей.
Он бросил весла и, раскачивая лодку, пошел к Анне.
Он думал, что пора обнять Анну. Но так как было не пора, то он очень огорчился своим поступком, опять сел на весла и стал виновато глядеть на Анну. «Братишка!» – вдруг сказал он и пальцем постучал в свою широкую грудь. Анна поняла, что он понимает слово «братишка» как слово «дурак», и сказала ему: «Ты не братишка, нет, нет!»
Он очень обрадовался.
Анна вынула из кармана листовку, написанную по-английски, и протянула ему. Он бросил весла, стал читать. Потом он положил прокламацию в карман. Провел пальцем по шее. Этим он показывал Анне, что за такие дела вешают.
Берег плыл мимо. На берегу плыл хансарай Ширваншахов, его две мечети, его дикой красоты архитектура, рожденная Азией. И на берегу, и в море свистели норды. В свете зимнего неба сияла на волнах радужная нефть. Желтые горы сошлись мертвым кругом. Матрас бросил весла, наклонился за борт, стал глядеть в воду. Анна тоже наклонилась и стала глядеть. Под водой виден был город, поглощенный морем.
Там в рассчитанном порядке шли улицы.
Там видны были крыши домов. Там потонула целая эпоха.
Матрос повернул к Анне лицо и пощелкал языком: «Вот, – наверное, подумал он, – вот это трюк!» Она показала ему на его карман. Он вынул листовку. Она нашла там слово «капиталисты» и показала вниз, на затопленный город. Матрос принялся хохотать и вдруг оборвал смех. Как-то по-новому он посмотрел на Анну, взялся за весла и стал грести к берегу. Когда причалили, он вышел первым и даже не протянул Анне руку, чтобы помочь ей выйти. Он смотрел на нее широко, во весь сиреневый простор своих глаз. Она протянула ему руку. Он пожал ее так сильно, словно ломал стакан. Онемевшей кистью она помахала в воздухе. Ни он, ни она не улыбнулись.
В той типографии, где Анджиевский работал наборщиком, большевики выпускали нелегальную газету. Эту газету набирали ночью, и однажды Анджиевский, вернувшись домой уже к утру, увидел, что Анна не спит, что у нее сидит гость. Гнездилин! Это был Гнездилин, оставленный в Пятигорске, чтобы вести подпольную работу.
– Почему приехал? – спросил Анджиевский.
Он очень обрадовался товарищу. Анна была в слезах: Гнездилин рассказал, что в Пятигорске видел Ваню, но о девочке не спросил его. Гнездилин был хмурый, глаза его запали: было похоже, что он с похмелья. Он сказал, что надо в конце-то концов немножко рассеяться. Он пригласил Анджиевских в кино «Рекорд» смотреть картину о казни негров по закону Линча. Анджиевский согласился пойти, потому что Анна очень убивалась по девочке и потому что рад был побыть с Гнездилиным.
К подъезду кино подошла машина. Два английских офицера вежливо арестовали Анджиевских.
Гнездилин замешкался в толпе. И по тому, как он в ней замешкался, Анна поняла, что он – сволочь.
Английский офицер сидел между ней и Анджиевским. Он был совершенно равнодушен к тому, что делал, и смотрел на арестованных, как на пачки галет, которые ему поручено доставить в полк и за целость которых он отвечает. Анна пыталась заговорить с мужем. Не меняя выражения скучающих глаз, офицер вытягивал руку и поводил пальцем: «Запрещается».
У дверей штаба караул несла морская пехота. В двери сначала провели Анджиевского, потом Анну. Знакомый моряк держал на отвесе короткий морской карабин. Глаза у него были равнодушные, как стекло.
– Меня поймали, – сказала Анна проходя.
Он повернул в ее сторону зрачки.
В глубине коридора послышался голос Анджиевского:
– Никто не может разлучить меня с женой!
Резко захлопнулась дверь. Голос Анджиевского какое-то время жил в ушах Анны. И уже навеки он остался жить в ее душе. У нее было такое чувство, что она больше никогда не увидит Анджиевского. Чувство это было настолько остро и гневно, что она начала кричать и биться в чьих-то вежливых, но настойчивых руках. Она очутилась в комнате, такой чистой, что все в ней блестело: пол, стены, потолок и диван. Анна была раздетая. Дрожа и стыдясь наготы, она стояла у стенки. Сухопарая, немолодая, некрасивая женщина сидела на диване и бритвой пилила каблук на Аннином туфле. Каблук отскочил, упал на чистый пол. Некрасивая женщина вздохнула и глазами показала Анне, что, к их общему удовольствию, ничего не нашлось.
Анна забыла о своей наготе, подошла к женщине и швырнула ей в лицо:
– Гадина! Гадина!
Сила ее слов была так велика, что англичанка поняла их смысл.
Испуганно и побито она посмотрела на Анну, резко закачала головой: «Нет! Нет!»
Анна села на диван, обняла женщину, сказала ей: «Ты же невольница, невольница, протестуй! Моя сестра… ты протестуй, ты борись!» Женщина закивала головой, со страхом взглянула на дверь. В дверь стучались. Женщина кинулась к двери и не впускала мужчин до тех пор, пока Анна одевалась. Этим она показала Анне, что поняла ее слова и что эти слова, наверное, хорошие.
Когда вошли чиновники, чтобы отвести Анну в заключение, женщина жарко говорила им, что у этой большевички ничего не нашлось. Лица чиновников оставались бесстрастными.
Когда Анну выводили, женщина сказала ей слово, похожее на слово «сестра».
«Систер, – подумала Анна, – систер… сестра!»
Ночью Анну перевезли в тюрьму, она сидела в одиночке. Она думала только о том, чтобы за бездоказанностью выйти на волю и всеми средствами освободить Анджиевского. Она крепко спала ночью. Ей пригодятся силы. Ей думалось, интервенция уже не страшна: ведь кого ни коснись – матроса или штабной женщины, – везде систер, систер… сестра и, наверное, брат, а как по-ихнему «брат»? И ведь есть такое покрывающее, как шапка, теплое, стальное, горячее, железное, братское, сестрино, вечное-вечное слово – товарищ. Товарищ, ты, английский моряк, родной ты мой парень, охраняющий с карабином двери английского генерального штаба! Штабная ты тюремщица, дурашка, систер, систер, сестра! Ведь чуть-чуть выпрямиться бы вам, и вместо этой моей тюрьмы, вместо вашей постылой тюрьмы – будет воля, будет наш, пролетарский простор!
Спустя пять недель Анну вызвали в тюремную контору. Ночь. В конторе русский полицмейстер города Баку.
– Ну, девочка, довольно тебе занимать комнату. Улик против тебя, к сожалению, нет.
На подбородке у него торчала бородавка. Из бородавки рос волосок.
Анна поняла, что он служит с удовольствием.
– Можно идти? – спросила она.
– Именно для этого вас и побеспокоили. На дворе ночь. Пойдет с тобой, сволочь, конвойный, у него есть шпалер.
Анна села на скамейку.
– Ну? – спросил полицмейстер.
Анна спросила:
– Какой системы у него шпалер? Кольт, наган или вессон?
– А тебе, раздроби тебя, не все равно?
– От нагана, я слышала, смерть веселей.
Он положил свои белые руки на стол, поглядел на них. Взял телефонную трубку, пошипел в нее, назвал номер, стал говорить:
– Коля! Разбудил? Не сердись, Коля. Вот сейчас я выпустил большевистскую маруху. Девчонка. Годна только для постели. Да ну ее к черту! Постой, постой! Четверть пятого. Слушай, я беру машину, поедем в Черный город, возьмем там парочку красных.
– Вы свободны, – сказал он Анне, вставая из-за стола. Анна вышла из тюрьмы. У самой тюрьмы лежало море.
Где-то у горизонта рыболовы, видать, бросили в море спичку, и нефть объявшая море, горела. Зарево было прозрачно и тихо. Анна дошла до своей конуры. На столе записка:
«Анна! Англичане выдали А. белым. Белые увезли его в Пятигорск и там повесили».
Она легла на нары, язык и ноги отнялись у нее.
Когда она поправилась, комитет послал ее на Дербентский фронт.