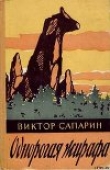Текст книги "Таврические дни (Повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
АНДЖИЕВСКИЙ
Глава первая
– Я лягу, – сказала Анна, стиснув зубы.
– Ложись, ложись. – Ваня поднял подушку, взбил ее (полетели желтые перья) и бросил в изголовье постели. Обняв сестру за теплые, тоскливо опавшие плечи, он отвел ее на кровать. Анна легла, вытянулась, коса ее свалилась на пол; полосатый котенок схватил косу за красную ленточку. Боль стала широкой, большой, немилостивой. Веселое тело, которому было едва восемнадцать, взбросилось на постели.
Ваня кинулся к телефону, чтобы вызвать Анджиевского. Но в телефон уже звонили из Ревтрибунала.
– Давай сюда Анджиевскую! – кричал товарищ Сысой. – Фальшивомонетчики принесли повинную. Давай сюда Анну – нужно заседать!
– Что ты ее требуешь? Она сейчас будет родить.
– Не дури, не дури! Не время.
Он не поверил и прибежал сам. Покручивая табачный ус, смущенно и громоздко топтался в темной прихожей и стучал сапогами. Анна, девчонка: длинные косы, в косах цветные ленточки – кто ж мог знать! И живота не было.
Котенок пискнул под его сапогом. Сысой нагнулся, взял котенка в руки: «Молчи, пискун!»
В комнате, у постели, подтянув шевиотовые брюки, сидел врач (лучший в Пятигорске). Складки его сытой шеи перевалились через крахмальный воротничок. Спиной к Сысою и лицом к окну развалился на стуле Анджиевский: прибежал из Совета. Полы его шинели, забрызганные грязью, лежали на полу.
– Процесс протекает нормально, – врач повернул к Анджиевскому моложавое лицо. – Юный организм роженицы надежен, я не предвижу осложнений. Роды, по всем признакам, наступят сегодня к вечеру. Неужели у вас в доме нет женщин, товарищ Анджиевский?
Он повертел на мизинце кольцо с бирюзой.
– Женщин найдем, – ответил Анджиевский.
– Мальчика – это ее брат? – лучше всего отослать куда-нибудь. Вы, товарищ Анджиевский, насколько я пони-маю, заняты в Совете день и ночь. Обязательно, обязательно нужны женские руки.
– Женщины будут, – повторил Анджиевский.
– К вечеру я приеду. – Врач начал собираться. Держа в руках желтый саквояж, он прошел мимо Сысоя и обдал его запахом «Шипра». Не по осанистому его торсу, не по седеющим усикам, а именно по распутному, лукавому запаху «Шипра» Сысой вспомнил, что врача этого он и Анна судили в Ревтрибунале за отказ посещать неимущих больных. Судили и присудили к тысячной контрибуции.
Сысой надумал было войти к комнату, где длинно и горько стонала Анна, но постеснялся. Анджиевский сейчас же послал Ваню в Совет за женщинами. Ваня ветром пронесся мимо Сысоя. Анджиевский ходил по комнате, исподлобья взглядывая на жену. Его широкие губы были надуты, длинные волосы выбивались из-под солдатской фуражки и висели на лбу и на ушах. Зазвонил телефон. Анджиевский зажал звонок ладонью, через плечо испуганно посмотрел на Анну. Сысой опустил котенка на пол и, вздохнув, вышел на улицу.
– Анна! – окликнул Анджиевский, стоя у телефона.
Она не ответила. Губы ее приоткрылись, обнажив сочные, молодые десны. Голубая бледность проступила на длинных висках, на тугом подбородке. На платье, стянувшем грудь, как живые, шевелились турецкие цветы. Любимая! Опять под ладонью зажужжал телефон.
– Возьми трубку, – сквозь зубы сказала Анна, – нельзя же так.
Он взял трубку. Звали в Совет. У Совета собрались тысячи ополченцев, вернувшихся с фронта, требовали оружия.
– Иди, – сказала Анна.
Анджиевский надвинул картуз на лоб. В дверях остановился.
– Нельзя ж тебя… одну.
Она повернула к нему глаза, потемневшие от боли. В глазах качалась, плыла комната. Анджиевский был далек, недостижим, обнят и скрыт белой пеленой. «Останься», – сказала или подумала она. Ее вскинула большая боль, какой не одолеть, не пережить, – и вдруг отпустила.
Стало хорошо. После этих сокрушительных страданий Анна почувствовала себя центром жизни, и на нее, как ласковая вода, изливались тишина, блаженство и покой. Ручьи кровавого солнца струились по металлической спинке кровати. Анджиевского не было в комнате. У постели молча сидели товарищи из профсоюза: Маша и Александра Ивановна.
– Где Анджиевский? – спросила Анна.
Александра Ивановна ответила, наклоняясь над ней:
– Ничего, ничего. Сына ему родишь. Или дочь. Одним большевиком на земле станет больше.
Дочь родилась на рассвете.
Глава вторая
День. За окном ветер. Голые сучья каштана позолочены солнцем. Блестящее, как лед, холодное небо. По мощеному двору ветер с грохотом гоняет пустую банку из-под компота. На Бештау снег. Ребенок у груди, сладкая боль соска, счастливая тишина тела. На столе тугие от крахмала рубахи Анджиевского: принесли из пошивочной, где женщины день и ночь шьют рубахи для отрядов. Красное горячее тельце сопит у груди. У него руки, ноги, спина, голова с пучком темных волос и пятки, и локотки – все настоящее!
– Ты не думай, – говорила Анна Анджиевскому, – она не помешает. Теперь мы сильнее: нас трое.
Он смеялся. Руки его были теплы. В нем было новое, с чем он сам не мог справиться, – нежность, что ли, или как там это назвать?
– Я для тебя ее родила, Григорий.
– Не иначе, как для революции. Крестной маткой революцию позовем. Гляди, как орет: пламенным агитатором будет… Подвезло дочке. Мы землю вскапываем и поливаем кровью, а она спелые ягодки будет есть.
Григорий уходил, и все же это его новое – нежность, что ли? – оставалось с ней весь день. На стене – его фотография в рамке, засеянной мелкими черноморскими ракушками. Снялся боевито: в незастегнутой шинели, в солдатской фуражке, облокотился на бутафорскую колонку, сдвинул ее. Через распахнутые полы шинели видны парадно начищенные сапоги. Губы сжал. Глаза прокалывают мир, как штыки. Вон он какой, муж, отец, комиссар, председатель исполкома, Анджиевский!
В условленные часы приходила Александра Ивановна, кипятила на керосинке воду, гремела тазиком, глядела карими своими глазами и добро, и сердито.
Анна закрывала глаза, чтобы не расплескать своей ясной радости. По-новому сильно она любила Анджиевского.
И откуда взялся такой?
В февральские дни Анна была в Цветнике на митинге. По сырым и вязким дорожкам к открытой эстраде валила толпа. Красные флаги, привязанные к павильонам и деревьям, щелкали на свежем ветру. На скамьях, вперемежку, тесно сидели интеллигентные барыни под цветными вуальками, солдаты, купцы, садоводы и базарные попрошайки. Интеллигентные люди приподнимали шляпы и рекомендовались друг другу: «Я социалист-революционер. С кем имею честь?» – «Партии народной свободы, если позволите». Один хмурый солдат, только что из госпиталя, с завязанной шеей, на которой криво сидела бледная сливоподобная голова, сказал: «Мы за то самое, чтоб поболе земли было под сохой». – «И земля будет, и все будет! – восторженно закричала гимназистка с замшевыми глазами. – И все будет обязательно, непременно!»
В гулкой утробе раковины, у беленького ресторанного столика, один оратор сменял другого. Ораторов было так много, что они стали в очередь, которая привычным по военному времени завитком протянулась по эстраде. Оглушительным барабаном бухало слово «свобода» – оттуда, где в курортные летние вечера над звоном смычков, над воркованием арф, над глухим кашлем фаготов модные дирижеры, стуча манжетами, вели изменчивые течения симфоний.
Скопление людей подхватывало это слово – «свобода», и оно летало из рук в руки, как мяч. Потом все чаще ораторы стали выкрикивать: «Война!», «До последнего патрона в сумке свободного солдата!», «До последнего свободного мужчины в пределах обновленного отечества!», «До последнего биения свободного сердца!»
Анна увидела, как солдат оттолкнул оратора, и от резкого движения с него слетела фуражка.
У солдата было зеленое госпитальное лицо, большие малокровные уши.
Он закричал: «Долой войну, дойную корову капиталистов!» Больничный бурый халат распахнулся. «Не отдавайте свободы, солдаты, – кричал солдат, – пора кончать войну!»
Он изгибался и крутился на месте и вдруг вспыхнул огнем гнева. Слушать его было почти страшно. Анна опустила глаза. Она услышала, как стучит ее сердце. «Долой демагога! – кричали в публике. – Пихайте его вон, это большевик!» Склоняясь к самым коленям Анны, кашлял и задыхался опрятный старик с выпуклыми, как у овцы, глазами. Он обрызгал белой слюной юбку Анны и прохрипел, глядя на нее выгоревшими бледными глазами, полными слез: «Шпион немецкого генерального штаба!» Надушенным шелковым платочком он вытер слюну с колен Анны, и ей показалось, что дрожащие ручки его похотливы.
Она отодвинулась от него, спросила соседа:
– Кто этот солдат?
– Анджиевский.
Она сказала себе, что он ей неприятен. Вертится. Вскидывает руки. Весь выдуманный, и речь выдуманная, ненатуральная. Все же она захотела поговорить с ним. Она стояла у выхода из Цветника, под высоким деревянным грибом, набухшим от дождей и пахнущим, как дупло. Знакомый товарищ привел Анджиевского.
– Я – Анджиевский, – приветливо сказал он. – Здравствуйте, барышня!
Анна смутилась и проговорила тихо:
– Я хотела… Вы жжете словами… Понимаете? Чувствуешь только боль, и уже нельзя следить за мыслью.
Он прямо и заинтересованно посмотрел на нее.
Сказал очень просто:
– Если бы вам пережить столько… этих ожогов, вы не почувствовали бы…
Теперь от этого человека, который был страшен и прост, жесток и нежен, у нее был ребенок. Вместе с партией Анджиевского она брала в Пятигорске власть – все знали большевичку Анну, девушку с толстыми косами, – она разгоняла соглашательские профсоюзы, собирала женщин и судила в Ревтрибунале спекулянтов, контрреволюционеров и разведчиков белой армии.
В августе спелое солнце стояло над живородящей землей. Станичники, молокане и баптисты с хуторов везли в город зеленый и черный виноград, в городе пахло дынями, под ножами скрипели тугие арбузы.
В августе к Пятигорску гнал белые казачьи лавы Шкуро.
Фронт прошел за Скачками. Коммунисты и члены профсоюзов пошли на фронт. Анна пошла с коммунистическим отрядом, в санитарной группе. Идти было легко, спелое солнце взбиралось в зенит, перегоревшими душными травами пахла земля.
От Скачек спустились в низину, шли через ручьи, вода была студеная, звенела о камешки. Началась топь. Со стороны кустарников застучали первые выстрелы, и отряд залег в цепь. Впервые Анна услышала пение пуль и влажные шлепки их по тонкой земле.
Противника не было видно.
Цепь поднялась и побежала к кустарникам. Анна увидела Анджиевского, который бежал впереди и хозяйственно оглядывался на товарищей.
Ей не было страшно за него, как будто он был бессмертный.
У кустарников цепь залегла, и Анна больше не видела Анджиевского в этот день. На шинели, волоком по земле, притащили первого раненого. Анна стала бинтовать его шею, но вдруг села на землю, лицо ее стало светлым. В ней сильно пошевелился ребенок.
– Перевязывай, что ли! – злобно сказал боец.
Она перевязала ему шею, он посидел, покурил и пополз на позицию.
Вялый и ленивый бой продолжался до вечера – казаки не выходили из кустарников.
Солнце упало за широкую спину Бештау.
Рыжая долина, полная бурьяна, стала дымить туманом.
Санитарная группа работала в сплошных зарослях тамариска. В них уже синел вечер.
На подводах к позициям подвезли снаряды. Ударили орудия. К ночи бой сделался жарким. Со стороны казаков, рассекая небо малиновой шашкой, взвилась и лопнула ракета.
Раненых подносили все чаще.
Руки Анны, выпачканные в крови, казались черными.
Фельдшер, усталый, больной человек, держа в руках скатанный бинт, сказал Анне на ухо, что товарищ Анисимов, командир отряда, убит и что отрядом командует Анджиевский. Анне стало тепло при имени мужа, как-то уверенно, будто в самом воздухе она поймала дуновение знакомой воли Григория. Теперь она не только верила, но знала, что Шкуро будет отбит.
Ночью тот же фельдшер шепнул ей, что партийный комитет срочно вызвал Анджиевского в Пятигорск.
Ей показалось, что казаки стали стрелять чаще и настойчивее.
Ночь проходила в жаркой болтовне пулеметов, иногда сочно били орудия. Начало светать. Листья тамариска осеребрились, потянул ветер, густой и с зимними льдинками.
На рассвете Анджиевский прислал за Анной красноармейца с категорическим приказом вернуться в Пятигорск. Извозчик вез ее резво, оглядывался на выстрелы и крестился.
Анну поразили тела красноармейцев, лежащие на панелях, вдоль домов. Это были сыпнотифозные, которым в госпиталях недоставало места.
На душе у нее было смутно и тяжело. Ей думалось, что Григория уже нет на свете, что он убит, что ее обманывают, и она – вдова, и плод, что зреет в ней, еще не рожденный, уже сирота.
В партийном комитете, на скамье, в мокрых штанах и рубахе дрожал от холода Анджиевский. Она прижала руку к его лбу: болен – по пояс в воде руководил боем. Глаза его блестели, будто очки были на нем. На его щеке и на подбородке подсохла грязь.
Он сказал неистово:
– Ты не имеешь права быть там! Ты носишь ребенка!
Вот какой подарок, вот какой непокупной подарок приготовил он ей! Не сдержавшись, она заплакала от счастья. Он думал о ребенке даже в эти пулеметные дни!
Анджиевский сбросил с плеч тяжелые руки жены.
– Ты же болен, – сказала она ему.
Он ничего не ответил, ударом ладони распахнул окно и выплюнул мокроту.
Он уехал на позиции.
Бой длился несколько дней. Из комитета уходили на фронт рабочие дружины.
После упорных атак красных Шкуро дрогнул: как подбитая собака, пополз на юг, отлаиваясь свинцом.
Фронт откатился к Боргустану.
Глава третья
К январю выяснилось, что Пятигорск обречен. Оборвалась связь с центром через Святой Крест. В районе Ставрополя показались передовые отряды белых, наступающих с востока. На виду у наших постов ледяными ночами они жгли костры и с бахвальством пели песни. Уже по одному этому можно было понять, что они чувствуют за собой силу, опьянены и раззадорены погромами станиц и удачными для них боями. Пятигорск запрудили обозы беженцев; старики, женщины и дети валялись на мерзлой соломе и перегорали в тифу. Подводы стояли на улицах. Лошади падали, и ни у кого не было сил выпрячь их. Под Железной горой, в станицах, зашевелились кулаки.
У Минеральных Вод скрытая белогвардейская организация взорвала путь и завалила красный бронепоезд, отрезав дорогу на центр. Фронт замыкался в круг.
Пятого января пятигорские большевики постановили пробиваться на Владикавказ через станицу Зольскую.
В подполье оставались товарищи Карпов, Гнездилин и Башров. Остался и Сысой. Анна поцеловала его в табачные усы.
– Целуй, целуй, – сказал он добродушно, – больше их не увидишь: сбрею к чертовой матери! Прощай, народная заседательница!
Она запомнила его голубые глаза под лохматыми бровями, голос, севший от перекура, и стук его грязных сапог.
В пять часов вечера, еще слабую после родов, Анджиевский посадил Анну в фаэтон; она держала на руках ребенка, закутанного в одеяло; рядом с ней сел Ваня.
С неба вперемежку с дождем сыпался снег. Анджиевский укутал ноги Анны одеялом, которым они, бывало, покрывались в студеные зимние ночи. До самой Зольской тянулись степи, побитые гололедицей, пустынные и блестящие. Анна видела, насколько хватал глаз, лиловую дорогу с подмерзшими колеями и лужи, затянутые хрупким ледком. Это было страшное отступление! По всей дороге растянулись красноармейцы, бежавшие из лазаретов, горящие в тифу. Оледеневший в падении дождь валился на их спины и плечи, стегал по обнаженным головам. Они шли, согнувшись и выставив лбы и плечи против ветра, шатаясь, поддерживая друг друга, жадно глотая ледяной воздух опаленными жаром губами. Иные из них бредили, и нехорошо было видеть, как идет какой-нибудь парень, обросший бородой, с ямами вместо щек, с открытым на груди халатом, а лицо его счастливо. То здесь, то там прямо в обледенелые сугробы падали люди и оставались недвижны – ждать, когда смерть своей ледяной подошвой раздавит их. Длинный и плечистый человек стоял у обочины и пригоршнями ел снег. Он поглядел на Анну и подмигнул: он был весел. Приговоренные тифом к смерти люди шли в эти январские безысходные просторы, чтобы умереть среди своих.
Фаэтон бросало из стороны в сторону. Ребенок спал. Одеяло, которым ей укутали ноги, покрылось коркой льда.
Упала ночь. Ехали медленно, будто на ощупь. Фаэтон обгоняли люди. Иные хмуро оглядывали Анну, иные заговаривали. Долго шел рядом, придерживаясь руками за крыло, немолодой человек, русобородый, в фетровой господской шляпе и в украинской свитке. Он все приговаривал: «Что ж ты поделаешь? Нада, нада! Ничего не поделаешь!»
Анна поняла, что он бредит.
Но вдруг ясным и легким голосом он спросил:
– Сколько времени дитю?
– Шесть месяцев.
– Не так надо спасать дитя. В такие непобедимые ветра и мужчина не выстоит, а дитя свернется, как цветок. Обязательно свернется и почахнет.
Анна спросила:
– Как же мне его спасти?
Человек в свитке подумал (в лад шагу рвалось его дыхание), потом с убеждением сказал:
– А так надо спасать. К примеру, дашь ты его мне на руки. Я пробегу сколько могу шагов и передам переднему. Он в свою очередь побежит, достигнет переднего, переложит в руки энтому. Энтот опять так же. Голова нашего похода, видать, уже в Зольской. Вот так можем спасти дитю. – Но сейчас же забыл то, о чем говорил, и перешел на другое: – Поднялся народ, чтобы землю воевать, и удержать, и обзаконить за собой. Само собой, рассуждали так: я хозяин, а все прочие – вражеские. Стали рубить и казака, и чечена, и ингуша. А ингуш тоже думает про себя: я хозяин, а все прочие – вражеские. Стал он рубить и казака, и чечена, и меня, пришлого на эти земли. Потом революционные люди разъяснили, что тот чеченский народ не цельный, а дробится на богача и на обездоленного неимника. И есть нам неимники всех народов – друзья-товарищи, а враги – так это исключительно кровососы всех народов. Однако пока недоумение разъяснилось, сколько неимников побило друг дружку? Тыщи. Теперь мы вместе, а той закрепленной земли мы все-таки, красавица, не увидим. Почему не увидим? Потому что помрем. Я много наблюдаю, и я про себя решил, что все мы помрем, неисчислимые бойцы революции, – кто от тифу, кто от стужи, кто от петли, кто от пули. – Он заключил неожиданно – Тебе, молодка, не жить, и мне не жить. А дитю твоему жить и радоваться.
Вскоре он отстал. Анна оглянулась. Он затерялся в темноте с такими же, как он сам, грязными, заиндевевшими, охваченными полубредом людьми.
Анна, присмирев, следила за этим ледяным исходом. Степь, черная степь, оглушенная дикими голосами ветра. Не в этих ли степях цвело ее отрочество? Не ее ль ситцевое платье мелькало в степных травах, в голубых цветах дикого льна, среди ядовито-красных чашек мака? И не ее ль босые ноги попирали эту теплую широкую землю, и не их ли полосовал острый, как нож, лиловатый шпорник? Тогда, подростком, волевая и бойкая, она вдруг любила уйти от ребят, сесть у дороги и глядеть, как мчатся через степь волосатые и бестолковые шары перекати-поля. И думалось тогда, что жизнь людей – это шары перекати-поля, что их гонит судьба незнаемо куда, незнаемо зачем и они незнаемо зачем повинуются ее вихрю.
И подумалось, что – нет! Ее-то жизнь будет особая – нет, нет! Это будет супротивная жизнь, которая, как лиловый шпорник, туго встанет над землей и не поддастся судьбе с незрячими ее глазами!
Так и вышло по ее отроческим мечтам.
Ах, трудно ехать по степям, одетым ледяной рубахой, и не шутка идти против судьбы. И счастливо, идя против судьбы, прижимать к груди ребенка, для которого поколение отдает свои жизни, как сказал этот солдат.
Но Анна очень озябла. Она дрожала от мысли, что озяб ребенок. Ваня, скребя ногтями по ледяной корке, надвинул на ребенка одеяло, вставшее коробом. Чтобы подбодрить сестру и чтобы она поверила, что он надежен, как всякий мужчина, он сказал хриплым голосом:
– Покурить бы, что ли…
А она знала, что он не курит.
В Зольскую приехали среди ночи.
Здесь верхом нагнал их Анджиевский.
Анна торопилась перепеленать ребенка, но исполком так набит бредящими и умирающими людьми, что невозможно протиснуться к столу, на котором бледно, как звезда, горела лампочка под коротким стеклом. Анджиевский сказал, чтобы Анна пошла в первую же казачью хату, которая победней, а сам пошел за подводами распорядиться, чтобы подобрали больных, упавших по дороге.
Старая по виду казачка встретила их в черной, пахнувшей морозом хате; бледный голубой свет падал от окна на ее сухо поджатые, горькие губы.
Анна положила ребенка на лежанку, спросила, нет ли дров, чтобы истопить печь.
Не отвечая ей, казачка рукой нашарила спички и зажгла висевшую на стене лампу с желтым измятым рефлектором. На казачке под темным платком надета была заношенная люстриновая кофта с пуфами на рукавах, на голове, как у девушки, – облинявшая шлычка, на ногах – мужские чирики. Опять не сказав ничего, она вышла за дверь. Ребенок заплакал. Ваня дул в занемевшие кулаки.
Казачка вернулась, принесла кочергу и цинковое корытце.
– Жалмерка я, – оказала она, подымая гордые брови, – живу по-бедному. Вот затопим печь, станем ребенка купать.
Двигалась она медленно, но ловко. Стоптанные каблуки чириков делали ее походку качливой. Ваня помог растопить печь. Тепло растеклось по хате, лаская стены. Анна легла на лавку, на овчины. Ноги и руки, отходя в тепле, начало ломить. С любовью она глядела, как ловко и сильно казачка купает ребенка; по его красной толстенькой спинке течет вода, мыльная пена хлопьями висит на плечиках.
Вернулся Анджиевский и молча прошел к печке – постав-ил на ее край сапоги. Белесоватый парок поднялся от них.
Григорий был расстроен: вероятно, много трупов везли с поля под брезентовыми палатками. И опять будто ласковый голубь сел на грудь Анны. «Нас трое, и мы живы, – думала она, – и много товарищей у нас… умирающих… живущих…»
– Бедное дитятко мое, – певуче проговорила казачка, пеленая ребенка, – везут тебя невесть куда, невесть зачем. Погибнешь ты с родителями такими.
– Ничего, крепче будет! – сказал Анджиевский от печки.
– Ты и есть Анджиевский, пятигорский комиссар? – спросила казачка.
– Я и есть Анджиевский.
– Вон ты какой!
– Хорош?
– Люди говорят: бешеный, а по виду ты – мальчишка. Люди говорят: много крови льешь, много жизней уничтожаешь. Это тебе зачем? Видать, смерть за тобой, ровно змея, ползет: куда ты, туда и она. Ты в степи, а за тобой сотни сот телег, полных смертей. Зачем это тебе?
Анджиевский скинул сапоги, руками растер пальцы в белых шерстяных носках. Тень от него тянулась по полу и по стене. Он помолчал, завороженно глядя на огонь. Анна видела: он уже не чувствует в себе тела, одна душа горит в нем. Он всегда был таким на самых лютых перекрестках жизни.
Подняв глаза на казачку, Анджиевский сказал:
– Слушай такую историю, казачка. Под самой Керчью, под рыбацким городом, жил рыбак польской национальности. Приглянулась ему девушка лет пятнадцати, еврейка. Была она из большой семьи, религиозной до изуверства. Убежала из дому, приняла православие и вышла замуж за рыбака. В православии, в новой религии, стала просто неистова: посты, говенья, исповеди, причастия; обо всем бога молит и во всем бога слушается. А бога в Керчи представительствовал поп с шелковой бородой. Карманы в его рясе, между прочим, были длинные, как мои штаны. Вскоре родилась у рыбака дочь. Рыбак с утра в море, а жена с утра – у бога в гостях. И дочь с собой берет, учит бояться, молить и слушаться бога. Кроме попа в рясе, бога представительствовали в Керчи разные божьи странницы, из тех, что с березовым посошком ходят по всей православной Руси от одного монастыря до другого. Едва девочка подросла, сбили ее странницы идти к святым местам. Пошли. Идут, ковыряют посошками пыль, поют святые песни. И говорят ей странницы: «Живи смирно, не противься злу, неси жизнь, как страдание и боль, за это в небесной жизни будешь ходить в белоснежной сорочке и бога увидишь в лицо. Главное, говорят, ничему не противься, а неси жизнь, как страдание и боль». Доходят они до Киева. Ночуют в каком-то подворье. Духота, теснота, шныряют пьяненькие монашки, пахнет черствыми просфорами и человеческой нечистотой. Ночью девушку будит главная странница, берет ее за руку и говорит: «Пойдем». Они идут. На улице подкатывает к ним мужчина, одет неопределенно, но вежливый, как студент. Странница говорит: «Иди с ним, девушка, он даст тебе страдание, которым спасешься от века и до века». Девушка с ним пошла. А он свел ее в публичный дом и продал, за сколько сумел. Она не противилась. Потом сошла с ума. Потом умерла. За всю свою жизнь, казачка, она не тронула, не убила ни одного человека – только ее трогали, ее убили. Это была моя старшая сестра.
Качая ребенка, казачка сидела возле Анны, слушала. Смущенно и строго лежали на ее лбу гордые брови.
– Еще одну историю могу рассказать, – Анджиевский встал, прислонился к печке. – В городе Темрюке проживал парнишка лет четырнадцати. Учился в городском училище, дошел до шестого класса. Не было у него ни матери, ни отца. Учился он боевито – книги глотал, как пряники, и все ему было мало. Пришлось так, что его родственникам нечего стало есть, они взяли парнишку из училища и пустили в мальчики по купцам. Вот будто глядел он в открытые окна, уже научился отличать день от ночи, солнце от луны, грязь от чистого места, пьяницу от трезвого – и вдруг загородили окна ставнями, и ничего ему не видно. Он пошел к купцу и говорит: «Уважаемый купец, скажи мне по совести: нужно учиться человеку или лучше жить слепым кутенком?» – «Тебе, – отвечает купец, – лучше жить слепым кутенком». – «А как же твой сынок, уважаемый купец, твой сынок ходит зачем-то в училище». – «Сынку лучше жить ученым». – «Скажи мне по совести, купец, – говорит парнишка, – разве не все люди сделаны из одного тела и из одних костей?» – «Тело у людей, может, одинаковое, – отвечает купец, – а на вид люди различаются: один в поддевке ходит из тонкого сукна, как я, купец, а другие в латаной рубахе с дядькиного плеча, как ты, лавочный мальчик». – «А что, – спрашивает парнишка, – если бы нам поменяться, уважаемый купец? И как это надо сделать?» Купец отвечает: «Сделать надо так: дворник стащит тебя за шиворот в полицию, там все разъяснят, а также спросят, с какими людьми ты, сопляк, знаешься?» И в морду. И в участок. В участке тоже в морду. Стало быть, с четырнадцати лет этот парнишка потерял передние зубы и веру в совершенство жизни.
– Ты, что ли, был парнишкой-то этим? – спросила казачка, поправляя на голове шлычку с выцветшими и посекшимися шелковыми нитками. – Хорошо умеешь рассказывать, комиссар.
Анджиевский усмехнулся:
– И вот история последняя. Австрийский фронт. Окопы. Железная проволока. Ты мне говоришь, что пугаешься крови, а водопадов крови ты, казачка, не видела! Сама жалмерка, и муж на войне убит, а о реках и морях человеческой крови не раздумалась. Так вот: мальчонка, о котором сейчас рассказывал, – в окопах. Он теперь уже солдат, и, кроме того, он член большевистской партии. И кроме того, у солдата этого, который прострелен пулями, поколот штыками, отравлен газами, за спиной большая жизнь, хотя ему всего-то двадцать четыре года: знает полицейские застенки и свинцовую пыль у типографских касс, и расставание с товарищами, которых выдирали из жизни, как выдирают зубы из челюсти, и бросали в тюрьмы. И потому, что он – член партии, этот солдат не хочет помирать за тех самых людей, которые выдирают его товарищей из жизни, как зубы из десен, не хочет помирать за купцов в поддевках из тонкого сукна, за божьих странниц, торгующих девушками, за все то разнаряженное племя, которое живет-поживает в России, как в своей вотчине. И сам не хочет помирать, и солдатам, своим товарищам, не велит. Герои! Защитники отечества! Беспромашные кандидаты в царствие небесное! И вот озорной этот солдат говорит своим братьям солдатам: «Не верьте, солдаты, в царство небесное. Не верьте в басни. Этой самой ненасытной войной промышленники всего мира вскрыли вам жилы, чтобы жиреть на вашей крови. Надо остановить кровь, хлещущую из народного тела. Как остановить кровь? Средство единственное: поверните штыки – только кровью буржуазии остановите народную кровь, и нет трудящемуся народу иного пути к человеческой жизни». Ты говоришь, казачка, что я кровь и смерть люблю. Нет, я жизнь люблю, жену и ребенка, а кровь и смерть ненавижу. Но никто мне моей свободной жизни не подарит, я ее должен с бою взять и для себя, и для тебя, и для всего широкого мира трудовых людей. Вот эти самые слова говорил солдатам тот самый солдат, член большевистской партии. Тогда его увидело недремлющее око и услышало недремлющее ухо. Эти очи и эти уши везде были, ими славилась Россия. Разложили солдата перед строем и выдрали. Драли так, что мясо повисло клочьями, и до сих пор на моем теле рубцы – спроси жену, если не веришь. Ты говоришь, что везде за мной смерть тянется. Нет, казачка, не бестолковая это смерть. Этой смертью мы со своей властью навеки венчаемся…
…На заре отряд двинулся дальше, и так, в порывистых и снежных ветрах, теряя на степных дорогах людей, дошел до станции Прохладная, где и погрузился в теплушки.
Владикавказ встретил Анну, как новая большевистская – родина. С утра до ночи в гостинице «Националь», где Анджиевские стали жить, толпились пятигорские и владикавказские большевики, и дыхание гражданской войны носилось по ее замызганным коридорам.
Революция ходила под винтовкой.
В Народном доме митинги. Тысячные толпы, несмотря на ярый мороз, часами выстаивали на улице. Шипели костры, в глазах людей светился огонь. В расщелине улицы видна Столовая гора, осыпанная сверкающим снегом. Анна окрепла, чувствовала в себе силу здоровой юности. Ночью она вставала к ребенку, чтобы кормить. Сквозь мохнатые от мороза окна светились костры, разложенные на улицах. Багряные перья их отсветов летали по голубым полям оледеневших стекол. Люди не дремали. Революция ходила под винтовкой. «Слу-ша-ай врага!» – кричали на постах ее часовые.