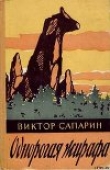Текст книги "Таврические дни (Повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Глава девятая
В военно-полевой суд, на Крайнюю улицу, Анджиевского повезли около трех часов пополудни. Ваня замешкался в толпе, собравшейся у Цветника. Под мелким осенним дождем блестели крыши. На Машуке висела брюхатая грозная туча. Дамы раскрыли над головами шелковые зонтики. Пахло духами, сигарным дымом и жареными пирожками из кофейни в Цветнике. Девушка в сиреневом пальто, в сиреневой маленькой шляпке пальцами сдавила Ване плечо и, приподнявшись на носках, вытянула над его головой свежую, тепло пульсирующую шею.
Она все спрашивала счастливым голосом:
– Везут? Везут?
Впереди Вани, занеся за спину толстую трость и опираясь на нее, стоял толстый человек с отекшим лицом, с седыми височками. На его панаму с каштана лилась вода, и панама звенела, как таз. Дама с вдумчивым лицом слушала его и, морщась, сосала горькую пилюльку от кашля.
– Везут? Везут? – спрашивала девушка в сиреневом, все крепче сжимая тоненькие пальчики на плече Вани.
Он взбросил плечо, скинул ее руку. Она недобрыми глазами посмотрела на него. От дождя ее напудренный подбородок сделался полосатым. Она строго сказала Ване:
– Мальчик, ты невежлив!
В это время с края толпы закричали: «Везут!» Толпа пришла в движение, Ваня нагнулся и, пролезши под локтем толстого человека, оказался впереди. Со стороны вокзала по мокрой мостовой двигался фаэтон, окруженный конными. Лошади шли мелкой рысью, ошиненные колеса прыгали на камнях, разбрасывая грязь. Согнутый старый татарин сидел на месте кучера, опустив вожжи, и слезливо глядел на подвязанные мокрые хвосты лошадей.
Анджиевский был закован в ручные и ножные кандалы. Он был в белой рубахе, смятой и грязной, в солдатских штанах, залатанных на коленях, и без фуражки. Длинные волосы его свисали на брови, на уши и на шею. Немолодой бородатый офицер, сидевший с ним рядом, со зверской восторженностью неотрывно глядел на его руки, схваченные кольцами кандалов. Руки Анджиевский держал меж коленей. Лицо его было зелено, дрябло и грозно.
Икающий голос выкрикнул из толпы:
– Попался, коршунок!
– Тише, тише! – закричала сиреневая девушка.
Анджиевский не обернулся, и никто не увидел его глаз.
Как только фаэтон проехал, толпа кинулась вслед ему.
Бежали молча, толкались и перестали услуживать женщинам. Ваня видел перед собой ломкие, на высоких каблуках, щиколотки девушки в голубых чулках, покрытых, как оспинами, брызгами грязи. Чулок лопнул, тельная змейка побежала под юбку. Булочник с Нагорной улицы больно толкнул Ваню локтем в ухо. Из-под ног летели грязь, коричневая вода.
Женщина выпустила из рук зонт, толпа на бегу подбросила его кулаками, он, как мяч, взлетел над толпой и упал на тротуар. Во время бега определились силы: молодые и легкие оказались во главе толпы, тучные и старые отстали. Помятая старуха в черной накидке, с гордым лицом и совиным носом, бледная, как зубной порошок, сделала несколько шагов в сторону, села на ступеньку крыльца и, откинувшись на спину, по-птичьи завела зрачки глаз.
В здание суда пропускали только военных. Розовый и ясноглазый поручик, начальник караула, стоял в дверях и, выставив ладонь, говорил виновато:
– Никому! Никому! Никому!
Оттого, что на нем был новенький френч, новенькие погоны и новенькая портупея, он сам казался каким-то новеньким, будто только что рожденным во всем блеске своей свежести и обмундирования. Но толпа не разошлась и затопила улицу у здания суда. Заглядывали в дверь и в окна, за которыми выстриженные под машинку писцы сидели над делопроизводством, шевеля губами. Появились разносчики. Публика покупала пирожки в бумажных салфетках, матовый виноград и длинные душистые груши. Снова знакомые нашли знакомых. И, несмотря на то что в дверях стоял караул во главе с новеньким поручиком, каким-то неведомым путем в толпу проникало все, что говорилось в судебном зале.
– Он держится спокойно, но, прежде чем ответить, взвешивает каждое слово.
– Скажите, пожалуйста, – спокойно! На что он надеется?
– Он заявил, что белую армию всегда считал врагом, как борющуюся с Советской властью.
– Что ж, это делает ему честь.
– Не говорите бессмыслицы: честь у такого человека!
– Слышали? Он сказал, что знает об участи, ожидающей на территории Добровольческой армии каждого большевика. Это все-таки, как хотите, мужество.
– Все равно, песенка его спета!
Лиловая туча на Машуке побелела, потеряла очертания, растекалась туманом. Клубясь в кустарниках, туман все ниже сползал к подножию. Продолжал сыпать летучий мелкий дождь. Толстая рыхлая женщина с красными щеками и свиными глазками, повязанная белым платком, рассказывала разбитным голосом мелкой торговки:
– У него любовница была, молодая, с косами. Куда ее девали? Зайдешь в «Иемен» кофею купить, она там за прилавком и бесстыжими глазами все прыск да прыск. Оглашенная была девка, большевичка. Ревтрибунальшей потом сделали, моего-то Керима Петровича, дурака, на два года! Проституска. Этот злодей ей живот надул, пожалуйста, так она в суд с животом ходила, ей что! Проституска, и глаза, как у проститусок, – нежные. Я бы ее цапнула по этим по глазам за Керима Петровича, да, видно, спрятал ее куда. Или, может, в Москву уехала.
Около пяти часов, во время перерыва заседания, Анджиевского вывели на террасу, выходящую во двор. Толпа хлынула к каменной ограде. Анджиевский подошел к балюстраде, поднял голову. Глаза его глядели поверх крыш. Он застегнул ворот рубахи. В наступающих сумерках резко блестели обнаженные шашки конвойных. Носом Анджиевский потянул воздух, его толстые ноздри расширились. Ваню прижали к железным брусьям ворот, ему показалось, что хрустнула грудная клетка.
– Не напирай! – крикнул он злобно.
Злость была так сильна в нем, что казалось, она растет и он растет вместе с ней. Вот сейчас он развернет плечи и стряхнет с себя всю эту мокрую, потную, разожженную любопытством сволочь. На его крик Анджиевский повернул голову и внимательно, исподлобья поглядел на ворота. Сердце Вани вдруг зацвело, расширилось, на скуле затрепетали и забились жилки.
Но Анджиевский не узнал Ваню, повернулся и, звеня кандалами, пошел в дверь. Деревянными куклами двинулись за ним конвойные.
Толпа отхлынула к подъезду. Ваня опустился на колени и свалился у ворот, лицом в тротуар, покрытый жидкой пленкой грязи. Ему показалось, что он стал пустой, как выпитая бутылка.
Чей-то бас проскрипел над ним:
– А, ей-богу! Детей бы не след водить на такие зрелища!
Ваня полежал на тротуаре, потом встал и пошел к подъезду. Было уже совсем темно, разговоры в утомленной толпе стихли, дождь барабанил по наличникам окон и по зонтикам.
Сиреневая девушка дремала, согнувшись на крыльце, подперев кулачком подбородок. Ее длинные ресницы чуть вздрагивали. В семь часов двадцать минут был вынесен приговор. «Зачитайте приговор!» – крикнули из толпы. Офицер щелкнул каблуками и ушел в глубь здания. Толпа, ожив, тесно насела на подъезд. Вскоре офицер вернулся в сопровождении полковника, ветхого, седого, словно чем-то на всю жизнь напуганного. Над подъездом ярко вспыхнула лампочка. Полковник вынул из портфеля копию приговора и, став во фронт, поводя красной, пупырчатой, как у индюка, шеей, бумажным голосом прочитал:
– «Тысяча девятьсот девятнадцатого года, августа тридцатого дня нового стиля, военно-полевой суд пятигорского гарнизона в составе председателя, начальника штаба восьмой пехотной дивизии, генерального штаба полковника Дорофеева, членов: командира первого батальона Апшеронского пехотного полка полковника Белявского и старшего адъютанта штаба 8-й пехотной дивизии поручика Александрова рассмотрел дело о Григории Григорьевиче Анджиевском, преданном суду… Рассмотрев обстоятельства дела, имеющиеся в деле документальные данные и собственное признание подсудимого, суд признал его виновным в том, что он: 1) состоял председателем пятигорской партии большевиков-коммунистов, произносил речи, призывая к беспощадной борьбе с силой, борющейся против Советской власти, разумея под этой силой добровольческую армию; 2) состоял председателем Пятигорского Совета солдатских и рабочих депутатов; 3) произносил речи, призывая к террору и вооруженной борьбе против Добровольческой армии; 4) проводил в жизнь декреты центральной власти о социализации; 5) состоял чрезвычайным военным комиссаром около двух недель…»
Из толпы базарные торговки закричали:
– Сам расстреливал!
– Сам обыски производил!
Полковник сморщился, белые складки его лица сошлись к глазам и рту, он покосился на караульного офицера. Бумага дрожала в его старческих пальцах. Офицер снова вытянул руку, сказал громко:
– При оглашении приговора попрошу соблюдать тишину. В противном случае оглашение приговора будет прекращено.
Полковник оглядел толпу из-под козырька и покачал головой: ай, мол, ай, нехорошо-то как! Выждав тишину, он набрал воздуха в грудь (ордена, кресты на цветных ленточках поползли под его подбородок) и стал читать:
– «…обвинение же его, что он был главным зачинщиком расстрела в городе Пятигорске заложников, что он производил обыски и грабежи, что он, Анджиевский, состоял в сухумской организации в партии большевиков, военно-полевой суд признал недоказанным… На основании вышеизложенного военно-полевой суд постановил: крестьянина Харьковской губернии, Богодуховского уезда, Григория Григорьевича Анджиевского, лишив всех прав состояния и воинского звания, подвергнуть смертной казни через повешение».
Глава десятая
С вечера по городу расползлись слухи о том, что Анджиевский будет повешен на Базарной площади, возле палатки мер и весов. Обессиленный, Ваня дотащился до Порываева, но мастерская оказалась пустой; лубки, шила, дратва были раскиданы по полу. Множество ног оставили здесь следы. Ваня понял, что Порываев взят, и, не отдохнув, опять поплелся в город. Сапоги промокли, он чувствовал, как холодная вода перекатывается по его пальцам. Он пошел по полотну. Мимо него пронесся поезд без огней, шли платформы, нагруженные орудиями. Одетые в чехлы, они на тусклом фоне неба неслись из темноты в темноту, поезд был длинный, орудия неслись бесконечно. Потом в самом небе потух заслезненный зеленый глаз, сыро скрежетнула проволока, зажегся красный глаз. У моста стоял часовой, и, чтобы обойти его, Ваня спрыгнул в канаву и пошел, раздвигая руками мокрый кустарник. Вдруг темное и неодолимое отчаяние охватило его. Во всем Пятигорске не было никого, кто мог бы помочь Анджиевскому, никого, кроме Вани! Ваня сел в кустарнике, рукой нащупал кирпич, всосавшийся в землю, и с трудом оторвал его. Этим кирпичом он мог бы размозжить голову солдату, стоявшему у моста. Что толку? Ведь он не мог размозжить тюремную стену, за которой сердце Анджиевского отсчитывало сейчас свои последние биения. Ваня поднял кирпич обеими руками и, что было силы, ударил себя в грудь. Ваня опрокинулся навзничь. Он закрыл глаза, дождь поливал его, и казалось, что тяжелое осеннее мокрое небо сидит на его плечах. Потом он стал думать об Анне и о том, что если она жива, то она плюнет ему в глаза за его беспомощность.
Собравшись с силами, он встал и без всякой цели побрел дальше, вышел на трамвайную линию и по ней дотащился до вокзала. В ярко освещенном буфете было очень много народу, военные сбились у стойки, они запрокидывали головы и как-то швырком глотали водку и коньяк из больших темно-зеленых рюмок. Все столики были заняты. Станичный народ, прикрывшись свитками, валялся между столиками и по углам, спал. Только потому, что на вокзале было такое множество чистого и нечистого народа, никто не стал гнать Ваню, продрогшего и вывалянного в грязи. Он присел на заплеванный пол возле могучего терца, который, разбросав руки и надув жилы на шее, спал возле столика, облепленного людьми. Люди, по виду мещане или мелкие базарные торговцы, пили пиво и курили дешевые папиросы. Разговор вели горячий, стулья под ними поскрипывали, на спящего терца валились окурки и крошки хлеба.
Высокий старик, с глазами, похожими на угольки, рассматривал пиво на свет и говорил чопорным голосом:
– В зависимости от способа – и смерть бывает разная. От расстрела смерть острая, колючая, как если бы тебя проткнуть вилкой, и ты отдаешь дух без всяких видений и сразу. От яду, обратно, очень веселая смерть, вот как если дуром напьешься спирту, и помираешь ты от яду бойко, резво, как на тройке въезжаешь в царствие небесное. При утоплении, заметьте, концертная смерть: колокола слышишь.
Стало быть, это и есть самая православная смерть, угодная господу богу.
– Видать, бывалый ты старик, через сколькие смерти прошел, а все жив, – сказал молодой парень.
Все загоготали.
– А комиссару смерть через повешение. Это какая же смерть?
– Это смерть собачья, а потому и презренная. В этой смерти, браток, душа остается вместе с телом и вместе с ним сгнивает. Как петлей ему перехватят горло, так душе и некуда лететь, все пути ей заказаны. Повешенный человек, как собака, весь сходит на нет, погибает без следа, как фу-фу. Самых отпетых мерзавцев казнят такой безвыходной смертью.
Ваня взял из-за плеча парня пивную бутылку со стола и, стиснув зубы, ударил старика по плеши. Старик, клюнув носом, обхватил голову пальцами с тупыми и щербатыми ногтями. Бутылка, воркуя пивом, покатилась под стулья. Все вскочили из-за стола, заорали. Ваня нырнул в пьяную толпу, сбил с ног священника в вороньем подряснике и служебным ходом, мимо сторожей, пьющих чай, выбежал на площадь, под дождь.
Раскрывая рот, он бежал бульваром, потом шел все медленнее и тише. По лицу его текли слезы и дождь. Пустые, ярко освещенные внутри трамвайчики проносились вдоль бульвара. Желтый свет прыгал по мокрому кустарнику. Было уже около одиннадцати ночи. В горле у Вани пересохло, он с задней дверки зашел в киоск и попросил у продавца напиться. Продавец, не оглядываясь, налил стакан квасу и протянул назад, бормоча: «Шляетесь в такую погоду, попрошайное племя!» Ваня взял стаканчик и жадно, одним духом выпил. «Стаканчик-то не упри!» – сказал торговец и обернулся.
И, несмотря на то что он был брит, по серым дугам вокруг рта и по цвету глаз Ваня узнал товарища Сысоя.
Ваня сел под прилавок, к бочке, и кулаками стал колотить Сысоя по голенищам.
– Ну, ну! – спокойно сказал Сысой. – Порываева взяли, ты это знаешь?
– Знаю.
– Анна где?
– Не знаю.
– Ну, ну, зачем бегаешь ночью? Или переночевать негде?
Ваня, собравшись комочком, сидел под прилавком и молчал. Изредка к киоску подходили запоздавшие прохожие, спрашивали нарзан или квас. Подошел какой-то бойкий, выпил два стакана соды, сказал отфыркиваясь:
– Дурачье! Распустили слух, что на базаре будут вешать. У нас не средневековье. Вешать будут под Машуком, на Казачке, в пять часов утра.
Спустя полчаса Сысой взялся за ставень, чтобы запирать киоск. Ваня схватил его за ноги:
– Сысой, – сказал он, – Сысой! Неужели ты отступился от него?
– Молчи, – ответил Сысой. – Я от него не отступился.
Глава одиннадцатая
Этой же ночью два агента контрразведки остановили Сысоя на Базарной. «Добро пожаловать!» – сказал рыжий, немного хмельной детина, заходя сбоку. Сысой вырвался и, нажав плечом калитку, высадил запор и побежал чужим двором к черешням. Собака вылезла из-под крыльца и, поднявшись на задние лапы, молча схватила его за горло. Вместе с собакой Сысой повалился на мощенную камнем землю. Детина подошел к ним и, подыскав момент, спокойно и метко всадил пулю в черноволосый затылок Сысоя. На выстрел выкатился на крыльцо обросший жиром армянин в исподнем. «Контрразведка», – сказал детина. «Извините», – задохнулся армянин и глухо, испугавшись, вкатился в сени, закрыл дверь, долго шарил по двери руками, нащупывая задвижку.
Ваня ничего не знал об этом. Прямо от киоска он поднялся к подошве Машука, свернул к Казачке. В темноте он перелез через невысокий забор на кладбище. Он долго бродил между каменных плит, в высокой траве, достающей ему до колен. Он был уверен, что за Сысоем стояла сила, и, несмотря на то что Сысой ничего не сказал ему, он верил в то, что Анджиевского отобьют по дороге на Казачку. «Ага, он мал? От него прячут партийные директивы?» Обида была так велика, что он ушел от Сысоя.
Но эта обида сломила в нем ту страшную дрожь, с которой он не прожил, а продрожал эти последние дни. Он успокоился, его клонила усталость, ему хотелось спать. Он залез под кладбищенскую стену, под ее каменный выступ, и сидел, согнувшись, в черной норе, как крот. Он вынул сайку, которую ему дал Сысой, от нее пахло булочной, стал есть маленькими кусочками, чтобы следить, как постепенно утоляется голод. Первый кусочек так сладок, что сводит десны и по всему телу трезвон. Второй кусочек сладок не меньше. Большая сайка – дойдешь до половины и уже будешь сыт! Прожевывая сайку, он стал думать о том, что ничего не поделаешь – нужно пробираться в центр, к Ленину. Подросткам (надо сказать Ленину!) нужно доверять, им нужно давать самые опасные поручения, потому что гидра контрреволюции меньше обращает внимания на подростков, чем на старых большевиков. Он силился представить себе живого Ленина по рассказам Анджиевского и по портретам.
Усталость сломила его, он заснул.
Он видел легкий, веселый, солнечный сон. На песчаном бугре, под голубым и ясным небом светлобородые плотники строили дом. Тук-тук, тук-тук! – стучали топоры. Звонкая желтая стружка сыпалась из-под рубанка. Дерево пахло медом. Тук-тук, тук-тук! «Становись, подымай!» – закричал главный плотник, прикидываясь злым. Но он был весел и, раскрывая рот, вместе с голубым воздухом глотал солнце. И становился, и подымался радостный дом, и на радостное крыльцо выходила Анна, тоже радостная, в ручках она держала ребенка и звонким голосом говорила Ване: «Молодец, Ванька! Расскажи, Ванька, как ты спас мою дочь?!» А он забыл, как спас ее, и только смеялся в ответ сестре и яркому блеску ее зубов. Тук-тук! – стучали топорики.
Во сне Ваня свалился на землю и от этого проснулся. Без улыбки, бескровный, вставал над Машуком рассвет. Такой же, как вчера, сеял дождик. Ветер тихо шумел в барбарисовых кустах, и нахохленные воробьи тяжело перепархивали с могилы на могилу. Просырелые и злобные голоса доносились с Казачки. Ваня приподнялся, выглянул. Он увидел на взлобке горы криво поставленную, наспех отесанную виселицу и двух плотников в черных от дождя рубахах. Один из них, стоя на коленях, укладывал в деревянный ящик плотничий инструмент, его остроконечная седая борода плакуче свесилась ему на грудь. Другой плотник, помоложе, с простыми глазами, поглаживал рукой столб виселицы.
– Надо бы поглаже выстругать, – сказал ему унтер. – Эх вы, плотники-работники.
Плотник ответил:
– Да чего ж поглаже? Не век ей стоять.
Старый плотник взвалил на плечо ящик, спросил, можно ли идти, унтер дозволил, и оба плотника, поправив картузы, пошли вниз, на дорогу. Унтер подошел к группе солдат, сделал лирическое лицо, сказал: «Покурим, солдаты, до прибытия начальства». Солдаты молча закурили, и синие дымки заклубились над их лбами. От этой их простоты, от их табачных дымков Ваня онемел и так остался нем на все время казни. Локтями и грудью он обнял камни стены и сам стал, как немой камень, – как немой камень с живыми глазами человека.
Задолго до пяти утра – час, назначенный для казни, – цепочки пятигорских обывателей потянулись по размытой дороге к подножию Казачки. Здесь были жители прибазарного квартала, богатые станичники из Горячеводска, ресторанные официанты, домовладельцы из Нового Пятигорска, всякая уличная голь, праздная, развращенная курортом, живущая от одного легкого гроша до другого. Сгибаясь под тяжестью большого аппарата, в сторонке от всех, похожий на бродячего шарманщика, протащился в гору фотограф. Испитой мальчик тащил за ним футляр с кассетами. Ноги фотографа, обутые в калоши, расползались по глине, пот лил с его бледного лица, и седые волосы покрыли глаза. Медленно проехал фаэтон, нагруженный сверх меры нарядной, дрожащей на утреннем холоде компанией. Из – под зонтов, которыми фаэтон прикрывался, как навесом, высунулось голубое от бессонницы лицо девушки, ее сиреневая шляпка. Губы девушки, сведенные судорогой, казались черными.
У подножия холма толпу встречал патруль, заграждая дорогу, и толпа растекалась по подошве холма. Высоко над ней в суровом, клубящемся небе виселица подняла свою перекладину, перепоясанную веревкой. Люди стояли на ветру, дрогли, в щемящем беспокойстве оглядываясь на дорогу.
Без четверти в пять показалась военная двуколка, окруженная конными. Анджиевский – все в той же грязной рубашке, в тех же залатанных штанах и без шапки – проехал мимо толпы. Блеснули его кандалы. Было видно его синее, распухшее от холода лицо. Перед взлобком лошади взяли сильно. Анджиевский качнулся, чуть не выпал, спиной ударил лошадь конвойного. Лошадь взвилась на дыбы, понесла, у конвойного слетела шапка. Влетев в толпу, конвойный рукоятью обнаженной шашки бил лошадь между ушей.
Люди рассыпались по холму, в фаэтоне девушка кричала:
– Мама, мама!
Полурота солдат вытянулась вдоль виселицы в одну шеренгу, лица их были тверды, тупы и бессмысленны. Анджиевский, дрожа от холода, легко соскочил с двуколки, пошел на солдат, исподлобья оглядел их и отвернулся. Он стоял спиной к Ване и широко смотрел на Пятигорск, разостланный перед ним в голубой дымке, на все это цветное скопище белых и желтых стен, сияющих на дожде кровель, на кущи деревьев, на крохотный поездишко, в клубах дыма ползущий к вокзалу, и на острую кубышку Юцы, и на синюю тень Джуцы, и на виноградные сады Горячеводска, и на желтую плоскую ленту Подкумка. Анджиевский смотрел на небо, мутная пелена которого скрывала от него снежный забор хребта и два венца Эльбруса, похожих на сосцы. Потом его взгляд упал вниз, на толпу, на фотографа, расставляющего тяжелый треножник и несчастного от мысли, что снимка не получится.
Анджиевский отвернулся.
К нему подошел старенький полковник и, вздрагивая животом, глотая слова, взволнованно прочел приговор. Анджиевский смотрел в землю, на сапоги полковника. Правым носком полковник отбивал: «пункт первый», «пункт второй». Слова о повешении он смял и поглядел на Анджиевского с ужасом. Глаза Анджиевского блестели, и полковник, обливаясь потом, испугался, как бы память об их блеске не осталась у него на всю жизнь.
Он пробормотал, скомкав приговор:
– Имеете право на предсмертное слово.
Анджиевский поглядел вниз на обывателей, пришедших смотреть на его смертную судорогу, насмешливо взбросил плечом и широким шагом пошел под перекладину. Он показался Ване таким большим, сильным, широкоплечим и тяжелым, что было непонятно, почему этот великан не расшвыряет людей, собравшихся его вешать. Веревка, извиваясь, как пиявка, поползла с перекладины вниз. Анджиевский, отведя руки солдата, сам надел петлю. Ваня закрыл глаза, рукой провел по своей шее. Не раскрывая глаз, он полез на стену, под ним посыпались камни, он спрыгнул на землю.
Все та же глухая немота владела им.
Он шел как лунатик, прямо на виселицу, на которой, тоскливо вытянув носки, висел тяжелый странный груз: то, что нельзя было назвать ни человеком, ни трупом, что, перестав быть человеком, еще не стало трупом. Доктор в пальто виноградного цвета, в фетровой шляпе и высоком крахмальном воротничке, отставя мизинец с бирюзой, держал Анджиевского за руку и глядел на золотые часы, которые держал на ладони.
– Сердце остановилось на двенадцатой минуте, – сказал он полковнику, изумленно подняв седеющие брови. – Удивительно жизнеупорный организм. – Потом он спрятал часы и прибавил все в том же изумлении: – Я хорошо знал этого человека при жизни. Как ни странно, я принимал ребенка у его жены.
Полковник увидел Ваню, налился кровью и нетерпеливо взмахнул кистью руки. Навстречу Ване кинулся унтер, обругал матерно, повернул за плечи и коленом дал под зад. От этого пинка Ваня не удержался и побежал под гору, скользя в мокрой траве и вскидывая руки. По дороге вразброд тянулись к городу обыватели. Ваня обогнал их, попал в плотную толпу молодежи. Это все была мастеровая молодежь, железнодорожники. Они шли в ногу и, не раскрывая ртов, мычали сквозь сжатые губы похоронный марш. Ваня плелся в их толпе, потом тоже пошел в ногу. Шаги их тяжело и мерно шлепали по раскисшей дороге. Они мычали так тихо, что казалось, они думают марш, а не поют. С ними идти было очень ловко и ладно, и Ваня стал подпевать им, тоже очень тихо, чтобы не вырваться голосом, и едва начал подпевать, как мотив марша подсказал ему слова, и вышло так, что железнодорожники поют «Интернационал». И едва он понял это, как самая тихость их пения стала казаться ему тяжелой, тугой, железной, и он понял, что сейчас ни о чем нельзя говорить, что все и так ясно, что все туго скручено в жизни, и смерть Анджиевского не остановила жизни.
У Греческой церкви молодежь рассыпалась на кучки, по двое и по трое влилась в толпу, текущую по улицам вниз. Ваня не побежал за ними (позже он пожалел об этом), и вот он теперь был совсем один в этом городе белогвардейской сволочи! Он спустился к банку и посидел на скамеечке на бульваре. Кавказцы в парадных бешметах, с крашеными бородами продавали трости с монограммами «Кавказ» и «Казбек», из шашлычных пахло луком и жареным барашком; рыхлые барыни, накинув на плечи прозрачные шарфы, ходили с эмалевыми кружками, лечились, несмотря на революцию.
– Казнь Анджиевского! – вопили газетчики, ныряя в толпе.
Солнце было совсем высоко, оно разорвало туман и пролилось на улицы. Ваня медленно направился к вокзалу. На углу Ессентукской он пошел по пятам старичка в накрахмаленной до хруста парусиновой паре, который, поглаживая лысинку, на ходу поглядывал в газету. Ваня решил, что, прочитав газету, старичок бросит ее. Действительно, скоро старик отшвырнул газету и потер пальцами, будто попал ими в деготь. Ваня поднял лист толстой, пористой, коричневой бумаги. Это была газета «Кавказский край».
Газета писала:
«Сегодня в пять часов утра у подножия Машука повешен комиссар Анджиевский. Правосудие свершилось!»
«Вчера в городе распространялись провокационные слухи, будто вместо Анджиевского повесят другого человека. Главное командование распорядилось оставить казненного в петле в течение суток. Жители Пятигорска! Идите все смотреть на когда-то грозного председателя Пятигорского Совдепа!»
Ваня дошел до вокзала, смутно надеясь, что встретит там кого-нибудь из железнодорожных ребят. Но в эти утренние часы вокзал был пустой, чистый, босые бабы возили по каменному полу мокрые швабры. Ваня сосчитал деньги и купил себе билет до Минеральных Вод. На платформе под парусиновым тентом, среди пальм и лимонных деревьев в четырехугольных кадушках, офицеры пили кофе. Ваня дождался поезда и влез в передний, совсем пустой вагон. Против него сидела старуха в черном платке, сырая, в красных ячменях.
Поезд двинулся и ходко побежал среди степи, залитой солнцем и подымающей золотой пар.
Бештау повернула свой лиловый бок, к ней, как гуси, тянулись по небу белые облачка.
И слабость, и отчаяние охватили Ваню. Он заплакал, глядя широко раскрытыми глазами в окно; слезы, не приставая к засаленной рубахе, широкими горошинами скатывались ему на колени.
Старуха увидела горе Вани, завозилась на лавке. Ячмени ее заблестели от слез. Она наклонилась к Ване, от ее платка пахнуло запахом домашнего сундука и сушеной травы. Долго она шевелила сухими губами, подбирая слова, наконец произнесла шепотом:
– Куда едешь-то, пацанок?
Ваня уже не мог сдержать слез, хлынувших, как дождь из трубы. Но глаза его округлились, озлели, он совладал с прыгающими губами и выговорил со всем отчаянием, переполнявшим его:
– Еду к Ленину. К Ленину, в Москву.