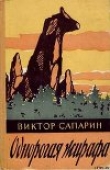Текст книги "Таврические дни (Повести и рассказы)"
Автор книги: Александр Дроздов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
2. Рассказ о зрении
– Это у Егорья, за пятнадцать верст, – пояснил слепой звонарь. – А ты слышишь? Я тоже слышу – другие не слышат.
В. Г. Короленко «Слепой музыкант»
Едва прошел слух, что белые мобилизуют железнодорожников, машинист Бобанов положил в берестянку повидло и сменку белья. Вышел он в ночь. На нем была заячья шапка, которая грела его уши, и валенки, которые грели его ноги. Шинель же у него была на рыбьем меху, он скоро прозяб и стал бояться ледяной смерти. Всю ночь машинист шагал белым полем, под звездами, похожими на сигнальные огни, а к утру дошел до селения Ровеньки, где стояли белые, но дальше уже начинался фронт. Это была знаменитая зима девятнадцатого года, зима буденновского марша на Ростов-Дон.
В Ровеньках тепло пахло дымом, на пруду, обсаженном голыми ветлами, солдаты ведрами набирали из проруби воду. Застав не было, и Бобанов вольно пошел по улице, примериваясь к домам: куда бы зайти? Перед белобокой церковью расположилась артиллерия, и там жгли костры. Во всех дворах, мимо которых Бобанов проходил, стояли лошади, курчавые от инея. Бобанов, не чувствуя ни ног, ни пальцев, ни щек, выбрал землянку, по уши утонувшую в сугробе. Траншейкой, пробитой в снегу, он дошел до двери с ржавой подковой вместо кольца. Он погремел этой подковой, на его шапку свалился с крыши снег. Ему отпер дверь пацанок лет пяти, в женской кофте, босой, глаза волчьи.
В глиняной печке, объятая скупым огнем, посвистывала мокрая коряга, старик в вонючем отрепье сидел на полу против печки и подбивал подметку на таком большом башмаке, что трудно было вообразить, какой это человек может носить его. Старуха на лавке чистила картошку.
– Здорово, хозяева! – сказал Бобанов обмороженными губами. – Живете?
– Живем, покуда бог слышит, – ответил старик, – а если оглохнет бог, то и нам не жить.
Они не спросили, кто он и что, он подсел к огню, и жар печки стал ломать его озябшее тело. Пацанок ткнулся в колени старухи, глядя, как проворно ходит в ее белых пальцах нож. Изо всех щелей землянки, с голого стола, с гладких стен, на которых не было даже тараканов, потому что ни к чему им было здесь водиться, глядела бранчливая, злая, безысходная нищета, такая нищета, когда и не мечтается ни о чем, только бы дожить денечек. Слежалая, черная солома валялась по углам – ложе этих нищих..
Голодная нищета землянки успокоила Бобанова, и он как-то свободно и легко, очень непохоже на себя, рассказал старикам, что он красный машинист, бежит от белых и просит дать ему угол, чтобы дождаться буденновскую конницу. Старик, держа в зубах гвоздики, враждебно слушал его.
Старуха вдруг сказала сыну:
– Погляди-ка, Костюшк, может, где кожицу оставила?
Пацанок красными ручонками перебрал картошку, но кожица везде была срезана чисто, и Бобанов вдруг спросил:
– Никак ты, хозяйка, слепа?
– Да и я слеп, – ответил за нее старик и поднял на Бобанова большие тусклые глаза, в которых, как заря в слюдяных окнах, медленно струился огонь печки. – Бог захочет рассерчать – не помилует. Оба слепы от болезни и с тех пор побирушничаем, этим и кормимся. – Он вдруг разговорился, повеселел и обрадовался Бобанову. – Жили зрячие, были бесплодны, а ослепли – родили Костюшку, это старики-то! Темная жизнь, а ничего. Слепой курице все пшеница. Только не сочувствую, красный машинист, ни тебе, ни генералу Маю – развели войну посередке отечества! Никуда не пойдешь, везде война, везде гремит, все прячутся, скупо милостыню дают.
Он рассердился, бросил башмак и вышел за дверь.
– Плохо милостыню-то дают, – сердито подтвердил Костюшка, сверкнув своими волчьими глазами.
Старик принес охапку свежей соломы, золотой и ломкой, швырнул ее у печки, пробормотал: «Здесь будешь спать, красный машинист». И Бобанов остался у них и прожил три дня, выходя из землянки только за нуждой.
Целые дни он валялся на соломе, заговаривал с Костюшкой, но пацанок был похож на хорька, диковатый. С утра старики брали тяжелые, сучковатые палки и уходили до темноты собирать пропитание. Бобанов припоминал сказки, слышанные им на звонкой заре детства, потом разные случаи из своей жизни, спрашивал пацана: «Нравится?» Пацан на все отвечал одинаково: «Врешь».
С темнотой и всегда в одно время возвращались старики. Старуха варила картошку, старик либо сапожничал, либо, разложив на столе старую одежонку, кроил из нее пальтишко для сына. Бобанов глядел, как чуткие пальцы его разглаживают складки и бегают по ткани. В этих руках, нечистых и обмороженных, было что-то неприятное; в самом деле, они казались зрячими, и от воспаленного осязания их ничего нельзя было утаить. Эти пальцы пробежались по одежонке и вдруг остановились, слегка вздрагивая, будто касались огня. Старик сказал:
– Экое здесь пятно. Есть здесь пятно, Костюшк?
Пятно было, и старик так стал ладить кройку, чтобы пятно ушло в пройму. Старуха сидела возле кастрюли, где варилась картошка, и слушала бормотание воды на огне. «Сварилась», – говорила она, снимая с печки кастрюлю. Бобанов доставал из берестянки банку с повидлом и шел к столу. Пацанок ел повидло: «Ишь ты, красный машинист, бога-тай!» Бобанов сказал, что вот ему так бы угадывать, когда закипает вода в котле, – никогда бы не пережег пробок. Старик вдруг рассердился, бросил ножик:
– Мало тебе, что свет видишь, – все жадничаешь? Тоже, завидушшая душа! Видал когда-нибудь, как рыба на зиму ложится в ятовья? Чтоб не замерзнуть, она покрывается густой слизью, по-нашему слен. Слепые-то, мы в темноте, как в ятовьях. И даден нам от бога громадный слух, и окутаны мы тем слухом, как сленом, чтобы не задохнуться нам в этой нашей темноте. Эге! Никогда не услыхать тебе, комиссар, как звезда звенит, а я слышу. И всякая звезда звенит по-своему.
На второй день белые кавалерийские части уходили из Ровенек. Слышен был шум движущихся воинских масс, храп лошадей, бряцание постромок. Пацанок побежал смотреть на войска. Бобанов вдруг испугался, что он может сболтнуть, и зарылся в солому. Но все обошлось. Старики возвратились в этот день поздно, но, как всегда, в одно время. После ужина они легли, разговаривая, как молодые, про дела и про свою любовь; они не видели друг друга и поэтому были вечно молоды.
Вероятно, звезды на дворе светили очень ярко, широкий голубой свет вливался в окошко, и казалось, что он зорко и чутко, как пальцы старика, ощупывает все выбоинки на глиняном полу. Перед тем как заснуть, старики всегда рассказывали друг другу, куда ходили, как просили, кто как ругался и кто сколько дал. Об удачах и обидах они говорили одинаковым голосом, и выходило так, что они заранее всему знают цену и ничего от жизни не ждут. Старуха сегодня была в Погожеве, у старой поповны Насти, ела борщок с густым наваром и слушала историю про мальчика, который родился слепым, а там сделался богатым музыкантом, и баре носили его на руках.
– И все ходили вокруг него на цыпоньках, – рассказывала она церковным голосом, подражая поповне, – и одевали, и кормили его, и дворовый человек играл ему на дудке, а мама на клавишах, и красивая девка замуж за него пошла, а ребеночек у них родился зряченький. Хлебнул он от жизни полный глоток: и злата, и любови, и почета – все ему.
– Брешет твоя поповна, старая крыса, – сказал старик.
– Ан не брешет. В книжке писано.
– А если не брешет, то слепой этот или барон, или керцог. У нас небось ни злата, ни людского почета нету. И хлеб не каждый день.
Бобанов шевельнулся на своей соломе, сказал насмешливо:
– Исторический процесс плохо слышите, люди. Как звезда звенит, это слышите, а исторический процесс? Вот она где, суть вещей. Побьем всех паразитов земли, омоем землю, тогда будет у вас хлеб каждый день. Слепых будем лечить, неизлечимых учить доступному труду, и будете вы жить получше всякого барчука из поповской сказки.
Слепые притихли, слушали. На середину пола выкатилась мышь. Старик швырнул в нее башмаком и сказал тоже с насмешкой:
– Сластена ты. Падок на вкусное слово. Если вы, красные, побьете богатых людей, где они копейку возьмут, чтобы мне подать? Разорите людей – тогда кто мне подаст? Кто мне милостыню подаст, кто?

– Кто тогда подаст? – сердито сказал пацан из своего угла.
Но Бобанов разгорячился, сел на соломе и вдруг – может быть, впервые с такой остротой – увидел, какая жизнь брезжит на горизонте, за пороховым дымом гражданской войны, за виселицами белых, за деревнями, спаленными огнем карательных экспедиций. Эта жизнь была просторна, велика, воздушна и светла, он еще не видел ее очертаний, как нельзя видеть очертания солнца даже через тучи. Тогда он начал говорить всей своей кровью, и он сам не знал раньше, что умеет так говорить. Громадная жизнь брезжила у горизонта, и он описывал ее старикам, как видел и как умел. Там крючники, мужики и кочегары управляли страной, смеялись девушки, поднимались грузные урожаи, рождались дети, народ трудился на своей родной земле, лечил своих больных, призревал своих слепых; труд был честью народа, «Интернационал» – любимой песней. В той жизни у горизонта люди не прятались в ятовья и не одевались от мороза в слен, потому что там не было мороза, а человек не был бессловесной рыбой. Бобанов будто шел по блистательному городу, о котором знал понаслышке, угадывал улицы; сады были еще лучше, нежели он слышал о них, и рассказать, как они красивы, было ему трудно. Эта ночь и эти слепые открыли ему новое зрение, но как это случилось с ним, тоже было трудно рассказать. Тогда он лбом уткнулся в солому, накрылся шинелью и заснул.
Против обыкновения он проснулся поздно и увидел, что сугроб за окошком красен от морозного солнца. Это был третий день, что он гостил у слепых. Пацан сидел у стола и, держа в руках живую мышь, придумывал ей казнь. Мышь пищала. На столе в закопченной кастрюле стояла картошка.
– Иди картошку жрать, – сказал пацан, – отец велел. И повидло неси.
Это был первый случай, когда слепые оставляли ему еду. Бобанов намазал картошку повидлом и протянул пацану. Пацан стал есть, упустил мышь, но не расстроился. «Я ее, мышь-то, во второй раз словлю», – сказал он. Потом он поднял глаза на Бобанова, и наконец-то это был настоящий товарищеский взгляд.
Пацан спросил:
– Кто слепым дворец будет строить?
– Ленин.
Быть может, от голода или от того, что с ним случилось вчера, Бобанова одолевала сонливость, он лег и проспал до ночи. Его разбудил старик, тронув за плечо суковатой палкой. Снова звезды горели ярко, заливая землянку проточным светом. Пацан всхрапывал в своем углу.
– Вставай, красный машинист, – говорил старик. – Большие войска идут.
Бобанов, накинув на плечи шинель, вышел за стариком во двор.
Мороз был так крепок, что воздух звенел от дыхания. Над голубыми снегами рассыпался золотой фонд Вселенной. Старуха стояла у порожка, опираясь грудью на палку, седые волосы ее были в инее, она подняла белое лицо к звездам. Она слушала. Бобанов тоже прислушался и вскоре в ледяной тишине ночи уловил невнятный шум, состоящий из бряцания, звона, снежного скрипа, из непонятного и неровного гула. Этот шум катился где-то очень далеко за поселком, и тогда старик, подняв голову, сказал:
– Очень далеко идут. Большие войска идут.
– Белые? – спросил Бобанов.
– Красные войска, – сказал старик.
Старуха повторила с железной уверенностью:
– Красные войска идут… У белых один шум, у красных – другой. Это красные войска идут.
Бобанов вслушивался, но ничего не мог уловить, кроме дальнего бряцания, звона, снежного скрипа и непонятного, неровного гула. Но волнение его было так велико, что он сел в сугроб и заплакал; старик подошел к нему и легкими пальцами ощупал его лицо, его открытый рот и суровые слезы мужчины. Потом он опять поднял голову; все трос слушали далекое движение большого войска, движение красной конницы, исторический марш Буденного на Ростов-Дон.
В СТЕПИ
I
Пять суток батальон Орлова продвигался вдоль железнодорожного полотна. Качаясь в седле, Алеша Величкин видел то вымокшие на дожде хвосты коней, то степь, покрытую сивым бурьяном, то теплые дымы над крышами куреней. Нет-нет да и лязгнет стремя, зацепив за стремя соседа. Пахнёт махоркой. Иной раз ветер донесет с база конский голос. Встанут уши коня, конь заржет в ответ.
– Н-но! Балуй!
Но теплые хутора уходили назад, тянулась степь. Залепленные мокрым снегом, вдоль полотна шагали телеграфные столбы. В седле дремлется. Закроешь глаза – слышишь: нарастая, набегает гуд, все громче и гуще, потом начинает стихать, и вот уже не слышно его – проехали телеграфный столб. Откроешь глаза – воробьи на проводах. Степь. Сирота журавль шагает у самого горизонта.
Разлепляя глаза, Алеша встряхивался, как воробей. На коне он сидел, несмотря на долгие походы, кулем. Он доставал из кармана своих офицерских брюк кругленькое зеркальце, какие носят в сумочках городские девки, дышал на стекло, протирал его рукавом. Из ободка глядели на него то голубой, широкий, простодушный глаз, то белая густая бровь, растрепанная и мокрая, то квадратный лоб. Круглый подбородок зарос редкой бородкой. Во всем лице его, которое он разглядывал частями, не было порядка и не было красоты. Не оттого ли девушки мало льнули к нему? Он переворачивал зеркальце. На тыльной стороне его изображена розовая пухлая девка с кирпично-красными волосами и круглыми глазами морского цвета. Девка голая, и крепкие груди ее торчат угрожающе, точно кулаки. Обозревая красавицу, Алеша пощипывал бородку, потом сплевывал и прятал зеркальце в карман. Конь чавкал копытами то по снегу, то по вязкой земле. Дрема опять садилась на глаза.
К ночи показался одинокий огонек полустанка. Повстречавшийся босой человек в мерлушковой шапке рассказал, что белых на полустанке нет, ушли в лесок. В одиннадцать часов без боя батальон занял полустанок. Станционное здание брошено, двери раскрыты настежь, за окнами – темнота. Труп вороной лошади лежал в садочке, на раскисшей клумбе. От клумбы, ощерив пасть и облизываясь, отбежал всклокоченный пес. У этого садочка часть бойцов спешилась, пошла на платформу. Алеша пошел легко, вихляя коленями, разминаясь. Длинный и худой человек, кожа да кости, сидел на краю платформы, поставив на рельс ноги. Шею он обмотал шелковым женским чулком. Круглые, как у сыча, глаза его были безумно раскрыты и полны пугающего беспокойства. Подергивая углами рта, он глядел поверх пакгауза, в лихую, пляшущую черноту ночи. Дождь, перемешанный со снегом, сыпался на его плечи и фуражку с желтым кантом.
Стуча сапогами, бойцы выстроились на скользкой от снега платформе. Комбат Орлов, красивый, веселый мужчина, заика, снял со стены станционный фонарь и поставил его перед собой, чтобы бойцам лучше было видно его лицо с красным шрамом на щеке. Алеша любил слушать речь комбата, прошитую соленым словцом. Оттого что комбат заикался, первые слова его будто падали на колени и, корчась от усилий, долго не могли встать, но, встав, обретали вдохновенную резвость. Комбат откинул полы полушубка, скользнул пальцами по овечьему меху и всунул руки в карманы стеганых подваченных штанов. Орлов выставил ногу и выкрикнул первое слово, которое сейчас же упало на колени:
– П-по… п-по!..

Лицо его налилось кровью, шрам побелел. Большим напряжением воли комбат поднял слово на ноги.
– П-полустанок номер сорок, занятый батальоном, есть важный стратегический пункт.
Богатые хутора и станицы. Согласно приказу начдива держать полустанок до прихода Интернационального полка. Понятно, бойцы? Ставлю на вид: за всякое бесчинство с населением – прямая пуля в лоб. Особо и преимущественно не трогать баб.
Предупреждаю, бойцы. За поход спасибо! Теперь располагайтесь на отдых!
Он повернулся и пошел проверить только что расставленные посты и оглядеть станционные сараи, отведенные квартирьерами под ночевку. Алеша, из любви к комбату, увязался с ним. На круглом дворе за станцией шипели костры. Гривы огня летели по ветру. Бойцы сидели у костров, рыбьими глазами глядели на огонь. Все это были товарищи, рязанцы, костромичи, донцы, мужики, пролетарии, казаки, севшие на коня, чтобы рубить контрреволюцию. За кострами, тесно обжатый голыми акациями, стоял длинный, казарменного вида дом. В дверях его кучкой жались люди, смотрели на костры. Комбат медленно подошел к ним, поздоровался. Окна, завешенные красными, зелеными, желтыми занавесками, тускло светились. Комбат попросил огонька. Старый человек в валенках и железнодорожной форменной куртке молча поднес ему в горсти зажженную спичку. В ее свете Алеша разглядел сумрачное лицо, волосатое ухо, дверь, обитую ободранной клеенкой, и край стены. На стене висели воззвания. Комбат вынул из кармана электрический фонарик. Кружок света пополз по синей оберточной бумаге, как мухами, усиженной типографским шрифтом.
– Ну-ка, Величкин, – весело сказал комбат, – огласи, как нас величает атаман Краснов! Пускай послухают…
Он светил фонариком.
Алеша стал читать:
– «Не седой ковыль расходился, не заяц степной перелетает с кургашка на кургашек, а восстала седая старина. Вспомните дедов своих под Москвой и великий собор тысяча шестьсот тринадцатого года. Кто вслед за галицким дворянином подошел к столу, где сидел князь Пожарский, и положил записку? То был донской атаман. „Какое писание ты подал, атаман?“ – спросил его князь Пожарский. „О природном царе Михаиле Федоровиче“, – отвечал атаман. „Прочтеши писание атаманское, бысть у всех согласный и единомысленный ответ“, – пишет летописец. Господа высокие представители Всевеликого Войска Донского! „Близок есть, уже при дверях!“ Близок час спасения России. Но помните: не спасут ее ни немцы, ни англичане, ни японцы, ни американцы – они только разорят ее и зальют кровью. Не спасет Россию сама Россия. Спасут Россию ее казаки!»
– Сладостно написано, – усмехаясь, одобрил комбат, – чем тебе не церковное пение? Стало быть и русские не спасут? Одни казаки? В какую, слышь-ка, яму угодила Расея-матушка!
Он ногтем сковырнул уголок воззвания, дернул, с треском разорвал бумагу, проговорил злобно:
– Когда идет Красная Армия, похабщину надо срывать, господа жители.
Старик, дававший прикурить, подергал себя за бороду. Остальные ушли. Дверь на болте захлопнулась. Долго стукала бутылка с песком, подвешенная на веревке. Старик сказал тоже со злостью:
– Да это разве война? И вы разве войско? Регулярное войско если займет местность, то уж держит ее крепко. Тогда каждому известно, какое воззвание срывать, а какое оставлять на виду. Вы же тут постоите день-другой, постреляете, а уже завтра, гляди, опять атаман Краснов в гости. Энтот тоже спросит: «Где мое воззвание? Зачем сорвал?» Тебе, комиссар, здесь не жить, мне здесь жить с моим семейством.
II
На платформе табунком стояли бойцы. Взрывы хохота оглашали воздух. Топча мокрый снег, люди налезали друг на друга, чтобы лучше видеть. Комбат Орлов увидел давешнего человека с женским чулком вокруг шеи. Фуражку человек сбил на затылок и, подбоченясь, как певичка в пивной, легко и лихо ходил по кругу под десятками восторженных глаз. Лицо его, заросшее беспорядочной бородой, было плаксиво. Разгуливая по кругу, он твердо ступал на пятки, потом переваливался на носки, от этого все тело его казалось ломким и ненадежным. Выламываясь и плача, он кричал:
– Пожалейте, люди, треснутого человека! Обманут, раздет, в одних портках спущен на холодный снег! Где моя мама? Где моя папа? Где моя супружеская постель? Заклинаю вас, люди, моим голым пупом: сострадания прошу, как хлеба!
– Давай, давай! – весело кричали бойцы. – Давай еще!
Орлов вошел в круг. Гогот и крики стихли. Комбат расставил ноги и заложил руки за спину. Буйствующий человек налетел на него грудью, отскочил – вот-вот рассыплется, куда рука, куда нога. Приплясывая, он поднял на комбата глаза, мутные и будто полные дыма.
– Ты что за тип? – спросил Орлов. – Ты почему здесь безобразишь?
Человек повел руками по воздуху и медленно опустился на колени. Доски платформы застонали под ним. Фуражка слетела с головы. Руками он сгреб снег в кучку, медленно умылся им и сказал с наивным величием:
– Товарищ и господин начальник всех войск, превосходительное лицо! Рапортую от имени революции: бандами атамана Краснова разрушен казенный аппарат Морзе, достояние павшей империи и грядущей мировой революции. Рапортую, господин начальник: без аппарата я, как член человечества, не существую. Кто я? Вглядитесь в мои черты, полководец! Не есть ли я паук высшей мысли? Во все концы родины я протянул паутину, и по ней бежала ко мне мысль и страсть всего мира. Осмелюсь доложить: аппарат не стучит больше. Сердце России не стучит – как мне жить на мертвой, на глухой земле? Остановилось время и его сроки. Как стоишь, сволочь! – вдруг закричал он на Орлова, перекосив рот. – Слушать команду: каблуки вместе, носки врозь, живот до ребра! Ваше превосходительство, войдите в положение мыслящего человека!
– Не трожь его, ребята, – тихо сказал Орлов, – он помешанный.
Нагнулся, поднял и бережно надел на него фуражку.
– Ступай за мной.
Покорно человек поднялся и поплелся за Орловым. На коленях его расплылись черные мокрые пятна. Пятки его шлепали по воде, налившейся в сапоги. Примолкшие бойцы расступились и пропустили их. Орлов повел помешанного в дежурку, темную и сырую. Фонарь с платформы швырял по комнате косые полосы света. Развороченный прикладами аппарат Морзе валялся на полу. Провода были порваны, телефон бездействовал. Из открытой печки несло холодом. На скамье, застеленной ватным одеялом, сидела женщина в мужском осеннем пальто с бархатным воротником и в шерстяном платке.
Орлов зажег электрический фонарик, осветил ее лицо. Молодая, пугливые глаза в густых ресницах, маленький рот. Она повела плечами и прикрыла рот концом платка.
– Кто такая? – спросил Орлов.
– Жена ему, – сказала женщина через платок неожиданно смелым голосом. – Вы уж не обижайте его, командир. Он помешался от ужасов.
Помешанный, качаясь, стоял в дверях.
– Садись, – сказал ему Орлов. – Как звать-величать?
– Имя мое до времени никому не известно.
– Ты сядь, Вася, – ласково сказала женщина, – ты сядь. Ты не бушуй, они не обидят. Они не белые звери, ты иди ко мне.
Легко она встала со скамьи и потянула мужа к себе. Он послушно сел на одеяло.
Женщина стянула с него сапоги, быстрыми маленькими руками стала растирать его ноги, говоря:
– Смотри – опять ноги как лед. Зачем по такой погоде гуляешь? Вот мы у командира попросим керосину, чаю тебе согрею, поесть дам. Здесь мы и живем, товарищ командир. Люди-то нынче волки, в барак с больным не пускают. Боятся.
Она была словоохотлива и вовсе не робка. Длинное пальто доставало ей до лодыжек. На ногах у нее были новенькие калоши. Орлов следил, как она пальцами, живо и крепко, растирает большие, синие, в бечевах вен, ноги мужа, и она все больше нравилась ему. В темноте он не мог разобрать цвета ее глаз, но подумалось ему, что глаза у нее должны быть черные и яркие, излучающие тепло. «Люблю боевых баб, – подумал он и постучал ногтем по столу, – в них, в боевых, всегда тепла больше». Растерев ноги мужу, женщина закутала их в одеяло, взяла мужа за плечи и силой положила на подушку.
Он еще долго и торопливо говорил всякий вздор, потом затих.
– Керосину я вам достану, – сказал Орлов. – И ужинать пришлю. Сейчас бойцы будут ужинать.
– Спасибо, – просто ответила она, села в головах мужа и спрятала руки в карманах пальто. – Семнадцатого здесь были казаки, стояли до двадцать первого. Я сама из Ростов-Дона, из тамошних мещан. Всю жизнь среди казаков живу, но, поверите, вот уж не думала, что такой это лютый народ. Хуже жандармов, недаром за ними такая слава – усмирители. Тут рядом станица большая, из нее много с красными ушло. Уж так зверовали казаки, так зверовали! Учитель у нас был, ничего себе человек, из иногородних, а с перепугу стал им те семьи называть, из которых казаки с красными пошли. Скольких посекли, скольких повесили! И того учителя повесили заодно. Я смотреть ходила. Висит на тополе, язык собачий, а лицо удивленное. Вот вы не поверите, у меня такая злость против этого учителя-наушника! Я ему в мертвую морду плюнула, а ведь добрая. Не доноси, не подводи людей под лютую смерть! Как скажете?
– Всякую белую гниду следует под ноготь, – сказал Орлов, любуясь женщиной. Платок сполз с ее головы. Светлые волосы она зачесывала гладенько, с тонким пробором посредине. Глаза у нее – он разглядел теперь – и точно, были темные.
– Ну, когда красные стали приближаться, казаки ворвались сюда. Провода режут, аппараты бьют. Мой-то Вася – он робкий человек, а здесь рассердился. Они его бить. Я сама не видела, я на чердаке спряталась. Сидела там в паутине, в птичьем помете, дрожала. Я красивая, думаю – пропадешь! Сижу и дрожу, и крики эти слышу. А не узнала мужа: так странно кричал. Теперь вот он какой, хуже слепого или кто без ног. Его бы в желтый дом везти, да лошади нету и дорога тяжелая. Скорей бы этой войне конец!
– Этой войне тогда будет конец, когда раздавим Краснова!
– Скорее бы уж давили! Очень жестокая эта война, когда фронт проходит у тебя дома. Кастрюли наши бабьи и те воюют. Вы не смейтесь, командир! Я в эту войну сама на себя не похожа.
– Мы за трудовое человечество бьемся и убиваем, – серьезно сказал Орлов, – за великую власть трудящихся. За нами – миллионная стена трудовых людей. А белые защищают свою похабную власть над нами, свои земли, деньги и обжорную жизнь. Мы – идея. А они что? Пауки они. У пауков идея – поймал в паутину и соси.
Шагнул, протянул женщине широкую руку.
– Познакомимся. Орлов, рабочий тульского оружейного. Приказом революции комбат.
Она положила на его ладонь свою руку, холодную, узенькую.
– Настасья Романова, – сказала она, – фамилия по теперешним временам очень нехорошая.
Засмеялась.
Он пожал ее руку. Камешек тонкого колечка на ее пальце вдавился ему в ладонь.
III
В станционном сарае на дощатый пол накидали шинели и тулупы. Посреди на полу смердела и тоненько пищала лампа. Алеша подвалил под голову соломки. Прислушался. За стеной сарая пролетели легкие шаги.
Дверка поплыла на петлях. В голубой квадрат двери вошла тень женщины. Лица ее не было видно. Лунный свет лежал в складках платка, как снег. Из-под полы длинного пальто высунулся край белой юбки.
– Входи, красавица, не бойсь! – пропел ей навстречу из темноты сарая тонкий, вдруг задрожавший голос. – У нас тепло!
– Веселые мы. Утешим!
Женщина оторвала руки от косяка, зябко сунула их в карман. Повернула голову. Луна, обширная, как поляна, сидела на самом ее плече. Глаза женщины сверкнули огоньком отчаяния.
– Не видели, не проходил безумный здесь? – спросила она будто одними зубами, не слепливая тонких губ. – Муж мой? Телеграфист?
Сев на порожек, она зажала руками уши, закачала головой.
– Сбежал. И когда сбежал? Пропадет он. Такая стужа на дворе, а он босый.
В сарае примолкли, слушая ее.
– Далеко не уйдет, – сказал кто-то.
Чиркнули спички. Все, кто не успел заснуть, поднимались, оправляли ремни, звенели оружием. Слышались густые дыхания. На фронтах люди привыкли идти на выручку человеку, попавшему в беду. А здесь была женщина. Алеша успел разглядеть, как в лунном свете блестят ее голубые, мелкие и остренькие зубы. Толкая друг друга, бойцы двинулись к двери. Настя поняла, что ради нее, женщины, сбросили сон и вылезли из-под теплых тулупов эти крепкие мужские тела. Она спустила с подбородка платок, повела лопатками и пошла впереди неверным шагом, будто ее действительно качал ветер.
Голосом, который и приманивал и отпугивал, она говорила бессмысленные слова:
– Вот всегда он такой… то спит, а то, знаете, убежит… Горе с ним, с помешанным. Такое несчастье мне! А ведь жалко… Ведь хоть помешанный, а венчанный мне муж…
Телеграфист сидел на дереве. Он залез так высоко, что у него, видно, кружилась голова. Обняв широкий ствол тополя руками и босыми ступнями ног, он сидел темной неподвижной массой, похожий на большое воронье гнездо. В луже у корней синим заревом горела луна.
Завидя людей, телеграфист ободрился и закричал отчаянным голосом:
– Не стучит сердце России!
Настя подняла голову, ее платок скатился на плечи.
– Вася, голубчик, слезай, пожалуйста! Ну, пожалуйста, слезай! Не сиди на дереве, Вася!
– Отсюда я вижу мертвое тело России, последнее целование отдаю ей!
– Вася, слезь! Слезь, голубчик!..
Глаза ее, блестящие и выпуклые, наполнились слезами. Это не всякий смог вынести. Красноармеец Каплев сбросил с плеч винтовку, громыхнул затвором и, приложившись к ложу, навел дуло на телеграфиста.
– Подобью, как ворону! – закричал он свирепо. – Считаю последовательно! На команде «три» подшибу к чертовой матери! Р-раз…
На команде «два» тело телеграфиста дрогнуло. Он покрутил головой и, прижимаясь животом к стволу тополя, медленно пополз вниз. Посыпались ошметки коры, зарябили лужу. Шар луны перекривился на ее дне.
IV
Среди дня комбат Орлов вызвал охотников на разведку. Вызвались Каплев, Алеша и Вихля – тугой и толстый парень, похожий на мешок с крупчаткой, поставленный на попа. Широкие губы его были красны, как земляника.
Дождались ночи и падями пошли в рощу. Светила луна, медленный свет ее напомнил Алеше тонкую и несчастную женщину – как стояла она в двери сарая и как лунный свет лежал в складках ее платка, будто снег.
На опушке разведчики передохнули. В чаще ревел сыч. Ревел он нехорошо и тошно.
– Подбить бы того сыча, – шепотом посоветовал Вихля.
Разведку повел Каплев. Он пошел впереди, руками разводя ветки, по которым, как вода, бежал лунный свет. То вдруг лопнет сучок под ногой, то сорвется нога, поскользнувшись на корне. Каплев подымал руку, тряс пятерней: «Тише!»
– Чертяка, – бранился Вихля, – чертяка тоби в пузу… скаженный!
Лес охватил, обнял кругом. Скоро вышли на тропку, пошли бойчее. Увидели просеку.
– Ти-ша! – сказал Каплев, остановился, потряс пятерней.
– Щось таке?
Просекой, засунув руки в карманы, шел длинный человек. Нечеткая тень летела за ним по траве. Он шел быстро и весь был подобран, и – похоже – уши его стояли торчком, как у лошади. Мелькнул и, раздвигая ветки, пропал в чаще. Каплев обернулся.
– Помешанный, побей меня бог! – сказал он.
Красноармейцы залегли в кустах, когда телеграфист вышел на полянку и, вложив пальцы в рот, тонко посвистал. Он был одет в ту же казенную тужурку, и старая фуражка, раскисшая на непогоде, все так же блином сидела на его затылке. На свист из рощи вышли трое. Кружок от электрического фонарика пополз по бурой земле и вспрыгнул на лицо телеграфиста. Все четверо зашли в рощу, присели на пни. Говорили тихо. Потом гулко рассыпался бархатный смех. Щелкнул портсигар.
Жирный голос сказал громко: