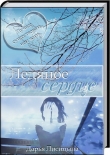Текст книги "Записки баловня судьбы"
Автор книги: Александр Борщаговский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
31
Все показалось правдоподобным.
Вершинин передает мне свою квартиру на улице Кирова, во дворе дома, стоящего рядом со знаменитым чайным магазином. Передает навсегда, сам же поселяется в наших двух комнатах по улице Дурова, 13/1, и бедный Майоров не получит их. Оказывается, Михаила Вершинина приглашают в театр на мою должность, в квартире поселится он, третий по счету завлит.
Мне так хотелось поверить в сказку, что здравый смысл отступил. Поверить было тем легче, что верил и Вершинин, он подумал о такой возможности, вообразил ее себе, и она обрела черты реальности. Все как бы уже свершилось, его воображение уже проделало необходимую работу, уже он истинно был моим благодетелем, спасителем и до дрожи в голосе сам радовался этому.
Студент Московского университета, участник войны, он пришел в театр со стихотворной пьесой о Чкалове. Звучный стих, без поэтических тонкостей и «излишеств», которые затруднили бы сценическое прочтение (без всяческих там «век вывихнул сустав»!), стих, навеянный гусевской «Славой», и варварские просчеты в самой постройке пьесы. Но Вершинин был удивительным учеником. Он мгновенно переписывал, перемонтировал целые акты, иной раз ему хватало на это одной ночи, не бунтовал против «вертикальной» правки, опустошительных купюр, на все отвечал доброй и неизменно бодрой улыбкой. Не упорствуя, он быстро переписывал иначе, почти никогда не умея написать лучше.
Что-то было в нем артистическое, вселявшая доверие уверенность движений, располагающая открытость и, я бы сказал, социальная бодрость. По мере того как опадали мертвые листья строк и строф, конструкция пьесы о Чкалове обнажалась и очевидной становилась ее рассудочность. Мне пришла в голову спасительная, как показалось, мысль: исполнить пьесу «ан фрак», на малой сцене, без декораций, обратив поэтическое слово к небольшому уютному залу.
Я пытался «влюбить» в пьесу кого-нибудь из режиссеров, но безуспешно. Единственный, кто испытывал трепет перед Вершининым, был Паша́: испытание, которому его подверг Миша, не выдержал бы никто из доблестных генералов. Попросив разрешения, Миша из кабинета Паши́ позвонил Василию Иосифовичу, и на этот раз Вершинину повезло, отозвался сам Василий Сталин. Вершинин бодро доложился, объявил, что марш футбольной или хоккейной команды ВВС готов, успел еще сказать: «Будет сделано!» – и со святым трепетом положил трубку.
Теперь он мог брать генерала голыми руками, Паша́ готов был даже подписать с ним договор, но тут подоспел «космополитизм», все застопорилось. Вершинин решил прийти мне на помощь, в горячечной голове возник план квартирного обмена; откуда мне было знать, что Миша, не имеет в Москве жилья. Квартира на улице Кирова принадлежала его жене Светлане.
Я робко усомнился: как поменяться, если квартира на Дурова, 13/1, отнята у меня бумагами военных прокуроров? Вздор! Чепуха! Миша возликовал, препятствия только подхлестывали его. Он поставит на место прокуроров; обдумав обмен, он предусмотрел и эту трудность, пригласил в ресторан на ужин двух генералов – прокурора и интенданта, а генералов из ГЛАВПУРа кормить незачем, хватит с них того, что он согласился пойти в завлиты ЦТКА.
В один из погожих дней детства Миша был выделен из сонма простых смертных. Никита Хрущев посетил Дворец пионеров в Москве и сфотографировался с детьми. Один из них, красавчик с горящими, ликующими миндалевидными глазами, оказался на коленях у члена Политбюро и секретаря МГК ВКП(б). Показывая мне свято хранимую газету с фотоснимком, Миша говорил, что Никита Сергеевич подхватил его на колени, но может статься, что он сам в порыве, в наитии кинулся в объятия Хрущева.
Жизнь Миши быстро менялась, детские стихи обретали трибунную громкость. Через год он двинулся под барабанный бой во главе отряда пионеров в Комитет по делам кинематографии. Барабаны не замолкали, пока дети шли мимо вахтеров, поднимались по лестнице на второй этаж. Смолкли они только в кабинете Дукельского, старого большевика, в то время – главы советской кинематографии. Операция продумана: рапорт, представление и просьба, обращенная к «дяде Дукельскому», выделить аппаратуру, пленку и оператора-консультанта для съемок фильма об «Артеке». Дукельский извещался, что их уже принял народный комиссар здравоохранения, выделил деньги и путевки, а ЦК комсомола тоже поддержал их.
Мог ли Дукельский не пролить слезы, мог ли он отказать детям!
И они строем под барабаны прошли по Москве в Наркомздрав, уже с «векселями» Дукельского в руках, и только потом, благословленные двумя ведомствами, промаршировали в ЦК ВЛКСМ. Задумать и безукоризненно провести такую операцию мог только отрок с задатками гениальности.
Глубокой осенью 1941 года Москва осталась без поэтов: кто в строю на фронте, кто в армейской печати кто в эвакуации; стихи Вершинина очень пришлись для плакатов, для новых «Окон РОСТА», – их создавали известные художники. Юноша обретал не отягощенную рефлексиями веру в себя, в свою счастливую звезду. В 1942 году он уходит на фронт добровольцем; прослеживать армейский путь Вершинина мне не под силу: смена фронтов и дивизий, армейских газет и ансамблей песни и пляски, многочисленные представления к наградам, которые, как правило, не поспевали за ним, не находили его в войну и не нашли после войны, – всего этого в памяти не удержать было и Вершинину. Одно могу сказать уверенно: в годы войны он жил бессонно, неутомимо трудился, никому не отказывал в стихах, мог походя сложить – и складывал – поэтический марш дивизии, полка, батальона, песни (а то и гимны!) отдельных воинских частей. И был награжден боевым орденом Красной Звезды.
Закончил войну в Праге неслыханным, фантастическим и поистине вершининским аккордом. Он оказался где-то под Прагой, где только что бойцами их армии была освобождена семья генерала Свободы. К Свободе полетела телеграмма за подписью лейтенанта Вершинина, и была в ней пустяковая неточность, быть может, ошибка военного телеграфа: вместо слова «освободили» – «освободил». Эта потерянная буква «и» привела к небывалому возвышению Вершинина. Спаситель Праги маршал Рыбалко и Миша Вершинин были равно награждены самым высоким орденом Чехословакии. В «Руде право» им посвятили газетную полосу, разделив ее по вертикали строго поровну, – две фотографии, два жизнеописания.
По майским улицам Праги, не чуя под собой ног, вышагивал герой республики; почему бы ему не издать быстро, в две-три недели, как еще не разучились печатать чехи, том своих русских стихов? Издатели, возбужденные жизнеописанием Вершинина в «Руде право», нашлись, – в те дни было молниеносно напечатано несколько русских книг, в их числе и сборник поэзии Константина Симонова.
Издание сборника Вершинина оказалось ошибкой; пражский сборник дошел до Москвы, многих привел в ошеломление, в «Комсомольской правде» появился фельетон, и Вершинина вызвали на Бюро ЦК ВЛКСМ. Его обвинили в авантюризме и по предложению первого секретаря Михайлова исключили из комсомола.
Дети, сущие дети, люди без фантазии!
На Бюро ЦК ВЛКСМ, выслушав приговор, он улыбнулся им прощающей улыбкой, теснее прижал локтем к тощим ребрам комсомольский билет и сказал, что исключить они его никак не могут, так как год назад он механически выбыл из комсомола за неуплату членских взносов…
Он презирал своих судей и с высоты своего простецкого, демократического величия не замечал чужих ухмылок и уколов; редакционные отказы не задевали его – дайте время, и к нему покаянно обратятся за новыми стихами.
Не обращались… Он держал в уме праздничные дни, особенно «малые» отраслевые праздники. «Строительная газета» или «Водный транспорт» и другие газеты отраслей, в их предпраздничные дни, порой украшались его стихами. Ранним утром Миша ускользал из дома и возвращался с несколькими экземплярами газеты, а если в киосках ее уже не оказывалось, то с прямоугольничком, вырезанным бритвенным лезвием с газетного стенда.
Это была жизнь подвижника, вся отданная поэзии, одной поэзии, но в противоествественной жажде добиться всего вдруг, чудом, одним усилием. Жизнь голодная, в добровольной нищете, странная жизнь человека, который жаждал получить все и не огорчался тем, что не имеет ничего.
Вершинина звали на посольские приемы: чехи – как кавалера высшего ордена республики, посольства других соцстран – за компанию, в порядке обмена опытом, еще не имея сложившихся традиций.
Дробь пионерского барабана никогда не смолкала в нем, и все же, все же он был куда интереснее множества ординарных педантов, мелкотравчатых потребителей жизни. Московский университет был такой же призрачной «реальностью» существования Миши, как и его «комсомол», как угрожающе множившиеся орденские планки на его груди. Поначалу я спрашивал: как случилось, что за месяц количество наград удвоилось, не нашли ли его фронтовые ордена? Не нашли, на это необходимо время, успокаивал он меня, но почему он должен ждать, пока раскачается казенная колымага! Он лучше полковых писарей знает, когда и к какой награде его представляли.
Все у него возникало внезапно.
– Малый театр принял мою пьесу! – объявил он как-то ненастным осенним днем. – Вы должны ее прочесть.
– О Чкалове?
– Я написал пьесу по роману Дин Лин «Солнце над рекой Сангань».
Он метнулся к себе в комнату и вернулся с рукописью.
В ту пору его ожидание нового чуда неисповедимыми путями связалось с далеким Китаем. Он сочинил песню «Москва – Пекин». Как-то я застал такую картину: на низкой кровати перед ним сидела как зачарованная наша двухлетняя Аленушка, Миша, отбивая ударами ноги ритм, на свой лад напевал только что законченную песню: «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас!..»
Пьеса повергла меня в тяжкое уныние, и я сказал об этом Мише. Он смотрел на меня недоверчиво, без обиды, взял рукопись и молча ушел к себе. К моему возвращению из Ленинки Вершинин преобразился, снова был счастлив и снова протянул рукопись, сказав, что все переписал. Я отказался читать и с той поры видел только титульные листы рукописи; там было на что посмотреть. Через неделю у Вершинина появился соавтор: китаист, дипломат, бывший советский консул в Шанхае. Умный, осмотрительный человек, он дал инсценировке и свое имя, и это повысило шансы в Малом театре, Царев всерьез подумывал об ее постановке. И тут подвернулось воистину чудо! В Москву приехал Мао Цзэдун, и этот последний его приезд в Советский Союз завершился приемом не в кремлевских трапезных, а в ресторане «Метрополь». Мы с вечера собирали Мишу на торжество, а дождались глубокой ночью.
Казалось, судьба Дин Лин на сцене Малого театра решена.
Первый ночной рассказ Вершинина о приеме, еще не обросший поздними фантастическими дополнениями, был апофеозом буйной фантазии, потрясающего самовнушения Вершинина. Оказывается, он сидел так близко от Сталина, что слышал его. «Кто этот симпатичный молодой человек?» – спросил Сталин, перстом указав на Мишу, и кто-то, «стоявший за спиной кресла», назвал Вершинина и прибавил несколько добрых слов о нем. «Почему же не сделать молодого, умного человека секретарем ЦК комсомола, зачем нам старик Михайлов?» – недоумевал Сталин, и все, конечно, были с ним согласны…
Бедный Вершинин – он ведь слышал все это, слышал потому, что хотел услышать, не мог не услышать!
Булгаков остроумно сочинил горький пародийный диалог со Сталиным, Миша в галлюцинации услышал все слова, ликовал, видел себя во главе ЦК ВЛКСМ – секретарем, не казнящим, а прощающим Михайлова, – и с этим ничего нельзя было поделать.
В течение дня Вершинин не раз пересказывал при мне ночной мираж, – уважение к нему Сталина, интерес и любовь вождя все росли, прибавлялись похвальные эпитеты, уже Сталин находил его умным и талантливым.
Миша счастлив, добр ко всем и в пароксизме душевной щедрости сделал шаг, загубивший всю затею с Малым театром.
32
С конца июня 1949 года по сентябрь мы прожили в подмосковном Кучине на даче, которую сняли близкие нам – и по-родственному и по духу – люди: моя родня по матери Вера Осиповна Бокшицкая и ее муж Семен Хасимович Раппопорт – философ, историк и литератор. Их приглашение спасло нас, жили мы дружно, не как присельники, как равные, – другого и быть не могло в том климате братства и открытости, который всегда царил вокруг «Раппопортов» и их многочисленных друзей. Вера почти одновременно с Валей родила дочь, и две Аленки – Аленка-черная и Аленка-белая – проводили дни вместе, под присмотром одной из мам.
В Ленинку я уезжал из Кучина со спокойной душой. Пройдет долгий день, я вернусь, привезу из Москвы две-три страницы, исписанные так густо, что никому, кажется, и не разобрать моего текста. Мысль о зиме тревожила, но это далеко, а пока заботы отошли, я ничего не жду, ни на что не рассчитываю, пространство вокруг меня свободно. В будущем, когда я снова оброс обязанностями, чужими рукописями и множеством посторонних дел, я не раз с тоской вспоминал время, когда был никому не нужен. Никому не нужен! Какое спасительное для пишущего человека состояние. Я плыл со своими героями на изрядно расшатанной «Авроре», хоронил умерших от цинги матросов, озирал потрясенным взглядом огромную Авачинскую бухту, где могли бы поместиться одновременно все военные флоты мира тех лет. Перед глазами океан, штормы, трудная работа с парусами, забытая Петербургом Камчатка, вулканы, шеломайник, закрывающий лошадь и всадника, реки, вспененные пробивающейся против течения горбушей. Я так пропитался картинами воображаемыми, что память почти не удержала образов тогдашнего Кучина. Все, что было после, в другие лета: Медведково, Лосиноостровск, Пески под Коломной, чужая холодная дача в Красногорске, Ходоров на Днепре, – все памятно до мелочей – прозрачных днепровских стариц, малых плесов, деревенских тропинок, луговин, тынов, стрех, – а Кучино 1949 года заслонили камчатские пейзажи. Я положил себе год на писание книги, но разве я мог представить себе трудности дела, разве мог вообразить, что в черновой рукописи окажется тысяча двести машинописных страниц!
Как-то в августе, уйдя из библиотеки, я столкнулся с Вершининым у Центрального телеграфа. Он не усовестился, что бросил нас на произвол случая, открыл мне дружеские объятия и сказал, что ждет меня, ждал все это время, и на улицу Кирова – «режимную» улицу – можно переехать хоть сегодня.
Мишу не позвали княжить в ЦК ВЛКСМ, но вершининский гимн советско-китайской дружбы гремел на просторах России и Китая, под его звуки подкатывали к двум великим столицам скорые поезда Москва – Пекин.
Дело подвигалось уже и к началу репетиций над инсценировкой романа Дин Лин, Вершинин зачастил в Малый театр и тут совершил непоправимую ошибку. На титульном листе появилась фамилия третьего соавтора, молодой поэтессы, подруги Чацкого. Вершинин постеснялся сказать мне об этом, я случайно увидел ее фамилию. Откуда? Почему? Когда она успела причаститься?
Вершинин улыбался великодушно: какие пустяки!
Примечательно, что и в этом случае он уступил не корыстному расчету, а слезной просьбе Чацкого. Дин Лин с ее романом уже будто не существовала, была пьеса Вершинина, Малый театр, будущий, несомненно международный успех спектакля «Солнце над рекой Сангань», был он, щедрый обладатель сокровищ, готовый раздать все, а понадобится, то и свое горячее сердце!
Появление третьего, неизвестного театру автора поразило Царева. Пьесу заново прочитали, и она предстала во всей своей психологической скудости. А ведь сыграй ее тогда Малый театр, и никто из уцелевших театральных критиков не посмел бы сказать худого слова!
Отказ Малого театра Вершинин перенес легко. Он жалел Царева, соболезновал театру, который так близко подошел к небывалому успеху и так пренебрег славой!
Театр уходил от меня: пьесы, спектакли, статьи о них, театральные сенсации – все как бы перестало существовать. Отчуждение диктовалось не мстительным чувством отверженного, а ощущением исчерпанности этой моей, прошлой уже, жизни. Я так и не стал театральным ученым, мои книги по истории украинского театра все не без любительщины.
Сильнее другого к черте отчужденности подвела меня работа над пьесами драматургов-дебютантов ЦТКА. За два года не возникла ни одна пьеса, которая захватила бы меня как откровение и таинство. Мы радовались любому зерну правды, подтвердившимся способностям, успешным премьерам, но тоска по настоящему, непредвиденному, «звездному» и у меня, и у Алексея Попова не проходила. Уже сходил, терял силу близкий Попову Николай Погодин; еще не написал своих лучших пьес Арбузов, он все еще был автором «Тани»; только-только начинал Володин, и далеко еще было до Вампилова.
Вырвавшись из сутолоки так похожих друг на друга персонажей пьес на океанские просторы, под тугие паруса фрегата «Авроры», в заросли камчатской каменной березы, на артиллерийские батареи Сигнального мыса, я отряхнул театральный прах с ног своих; иначе не выполнить за год непомерный объем работы, которую я по счастливому неведению взвалил на себя.
Отзвуки театральных страстей приходили с людьми: с Давидом Тункелем – он всегда находил, время для нас, словно опасаясь, что все вдруг прервется и мы останемся без его братского присмотра. Находил меня и Алексей Дмитриевич, просил не исчезать, звонить, он, кажется, чувствовал неуловимую ответственность за мою несудьбу.
Алексей Дмитриевич, что бы ни вписал в текст его выступления на сборе труппы ЦТКА полковник Пахомов, был возмущен, до презрительного и брезгливого чувства, издевательствами над театральными критиками. Он знал цену их острой, самостоятельной мысли, моральной неподкупности, уважал их и тогда, когда не был согласен с ними. Как истинный художник, он понимал значение независимой' мысли и презирал прислужничество.
Яркий эпизод первых послевоенных лет покажет нам живого Алексея Попова лучше всяких рассуждений.
Как-то перед началом репетиции ему в театре подали бандероль, в ней оказалась книга Вадима Кожевникова с пылкой дарственной надписью. Было это в кабинете генерала Паши́. Попов изменился в лице, нижняя челюсть нервно заходила, он только что не забегал по кабинету. «Какой пошляк, какой нетерпеливый пошляк! – выкрикивал Попов, потрясая книгой. – Он всех на свой аршин меряет… Повременил бы хоть немного!.. – Он бросил книгу на стол генерала. – Отошлите ему в редакцию „Правды“…» Кожевников заведовал тогда отделом литературы и искусства в «Правде», газете непререкаемой, и угнетал Попова недобрым отношением к спектаклям Центрального театра Красной Армии. Но только что постановлением правительства А. Д. Попов введен в состав Комитета по Сталинским премиям, а сборник повестей и рассказов Вадима Кожевникова среди выдвинутых на соискание премии. Сразу же, не переводя дыхания, пишется дарственная на книге и с курьером, в пакете «Правды», доставляется Алексею Дмитриевичу, отныне нужному человеку.
По тому, как Попов был оскорблен этим шагом, таким заурядным для наших литературных нравов, можно судить о нем как о человеке.
Все неуютнее жилось ему в ЦТКА. Наши попытки поставить незаурядную пьесу Веры Пановой «Военнопленные» пресекались ГЛАВПУРом. Не поддержало начальство идеи постановки большого, на два вечера, спектакля по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам» (инсценировала роман М. О. Кнебель). Попов напряженно работал над любой из пьес, искал новизны, но слабая литература мстила ему. Высокой, словно не подчиненной суете времени, жизнью жили только такие работы, как родившаяся классической «Давным-давно» А. Гладкова, «Учитель танцев», поставленный режиссером Канцелем, и неувядающий шедевр Попова – «Укрощение строптивой». В Попове жил выдающийся педагог и реформатор, а он изо дня в день имел дело с грошовыми подчас актерскими амбициями, с нежеланием или неумением меняться. Они могли быть и очень хорошие, и средние, и слабые актеры, но все они были столичными мастерами, ждали похвал, званий, вечное студийство было не по ним, а Попов скучал рядом с чужой умственной ленью. Он раздражался, за ним укреплялась репутация нетерпимого, диктатора, которому, мол, и не нужны актеры.
Болело сердце, с каждым годом сильнее. Попов распрощался с театром, все меньше сил отдавал и ГИТИСу. Навсегда памятным остался для меня наш последний разговор. Он его вел полулежа, больной, но с той же энергией, с тем же упрямым поиском истины, что и в молодые годы. От Тункеля он узнал, что я написал пьесу, и захотел прочесть ее.
– Ты меня вторично спасаешь, – сказал он вдруг, посреди беседы о персонажах пьесы. – В 1949 году и теперь вот, в пятьдесят третьем…
Я не понял: о чем он?
– Помнишь, я тогда собрался подавать заявление в партию; генерал Шатилов убедил. Тебя исключили, и я передумал.
– Я восстановлюсь, – бодрился я. – Съезд отказал, но я добьюсь.
– Это уже не для меня. – Он помолчал. – Теперь ты еще раз удержал меня от ненужного поступка, удержал, сам того не понимая. Сижу дома, больше лежу… Свободного времени много, захотелось написать пьесу
– Моя пьеса вам не помеха, Алексей Дмитриевич!
– Прочел и понял, что напишу слабее. Хуже напишу, а зачем?
Так я случайно узнал о последнем замысле Алексея Попова, о привидевшейся ему пьесе. Я попытался отшутиться, сказал, что хуже, чем у меня, некуда и т. д. Но Алексей Дмитриевич отвел этот разговор. Он отнюдь не перехваливал пьесу, но увидел в ней некий слепок жизни, наброски, только наброски, и спрятанное за текстом поэтическое «зерно» или тайну. Упрекал пьесу в недостаточной контрастности фигур, что особенно опасно для психологической пьесы, без опоры на захватывающий событийный сюжет. Эту мысль он развивал особенно полно и подробно, приводя в доказательство пьесы Чехова и Горького. Говорил о том, что и хорошая пьеса может быть написана в короткое время, но она будет тем лучше, чем дольше вызревала в драматурге; в серьезной пьесе непременно откладываются, сливаясь почти до неразличимости, разные временны́е пласты – мысли, наблюдений, пласты самого существования драматического писателя. Это «почти» открывается режиссеру только по прочтении пьесы на всю ее глубину, быть может неведомую и автору.
Я был счастлив его просьбе подарить, оставить ему экземпляр «Жены». «Мы еще вернемся к разговору о твоей пьесе», – сказал он на прощание.
Не довелось.
Быть может, не изгони меня из театра Фадеев, нам с Алексеем Поповым и удалось бы набрести в конце концов на подлинный талант. Но этого нам сделать не дали, слишком велика была партийная забота о драматической шелухе, полове су́ровых и софроновых, чтобы думать о бессмертном зерне.
Мы привыкли к логову на улице Кирова. Всякий день приходил наш друг, неспокойный, бунтующий, трудившийся за десятерых Борис Яковлев, таскавший с собой портфель, неподъемный от многих рукописей и разбухший от вкладок томов собрания сочинений Ленина. И он был изгой, выброшенный отовсюду, изруганный литературной печатью и функционерами партпроса, – «космополит» Яковлев-Хольцман. «Режимная» улица до поры не изгоняла нас.
Опасность подкралась незаметно. В феврале 1950 года, за месяц до выборов, зачастили агитаторы. По их бумагам в квартире проживали Вершинины – муж и жена. Светлана не возвращалась из Тбилиси, Вершинина им ни разу не удалось застать дома, – в этом было что-то фатальное. И сразу вопрос: а вы кто? «Гости. Хозяин ненадолго ушел по делам».
Агитаторы не менялись, не менялись, увы, и «гости». И взгляды агитаторов ожесточились. «Мы просили передать Вершинину – пусть отметится в агитпункте. Вы передали?» – «Да, конечно, передали, передадим и сегодня…»
По утрам, перед уходом в Ленинку, я просил Мишу заглянуть с паспортом на агитпункт, исполнить формальности.
– К черту этих дураков! – Он вскидывал руки, словно собирался дирижировать, и победно смеялся. – Вчера я был у Геловани, агитаторы на брюхе приползают к нему; почему я должен кланяться им!
– Они то и дело приползают и к вам, но не застают.
– Я никому не дам тронуть вас!..
За неделю до выборов явился участковый в сопровождении двух рядовых милиционеров и, даже не спросив паспортов, приказал в 24 часа исчезнуть с улицы Кирова.
Вершинин появился под утро, возмутился, увидев наши сборы, грозился приструнить милицейское начальство и снова исчез, а мы, баловни судьбы, к вечеру перебрались на «режимную» улицу Герцена.
Прошли еще три десятилетия одержимых трудов, рывков, попыток решить литературную судьбу одним усилием; попыток – и не безуспешных – играть роль матерого ветерана войны, воевавшего рука об руку со всеми крупнейшими военачальниками; попыток издания альманахов и сборников, в редакционной коллегии которых его имя стояло бы рядом с именами генералов армии и маршалов (и это случилось!). Ему не удалось сделать только то, о чем он втайне истово мечтал, что без особых усилий осуществили бесталанные: он не вступил в Союз писателей. Ушла молодость, ушел артистизм, борт поношенного пиджака оттягивало немыслимое количество орденских планок, увы, не обеспеченных орденами, а вожделенный Союз так и не приблизился до конца его нелепо оборвавшейся жизни. Он упал в гололед, ударился затылком о заледенелый тротуар и умер.