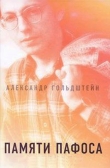Текст книги "Спокойные поля"
Автор книги: Александр Гольдштейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Черная душа Америки сказалась в рэпе, не в джазе, не в соул; ритмическая скороговорка – незапятнанная воля к насилию, качество столь же редкое, что и не проходящая безнаказанной добродетель. Из морщинистого камня лицо мать-Терезы, взгляд допотопной рептилии, все, чего не узреют глаза гомо сапиенса. Сросшийся с ликом портрет Дориана холодно смотрит в глубь своей нравственности, не разглашаемой словами морали. Апория для пристальных созерцаний. Представим, что песня без конца повторяется и слушатель лишен права выключить звук или уйти; через недолгое время он повредится умом. Это конструктивный закон рэпа – однообразная нескончаемость. Как повествования эпосов, при всей огромной величине, всего только осколки Предания, то есть всамделишной непрерывности («Илиада», намекнув на присутствие бездны, которую не в состоянии заполнить рассказом, стартует в условной точке спора о наложнице и завершается в не менее условном пункте неприбытия), так любая пятиминутная композиция рэпа прикосновенна бездонной агрессии. Певец, может, выдохся и умолк, зато тема не знает финала. Тема ненависти к белому человеку, который мешает сбиваться в кочевья, прятать награбленное, свободно брать зелья, ставить раком, щекотать отверткой и шилом, прилюдно меряться, чей длиннее и толще, объявить ислам главной религией государства и присоединить государство к исламу. Освобождение черных по Жану Жене в рэпе свершилось: от воскресной церковной долбежки, от навязанной с белого голоса любви к анклу Бэнксу из вшивой «кабины». В рэпе черное прямодушие, чудная своей откровенностью исповедь нижних ярусов расы стали достояньем всеобщности; что держали в уме, пошло на язык, что было шумом сознания, вспыхнуло речью, о чем шушукались по углам, бесцензурно продается миллионами копий.
Шум сознания нарочно взят у Андрея Платонова. В «Котловане» он лился из репродуктора власти, рэп кричит сам за себя, но разберемся, над чем тут и там бушевание. В утопии русской оплакано угасание жизни мужских коллективов – египетской, рабской, как в «Котловане», или же добровольно пронизанной отвращением к падшему веществу, коему заповедано стать нестяжательным стоном. Изнуренные мужские союзы встречаются иногда с протекающей Афродитой Публичной либо с подсушенной, исчахшей и ветхой софийностью (котлованная девочка Настя, нежизнеспособная психея социализма), но в целом женского полу не принимают. Сходно строение рэпа: мужская толпа, стая с внутренним способом размножения, отменившим влечение к женщине. Рэпу свойственно общеблатняцкое умиление Матерью («Дражайшая мама», ностальгический всхлип раненого хищника Тупака Шакура, мать питает сосцами будущих Черных Пантер), а в торговых филиалах сей музыки позлащенно пляшут блудницы, но истинная жажда рэпа – сподобиться мира, скрепленного безраздельно мужской солидарностью. Толпа может быть сведена и к одному человеку, если он в одиночке, толпа может не поддаваться никакой арифметике – неисчислимость кроссовок, широких штанов, грубых курток-штормовок и орущих, упрятанных в капюшоны голов. Суть в том, что это мужская толпа, ибо открыто воспетая утопия рэпа – без белых и без полиции – меркнет перед невысказанной, до конца не осознанной и страшной надеждой: планета без женщин, мужским общежитьем.
Они убивают друг друга; только ли деньги и темперамент виной. Есть другая причина, взваленная ими на себя ужасная ноша. Непрерывность рэпа в проекции человеческого дает смерть, и они погибают. Союзы мужчин, мечтающих отменить женский пол, дабы ничто не мешало их чистоте, заводят немедленно гибель, потому что в земном притяжении недостижимую чистоту замещает вечная жертвенность. Непрерывность и чистота возводят в храме алтарь, на котором и закалаются. Соединение плотской витальности и грезы о бестелесном (таков крайний рэп) чертит криптограмму безвыходности, раскрывая трагическую подоплеку речевок и неизбежность исчезновения. Обманутая призраком свободы, измученная приросшим к спине грузом, мужская толпа рэпа молится о том, чтобы ее уничтожили, ибо она не способна снести своей тяжести.
* * *
Когда наступает упадок созидательной воли и в воздухе носятся клочья растерзанной памяти, цивилизация, разуверившись в подношеньях Асклепию, зовет к постели своей вместо лекарей – варваров, и те наползают с границ. На осеннем ветру их телеги скрипят, как несмазанная судьба. Вислые груди их женщин пахнут голодными ртами, кричащей маленькой смертью, но младенцы рождаются вновь, резать скот, отбирая его у соседей. В прокисшую овчину закутаны варварские тела, не знакомые с солнцем площадей, теплыми термами, ароматическими притираниями. Нет у них домов, дорог, базаров, труд и обмен не пришли к их становищам. Мысль человека, согласовав свой полет с пряжей сроков и траекторией жребия, соткала покрывало для людей и богов – они встречаются в храмовом культе, в птичьем знамении о покровительстве или каре, а религия варваров, чей разум безобразен, как степь, – это жаркое мясо, это стекающий на одежду жир медведя, у которого племя просит прощенья за то, что охотится на него и съедает. Музыкальный строй дан людям для воспитания и веселья. Философия научила их думать о смерти, обостряя вкус повседневности. Боевые порядки, центурии, легионы, отображают характер имперского языка, его формулу – граду и миру. Где град и мир варваров, где их музыка, философия, армия и язык? Они по-волчьи воют на луну, сотрясая колотушками шкуры своих барабанов. Сознание дикарей не дорожит жизнью своей и чужой, ведь варвары – стадо, армия их – орда, безъязыкое скопище, бессвязное опустошение набега, восславленное тарабарской легендой, которую кричат кривые рты.
Зачем же призывают мутные орды, а они наползают с границ? Затем, что варвар – алая заря, черный виноград и свежая рана: в нем молодая кровь. Это так азбучно, что не стоило б того ради отменять сторожевые посты, разглаживая пространство кочевникам, но в минуту слабости мнится, будто не только врачующей кровью могут они поделиться, но и веденьем, знанием, которое изрекут у постели больного, за блеском забывшего о таинстве, глубине, – в том и болезнь его, в том и болезнь. Формально Дягилева никто не звал из восточной степи, он сам ворвался в грегорианское время, но приход его ответил на европейский вопрос и был инспирирован им. Европейское чувство высохло в своих берегах, возбудители приходили извне, японской гравюрой импрессионизма, африканской скульптурой кубистов, потом прустовский салон влюбился в Русский балет. Балетные были темные люди: по словам Лифаря, у дягилевской поклонницы графини Греффюль упало сердце при виде провинциального убожества и некультурности труппы. Выделяя несколько первых танцоров, Дягилев не таясь презирал потное быдло, где старшие гоняли кордебалет за пивом и папиросами. И они же были аристократией, давно выветрившейся из Европы.
К тому времени не вовсе республиканский, но обмирщенный, профанический Запад забыл о том, что прежде составляло основу его бытия, – о божественной иерархии, спроецированной на земную систему отшлифованных жестов, без которой рушится общество и раскалывается мудрость души, выражающей себя в послушных движениях тела. Кодифицированная телесная пластика, когда каждое тело знает свое место и не посягает на соседнее (это и есть Балет, или, иначе, Общество), отлетела от Запада, ибо в забвении пребывал верховный иерархический принцип – несмешения высокого с низким. В крови вымуштрованных дягилевских неучей, происходивших из менее тронутых тлением территорий – после и они взорвались, – лежала загадочная память о первообразных различающих плясках, о мистериальном залоге: тело причастно высшей законодательной силе и следует ей в балетных прыжках (так инокам и монашкам своим Гурджиев приказывал танцевать, каталептически застывать, возноситься и падать с губительной высоты, не ломая костей – кости уже подчинялись иному, неломкому). В лунатической этой пластике, в неестественных, опровергающих притяжение воспарениях, о смысле коих сами податели мало догадывались, но неукоснительно этот смысл соблюдали, был прорыв к необмелевшему руслу Традиции, к священной весне всех обрядовых действий – растоптанных, погребенных, забытых, и вот, выхваченных из черноты рамповым светом.
Ничуть не сведущая в истории, стоеросовая балетная темень одна в целом мире продолжала нести груз византийской дворцовой церемониальности и персидской мучительной роскоши, когда ложное па пред царем иль в гареме обрекается медленному казнению членов. В оргийной, не досягаемой скорбью ума дисциплине лучилось прохладное, ровное солнце петербургского акмэ, уравновесившее славяно-азийский, в том же небе фатально воспринятый буйный зенит будетлянства, с предвосхищеньем латунного проблеска неоклассики, коей не было и в заводе, – они всплеснули бы крыльями, изумившись, какая мудреность свалилась на безграмотные их тела, закаленные экзерсисом у палки. Париж обмер, когда ему показали: отталкиваясь от поскрипывающих досок, над сценою взлетало древнее воинство духа, словно танцующая Шамбала изволила открыть себя профанному зрению. Варвары предстали высшей аристократией: никто из партера не мог опознать своих титулованных предков в процессиях у сакральных урочищ, откуда вел родословную Русский балет.
Страшная тяжесть преемства раздавила бы детище в колыбели, но Дягилев жизнь положил, чтобы найти путь к освобождению, к легкости. Тучный вождь и шаман состоялся в схватке с материей, с тяготением, прижимающим корпус к земле. Это, наверное, вообще задача балета и вообще задача искусства, только мало кто с такою горячностью противился власти земли. Нюх его на художественность взращен был в заказанных прочим угодьях, Дягилев сталкивал цвета, движения, ткани, листья и лепестки, аранжировал и стасовывал символы, но главным инструментом борьбы с гравитацией было назначено летающее тело артиста. Когда Нижинского спрашивали, как надо делать прыжки с остановками в воздухе, он отвечал, что это совсем не трудно, вы подымаетесь и – в воздухе – на один миг останавливаетесь. Несчастный Вацлав, заплативший за свою склонность к полетам (как замкнулся в смирении, не доиграв ладейного эндшпиля, его пневматический родственник, Рубинштейн Акиба), меньше всего был настроен шутить, так что Дягилев понимал правду этих признаний.
Нижинский говорил о несказанном, о том, что переживается в глубине религиозного опыта, каков всякий опыт полета. А чтобы тело танцора как можно дольше было невесомым, Дягилев приближал его к своему грузному туловищу, поселял рядом с собой, в своей комнате, где пестовал, как жемчужину – раковина, и в результате педагогических этих действий, обставленных с античной и возрожденческой откровенностью, пренебрежительно ко вкусам большинства, Русский балет запечатлелся таким, каким он и был, – некающимся провозвестником однополого эстетизма. Не эстетики, повторюсь, – эстетизма: различие то же, что между прихожанами и отшельниками, между культурой и культом. Эстетика – способ видения, чувственного истолкования, приспособления к либеральной терпимости; эстетизм – законническая идеология, отвергающая жалость, снисхожденье, поблажки. Он расползся сегодня, струсил, подгнил, испорчен удобствами, дармовыми призами, легкими взятками, но самые стойкие, чудом еще не заплывшие церкви пестуют психопатичную свою наведенность, держась за рафинированный кодекс: человек здесь пошел не от Адама и не от обезьяны, а от Оскара Уайльда – со всей жестокостью этики, молитвы и маскарада.
Дягилев был Сократом для юных варваров Нижинского и Лифаря, он мял их, как воск и как глину, обучая полету, невесомости тела, умению застывать в высоте наперекор почвенной тяжести, стелющейся черноземной судьбе. Они его не предали. Бедный Ваца, не имевший ни самовольства, ни эгоистичного разума, ничего, кроме взлелеянной Дягилевым способности парить над землею и восхитительного, крупными буквами в сумасшедших повторах сочиненного дневника, не выдержал глупой женитьбы и травоедения; Лифарь восторженно поминал божество и любовника, ставши наследником, летописцем, хранителем, литературным пляшущим демоном, хореавтором видений.
Все они, от мала до велика, были неотесанны, грубы, корявы, покуда не встретились с Дягилевым и тот насильно не вытряс из них давящую тяжесть удела, возмутительную в легком воздухе пред– и послевоенного Нового Рима. Он шествовал впереди своего косного, тугодумного войска, переделывая его на ходу, чтоб, сбросив пропотевшие овчины, близ Капитолия, в скрешеньи радужных лучей очистившийся сброд надел на себя шелка и атлас. И Риму не пришлось жалеть, что он впустил их, табор и вождя, и ласково растворил в своем небе небывалый полет, – ведь они стали его легендой.
* * *
Не оторваться, любуюсь удачей фотографа. Туманящийся контур, одутловатость полупрофиля-фаса, мокрая висит папироска, это лицо твое – страх, лживость, ирония, бегство и подозрительно еврейское нечто в складках, нетерпеливых морщинах, в скошенном в угол зрачке. Меж двумя датами Луи Альтюссер у порога обители, заклинатель трудами дилогии, этого, без лести сказать, маяка, чей свет… хм, освещает… м-да… свару с компартией под руководством Марше, порожденье ехидны и ночи, кривая от извергаемых оскорблений физиономия в телескрине – мол, кабинетный профессор-прохвесор, мнящий, что заслужил проповедовать нам, людям действия, справа ж змеею Арон: задача альтюссерианства сводится, видите ли, к такому варианту марксизма, который, подавляя революционную ностальгию, приносил бы опоздавшим докторантам (актерская пауза, наверняка репетировал перед зеркалом) у-дов-лет-во-рение, одобрительный смешок холуев рифмой к дежурному хамству «Юманите», глумится охвостье, но, как ни клевещут, заслуженная неоспоримость на поприще, крупнейший, наряду с Лукачем-Грамши, новая, стало быть, троица и по-коммунистически скромная квартирка в Эколь Нормаль откуда 16 ноября откуда 16 ноября откуда и присно холодеющим утром распугивая голубей студентов зевак под осенним в дымке с погасшими звездами.
В 8.39 утра 16 ноября 1980 года в рубашке, наброшенной на пижамную куртку, Луи Альтюссер быстрым шагом вышел из спальни. «Я задушил жену! Я задушил ее, она мертва!» – кричал он, словно возгласы могли развернуть дело вспять, перестроить сложившие его элементы и опрокинуть их в сон. В конце-то концов, он не раз рассуждал о нетождественности порядка событий их сути, для истинного смысла этот порядок вообще безразличен, а если разграничить детерминацию и доминирование, то тем более невздорной была бы надежда, что крик, расколовший предзимнее утро, разобьет и его содержание. Но уже ничего нельзя было исправить. Врачи констатировали насильственную смерть 70-летней Элен Ритман. Врачи. Элен Ритман. 70 лет.
Три последующих года Альтюссер провел в психиатрической лечебнице св. Анны. Потом его душу отпустили на покаяние, и век свой доживал он в уединенной каморке на северной окраине города, изредка выбираясь наружу, неопрятный старик, бредущий невесть в каком направлении. Его навещали ученики и друзья, Режи Дебре в их числе. Судебный процесс, на котором любопытство и мнение общества одним из защитников хотело бы видеть Жака Лакана (тут у меня хроносбой, неувязка, что-то спутал иль врет обдираемый справочник – Лакан умер в том же 1980-м, вряд ли успел бы, да поздно уж проверять), не состоялся – Альтюссера сочли невменяемым, то есть, во исполнение национальной традиции благоговения пред умом, решено было не трогать его. В эти последние, затворнические годы им были составлены замогильные записки, не предполагавшееся к прижизненной публикации автобиографическое сочинение под названием «Будущее длится долго»(первоначальный титул, «Краткая история убийцы», был автором по некотором размышлении забракован).
По-видимому, это произведение не имеет аналогов в мировой словесности, затрудняюсь их подобрать. О, знал бы я, что так бывает.
Альтюссер смолоду страдал нервным расстройством, осведомляя о нем только врачей. При первых же симптомах постоянно подстерегавшего наваждения он скрывался в заранее вырытой больничной норе или в домашнем анахоретстве; так пропустил даже май 1968-го – а стены пестрели лозунгами, звавшими его персонально на баррикады, разгромы. Со временем все обременительней становилось выбираться наружу после беспамятства, теперь каждая статья угрожала быть неоконченной, и вспышки активности, когда он с прежней энергией проводил семинар или набрасывался на нелюбимого Сартра в публичной дискуссии, сменялись все более затяжными провалами отчуждения и утратой координации с миром. Если вначале его болезнь и его относительное здоровье более или менее строго придерживались договора о невмешательстве, перемежаясь неслиянными длительностями, то в дальнейшем они помутнели и слиплись, с этим он уже не мог совладать. Так рисуется его недуг в новейших руководствах, мы же предпочитаем старые, написанные крупными мазками клинические картины с изображением маятника, раскачивающегося меж темнотами и восторгами воодушевления, сполна искупающими провалы: «О Саббатае Цви ходит слух, что в продолжение пятнадцати лет его угнетает такой недуг: его преследует чувство подавленности, он не знает ни минуты покоя и даже не может читать. Он, однако, не способен сказать, какова природа этой тоски. Она терзает его, пока его дух не освобождается от нее, и тогда он возвращается с великой радостью к своим ученым занятиям. В течение многих лет он подвержен этому недугу, и ни один лекарь не нашел средства против него, ибо это одно из тех страданий, что ниспосылается Небом». Когда пускался на дебют.
На исходе семидесятых сознанием Альтюссера владеют противоречащие намерения, как будто он обязался преподать пример диалектики в границах отдельного организма. И ранее искавший союза коммунистов с католиками, регулярно навещавший расположенную по соседству с Высшей нормальной школой монашескую обитель (оба контрагента держали посещения в секрете, раскрывшемся лишь недавно), он начинает добиваться аудиенции у Иоанна Павла II, считая, что благословенье понтифика обеспечит успех задуманному переселению в Лондон, где Альтюссеру предстояло перенять у покойного Маркса водительство над всемирным революционным движением, дабы его подготовить к духовному штурму, самый образ которого был опорочен Советами и приспешниками их оппортунистической подлости. Папа доругивался с рассеянными группками южноамериканского богословия партизан и питал отвращение к марксистско-католическому единству. На сей раз, однако, волнения его были напрасны: путь Луи Альтюссера, верный в общих чертах, в отвлеченном психопространственном измерении, заблудился на местности и петлял далеко от практических целей. Нет ничего объективнее субъективного выбора, кто бы ни восславлял его в мерзлых полях.
Низвергатели Маркса извели галлоны чернил, доказывая ненаучно-религиозный характер очерняемого ими миросозерцания; в ответ Вальтер Беньямин, провозвестник грозовой историософии, испепелившей погребальные покровы, коими здравый смысл пеленал Откровенье истории, предрек альянс марксизма и теологии, и он же, в том самом сне, что повелел мне написать об Альтюссере, он, приидя в пыльном облачении изгнанника, – выцветший, с малокорректной заплаткой на левом локте пиджак, мешковатые брюки, синий голуазный дымок завился вензелем бездомья, – он тишайше, не слышней пепла, просыпавшегося в талую воду… Я узнал его по беззвучному голосу, еще по одежде узнал, как-то сразу уверовав, что пыльные тряпки – его, а лица видно не было, ни усов, ни очков. Ауратическое свечение, вдруг озарившее Беньямина по его периметру так, точно бикфордов язык, не торопясь со взрывом, позаботился прежде о том, чтобы разом возжечь всю долготу шнура и обеспечить ему сверхсрочную огненосную стойкость, было расплавленно-золотым – сущий невежда, вроде меня, тоже легко догадался б: в той из герметик, что ведает трактованием тел в их связи с горениями, этот цвет означал беспредельность умственно-нравственных сил. Слов я не улавливал и надобности в них не ощущал; нечто неопределенное, принятое мной за «тишайшее» (как я только что выразился) говорение, было самой что ни на есть тишиной. Усваивал я не слова – мыслеформы: младенец не мог бы естественней всасывать молоко, а мотор – свое масло. У церкви, было передано мне без вступления, точно мы продолжили только что начатую беседу (так марран Луис де Леон, вернувшись на кафедру из инквизиционной тюрьмы, где его несколько лет истязали за перевод Соломоновых песен, с улыбкой возобновил лекцию в месте разрыва), у церкви взять Третий завет калабрийца Иоахима Флорского, подрывное пророчество о царстве Святого Духа, взять вечность Евангелия, свобода которого есть отрицанье утеснительных законов Ветхих книг, но и буквенных преград, нагроможденных Евангелием преходящим, – это последнее тоже развеется, чтобы свет, заключенный в нем, вышел на волю, пронзил коконы, подобно распускающемуся цветку, что разрывает лепестковую оболочку. Первая эпоха несла с собой крапиву, вторая – розы, третья принесет лилии. Вспомним этот завет, отвергнутый трусостью Церкви, как же, любой ценой сохранить иерархию, социальное, знаете ли, христианство. У синагоги, сообщалось затем, но как бы и сразу, ибо изъявленное не разворачивало свой смысл постепенно, а содержало его в себе целиком и лишь для удобства облекалось последовательностью, у синагоги взять саббатианский освободительный гнозис, мистику Избавления, лиловый (небесная сеча) тиккун – восстановление космоса помощью действий земных; пора, после столетий апатии, пробудиться цфатским тлеющим искрам, довольно кружочков-сфирот на бумажных деревцах схем, распахните же окна каббалистических спаленок, где душно, спесиво спите с многодетными женами. Всюду пеленки, варят варево матери, приторговывают в мелочных лавках отцы, когда бы видели вас лурианские предки. Два горючих напитка, усваивал я, смешать в одной чаше. Марксизм будет пить из нее. Обманчивая правота врагов, трубящих о крахе учения, смущать не должна. Натан из Газы, этот, как сказал комментатор, блестящий и пылкий юноша (в золоте ауры мелькнули алые нити, сигарета в описавших плавную окружность пальцах осветила рубчик пиджака, глаза полыхнули сквозь стекла, и я догадался, что не названный по имени комментатор – вот единственный друг, который и в палестинском своем отдалении был с Беньямином неразлучен), толкуя отступничество Саббатая Цви, обратившегося в ислам якобы от нежелания быть посаженным турками на кол, предусмотрел и такой поворот. Дабы плененные искры вырвались из подземелий темницы, Мессия, распахивающий ворота узилища, должен спуститься по лестнице зла до самого дна; пока не пройдет он свой путь, не наступит искупление зримого мира, а Египет, крокодилова пасть нашего рабства, будет жрать человечину, каменщиков и галерных гребцов. Христианское самоумаленье Спасителя меркнет около апостатства еретического Мессии евреев, крестной ли смерти состязаться с предательством, так изубранным гнусью (тут, кроме факта, детали важны, весь османский набор – нож кривой, феска, шальвары и щипчики, медный кувшинчик для подмывания), что рассудок раскалывается, точно грецкая скорлупа, и тысячи тысяч, раздирая одежды, вопят в Смирне, в Алеппо, в Модене, в Салониках. Марксизм, мессия столетия, обрушился не нарочно. Собачья старость, банальная, без вывертов, измена, но, товарищи, рассмотрим вопрос объективно: нет ли в обвале том – да, да, мысль ясна – предвестья возрождаемых сопротивлений, видения чаемой чаши?
Дневной Альтюссер размышлял над ночным Беньямином; он за ним не пошел. В предчувствии кризиса дал россыпь статей о компартии, написанных ясным разоблачительным слогом, элементарность предмета делала непригодным язык нарциссизма, толкуемого то эдак, то так, словно оракул (в автобиографии Альтюссер признается, что его диалектика лжива, а доброхоты настаивают на эксцентричной выходке в духе Эколь Нормаль). Если бы во французской компартии оставался хоть один честный человек, он наложил бы на себя руки. Честных людей в таких партиях нет, ФКП не понесла потерь. После чего, до первой смерти своей, Луи Альтюссер жил в смирении, дни затмевались. Молчал кичливый Рим. Молчало Хайгетское кладбище. Студенты отказывались внимать рукописи, застрявшей на зачеркнутой странице. Голова думала как-то косо и вбок. И настал день разрыва с собственным разумом, потому что Элен Ритман была уже не вторым, а его первым «я». Невзирая на доводы о перламутровой непорочности разлучаемых голубей.
Они прожили долго, зависимость его от жены увеличивалась. Не доверяя психической норме, Элен верховодила мужем, но без нее муж бы кончился раньше. С облегчением человека, знать не желающего прозы дней и устройства их в обществе (на склоне лет теоретик рабочих отказывался верить, что на фабриках есть вечерние смены), он отдался ей в руки. Она была ему матерью, опекуном, ни одна страница не отправлялась в набор, минуя цензорский ее рентген. Вносила в текст поправки, подсказанные придирчивой совестью надзирателя, Альтюссер отрицал. Коммунистка литовско-еврейских кровей, старая, седая. В супруге видела несостоявшегося вождя революций, от этой невоплощенности союз их был горше цикуты. Он любил ее, а убив, изведал чувство в отрешенном бескорыстии. Ему нравился изобретательный, разнообразней «Улисса», стиль ее писем. Есть в тексте холодные строки о романах с женщинами, обладавшими по сравнению с Элен большим преимуществом – молодыми телами и незатейливым прошлым, но неизвестно, не вымысел ли его похождения. Все непросто, когда от простого отвыкнешь.
Почему он ее задушил (вопросительный знак просовывается в щель занавески).
Книга, открытая скандальной сценой, сценой, которую трудно читать, ибо это не только литературное умерщвление, объясняет убийство неподконтрольным заполненьем провала меж двумя темными ямами. Английский публикатор, давний Альтюссеров знакомец («я думал, что знаю его», осторожно он добавляет), говорит о клубке неумышленных следствий, приведших к сомнамбулизму причины. Альтюссер был добрым и мягким, он, себя-самого-сознающий, не обидел бы мухи, преступление произошло за границей сознания, мягкости, доброты. Мы полагаем: приникнув наконец к ночному Беньямину, он исполнил святотатственный обряд, антиномическое действие саббатианского мессии, а в том, что встретили его превратно, повинно обмирщвленное время. Слышен лишь тревожный хор поездов до Барселоны.
Сочинение Луи Альтюссера характеризуется тремя моментами.
Впервые человек его калибра и профессии выразил такой незаурядный личный опыт. Книгу сравнивали с «Исповедью» Руссо, но Жан-Жак не убивал, он даже не душил своих детей в колыбели, а методично сплавлял их в воспитательный дом. Разве что подверженное перепадам соотношение «правды» и «вымысла» может напоминать о Руссо или еще об одном литераторе, который, как писали о нем, из любви к искренности нарочно писал о себе гадкие вещи, однако любой автор с минимальным навыком сочинительства знает, что правду, даже самую (а)морально выгодную, писать неприятно, литературная форма требует сцеплений, мотивировок, это область условного, фиктивного – стиля, а не материала.
Жизнь Альтюссера, тот извод ее, что отложился в исповеди, во-вторых, представляет небывалый образчик единовременного порождения философии (то есть, если не ошибаюсь, сферы смыслового порядка) и безумия, сумасшествия. Французские философы приложили немало стараний к тому, чтобы уравнять литературу с шизофренией, нареченной миром желания, а шизофреника, человека вытесненных обществом влечений, объявить протагонистом литературности – Вседозволенного. Но философию даже французские философы не решились утопить в душевном недуге. К тому же судьбы различных мыслителей, страдавших болезнями психики, складывались так, что людям этим не удавалось совмещать работу с заболеванием: когда преобладало одно, не было другого, или – или. Альтюссер справлялся с этой непримиримым для философов и нередким для художников противоречием. Звери лесные, птицы осенние монастырской сиенскою кровью помазаны, Екатерина.
Как относиться к его построениям после смерти жены? Типичный ответ: поступок и мысль между собою прямо не связаны. «Я поэт, этим и интересен». Произнося эти слова, поэт защищался от сплетен (покойный их очень не любил) и отстаивал имманентное понимание словесности, развивавшееся друзьями его, формалистами. Установка, плодотворно-односторонняя в ту пору, сейчас потускнела. Для «Альтюссера» вольное или невольное преступление так же существенно, как самоубийство – для тотального текста под названием «Маяковский». И если утром 16 ноября 1980 года, восклицали газеты, умер марксизм, то ведь и смерть В.М. была гибелью революции русской.
Киркегор спрашивал, верить ли философу, у которого болит голова. Желчный Василий Яновский негодующе в «Полях Елисейских»: Федор Степун не мог справиться с тягой к курению и, по совету врачей, делил сутки на несколько сигареток – да захудалый мудрец из аграрной общины легко порвал бы с привычкой или дымил бы, не угрызаясь. По мнению Яновского, табачная слабохарактерность Степуна отличала его философию (допустив, что у Федора Августовича таковая была). Лосев насмешничал в «Диалектике мифа»: прогуливаясь по полю с дамой, он упрощал специально для нее теорию и, в оправданье басенных наветов, не смотрел себе под ноги, спотыкался; даму походка его раздражала, мешая следить за суждением. Алексей Федорович изображает ситуацию как пример мифологического мышления, и напрасно – он в эти минуты являл собой спотыкающееся умозрение. Очень раздражает, конечно, и то, что мыслить философски можно только в успокоенном состоянии, и много других для раздражения есть причин, как же их много. Те не оберегающие уже вертограды, оголенные ветви которых.
Литературная мысль Альтюссера в замогильных записках ходит твердо, не опираясь на костыли. Эта книга от него и останется, в ней обрел он свободу от сил, что десятилетиями давили на горло. Из всей французской философии, надеюсь, тоже уцелеет она. Памяти Элен Ритман, без которой не мог состояться прорыв, посвящаются эти строки.
* * *
P.S. Злостно промаялся, как во вступлении сказано, до рассвета, но избавлю от изложения. Что уж, ежели, сверясь с июльским листком, уткнулся в землистую неслучайность: юбилей ухода С.К. Колобродил мертвец, жалил, жаловался, бузил, бесполезен в свежую насыпь осиновый кол, подарок любящих сердец, коих звал он к себе, шевеля холм завивающимися на червивых пальцах ногтями, – какое страстное снедающее жжение, издалека режет лучом, разъедает волной.