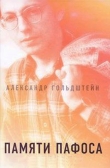Текст книги "Спокойные поля"
Автор книги: Александр Гольдштейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Ю.Т. И Ю.Н.
Тоже начало погодное, как в слове о Колымских рассказах со всеми последствиями Спокойных полей, знал бы, куда занесет. Но даже и знал бы, ничего ведь нельзя отменить и не надо.
Так вообще хорошо начинать, погода из наиболее устойчивых от нас независимостей.
Эпос на каждый день, свиток, рассказ в небесах.
Читать, задрав головы, ежеутренне, а она, как земля, пребывает вовек.
Поэтому так неточны ее предсказания. Они уравновешивают неизменность погоды, не ее проявлений, но погоды как таковой.
Июль Подмосковья, жар ухватистей того, из 72-го, когда заволокли окрестность торфяные дымы, видны остовы, скелеты, костяки советского голоцена – слепой тенью укутался разгромленный профилакторий, разъята на куски фабрика забытого назначения, не успело протрубить в горн, взмахнуть барабанными палочками опустошенное становье пионеров, битый кирпич, пыль стекольная, купол провален, издырявлен забор. Мамай и Аларих, держась за руки, за грубые царские руки вождей, медленным полднем обошли эту землю, готовя новые всходы. Скоро прошлое исчезнет совсем, есть замена ему, налитые хоромы с полусотнею пристально, в бесслезное перекрестье наблюдаемых метров хрустящего гравия меж крыльцом и вратами, с блистающей сталью укрывшихся в гротах, в бункерах экипажей, с деревянными спаленками в тулове цитадели, не иначе приглашенные волхвы китайской геомантии, гадания о почве, о воздушных путях и потоках в крепостном камне велели устроить сосновые легкие, стало быть, так, не иначе, а старое пожрется жадностью термитов, что совершается, что уже несомненно, что как бы не отменить, но сквозь победный пейзаж подмечаешь. Комарами зудящий подлесок, пчелы сонно елозят в смородине, пьют красный дурман, жук в чашечке цветка предрасположен солнцем к медвяному пылу. Шлепок ведра на веревке разбивает колодезное темное зеркало. Собака лапами и пастью гонит мяч. Пенсионер, чья разведенная дочь у сарая (сырость, поленница, грабли, топор) обнимаема среднего свойства приятелем, кряхтя надевает пятнистую майку, вешает на облезающий ствол рукомойник. Дети не угомонились, грязными ногами по выметенным половицам. Ягодный чай на веранде, закат, смех возбужденный и разговоры. Неистребимое, вечное, будто запах вареной картошки, огурцов малосольных, флирта, греха, табака, и стоят прежние, середины столетия, бревнышко к бревнышку, дачки, омытые радиоголосом, радиохроносом, над сухими морями неусыпностью маяка. Московское время, провинциальная милая грусть, это цитата. Ноет, змеино поет, качая пространство, бензопила по воскресным, кривой воздух плывет. И подгнившая стенограмма партсъезда в чулане. Его Москва, ибо за городскою границей смысл и душевная этого города суть сильней, ощутимей в значительных знаках.
Ю.Т. спускается в сад. Оплывший облик несет маску брюзгливого отстранения. Он утомлен, но не зол, утром поработал, три, хоть в набор отдавай, готовых страницы. На нем солидный, в спецлавке на зарубежные гонорары купленный дождевик, добротные, германского производства, ботинки, которой Германией (лекции, встречи с поклонниками, обзорное путешествие) скрупулезно расщедрился Евангелический союз «Словесность после Биркенау», шарф греет горло, трубочкой «Правды» оттопырен наружный карман. Линза увеличений, скользя за неловко бредущей фигурой, ловит на бумажном уголке муравьиную сыпь точной даты, 9 октября 1978 года. Едва ли в названном выпуске Ю.Т. надеется найти очерк огней, спаливших областной торфяник в августе 72-го, газета почти или совсем не писала о зареве даже во дни багрового мрака, она, по обычаю, писала в ту пору о чем-то другом, скупо удержанном памятью, чего-то иного, тонущего в мареве безответного вопрошания, от нее можно ждать и спустя шесть сезонов, обративших горелое лето в такой лютости зиму, что полопались батареи, только языки конфорок противились окоченению.
Предположим, что «Правда» обогащает Ю.Т. чувствами из области атмосферы и подспудных стремлений общества, в легальную печать натекавших косвенно, в обход, от противного, посредством так называемых недомолвок и умолчаний, но о чем нельзя говорить, и вообще все неясно. На протяжении часа прогулки газета покоится недвижимо в кармане. Он прислушивается к биению сердца, ритм ровен, не частит, без мерцательных отклонений, большая удача. Грузное тело дееспособно еще, не как раньше, конечно, когда играючи кололо дрова, переплывало реку, пило в сорокаградусной Азии водку, охотилось на женщин, ан жалобы впереди, с коллегами хуже. А воздух над Москвой наполнен дымным адом. Сочинил, кажется, Сумароков. Преувеличил, однако не исключено. Прозрачный, не испорченный старомодной экспрессией возглас. В противоход страху прикидывает вероятный срок, лет еще девять или одиннадцать, занижает он суеверно, никто не счел бы чрезмерностью; неправильно, всего два с половиной, но ошибаемся, заранее извещенные о финале, и мы – в тот момент дверь оставалась открытой, кости никто не бросал. Отрадно усталый, он шагает назад, пять ступенек, прилипшие к башмакам комья глины и листья травы отираются тряпкою у порога, ноги в теплые шлепанцы, плащ на крючок, утренняя шероховатость машинописи поймана вымытыми после прогулки глазами. Обед, вялость, астеничная молвь в телефоне. Бессонница, недовольное чтение. Таблетка, привередливый сон.
Умер вовремя, рапсодическое соединенье с эпохой дало завершенную чистоту рассказа о ней. Точка поставлена (так иногда говорят) в самом конце меланхолии, вот оно что или что-то еще. Кстати, я не сказал: перед тем, как взойти на крыльцо, Ю.Т. подобрал две влажные грязноватые шишки и бросил их в разожженный вчера, на рассвете прибитый дождем костерок. Отскочив от доски, они вернулись в семью им подобных.
Были годы во дворах, в коммуналках, на стадионах, на пляжах, немаловажные для тех, кто их перенес, безо всякого смысла для остальных; последних давно большинство, поэтому никому ничего не нужно. Не нужно что (вопросительная закорючка снялась). Не нужно это (не будет и точки) Жаркий, пропахший веселой вонью железнодорожный перрон исхода тридцатых, старший пообещал младшему сводить его на авиапарад и сгинул, не выполнив, в Киеве. Монах соседу: как жестоки обычаи некоторой секты, верно, отвечал монах-сосед, но будь они мягче, это была бы другая секта. И всюду кровоалчность, здесь и вокруг, следует запись чуть ниже, правей, на юго-востоке страницы. Сирень обступает теннисный корт, где применительно к сумеркам, позлащаемый лиловатою лаской, зачехленной поигрывая европейской ракеткой, обнаруживается набриолиненный, смуглый от загара некто в английском, мягчайшего руна, пуловере и нерусских штанах, вкрадчиво беседует с девушкой, отрицательно качающей головой, по праву знакомства бьет ее по лицу в такт половой несговорчивости на дальнем конце площадки, такое впечатление, что кому-то будут задирать на голову юбку в кустах, откуда со спущенными штанами, гордясь рубахой апаш, ползет фиксато-улыбчиво такой-молодой, ему славно, приподнято даже в грязных и спущенных. Взяли приступом электричку, известно, как делают приступом, постарайся, чтобы не затоптали внутри, не безопасен и край, коли разогнанный корпус о твердое, равновеликие шансы о дерево, сталь, не приведи господи, рукоять или штырь. Потом, озябший, в капустную кухню, слышишь, вон за той керосинкой рыдают, это литературно – рыдают; слезы и сопли, надоедливый всхлип. Упарился – фортку открой, в окошко взгляни, как малец, высокому за спину заскочив, сложился, присел, третий высокого резко так в грудь, еще один, к добиванию из крысиного угла набежав, лежачего по голове с размаху ногой, человека непросто убить без оружия, этого удалось. И сам собой возгорается в урнах мусор, до войны чаще, чем после, такой, стало быть, символизирующий символ, не символ, болезненное постоянство образа, картины, наведенного наваждения, точней всего объясняющего – нимало не объясняющего, и отнюдь не точней – зримей, маньячнее, гипнотичней.
В поздних поэмах, в занавешенных приютах зрящего вспять Танатоса он не способен изъять сон из сна и дает их спутанным клубком, зарослью, темной гирляндой, полагаясь на межеумочную, ни явь, ни призрак, за-память. Чопорной склеротической крупкой присыпанный классик, проступающий нарицательный федин, курульный эдил словесности Константин находит себя в цементном полуподвале за четырехгранным столбом, сверху шум, шевеление, сдержанный топот, и устремляются люди, легион бегущих тел, спартанцы с повязками на глазах. Те же, что на обложке Юнгерова «Гелиополя»(не по-немецки, по-русски), только в казематном еще утеснении, затем уж вырвались наружу, к свету, без повязок, освободясь под храмовым солнцем, тот бронзовый, олимпийски ужасный напор. Школа с прибитой к фасаду доской, школа ЛОНО, ленинского, значит, района отдел наробраза, алая сочащаяся нашего детства, там клокотало наше вожделение, роняет поэт. Мимо подпрыгивающей походкой кто-то в берете и повторяет: школа ЛОНО, школа ЛОНО. Школа-ло-но?! Так назвать школу. Несчастные дети. Прыжком, с птичьей легкостью взлетает на узкий высокий гранитный барьер, идет по нему прочь, балансирует, глухо твердит. Это близко мне, близко, в аллее приморского парка я лет двадцать назад встречал мятого, как бы с невыспавшимся женским лицом постояльца, который, бродя меж скамеек блицеров (бледный толстяк играл восхитительно, сардонически жертвовал, атаковал), бубнил: «Зачем тебе эта пожелтевшая?»; как жаль, что я постеснялся узнать, кем она была или чем и отчего пожелтела.
Мы делали авиационные моторы, гласит поэма. В цехе погас свет, все примолкли, тут почувствовал он руку женщины у себя на плече, на щеке, на губах и обрадовался. Затем электричество вспыхнуло, ослепив мгновенно отпрянувшую, жалко улыбавшуюся горбунью, она работала с ним в цехе. Горбунье не повезло, Нечаеву тоже, в нем достало бы ярости испепелить землю, страну – истлел в равелине, и гениальный провалился побег, как вышла наружу двоякая мысль неприметно-чахоточного, по сию пору загадочного Клеточникова (никогда не суждено той загадке открыться), то ли завербованного бомбистами в осведомители, то ли в охранку пошедшего добровольно, выдавать ее тайны бомбистам, Желябов начинал хорошо, а повесили поутру, в балахоне, рядом с нею, как в простынях, это, по-моему, перебор, ну и Прыжов. Писал о нищих и нищал, о кабаках – и спивался, высшая форма словесности, брать то, о чем пишешь, становиться субъектным объектом, перенимая самонужнейшие линии, вот уж искусство любил, не себя только в нем, а с другой стороны – тоже излишества, даже и вредная вычура, нарочитость, и задиристое попервоначалу квазинародное щегольство унижением стало просто униженностью, чернотой: рубище, игрецкие шуточки за копейку, припрыжка мартышкина, какую усвоил, подбегая к стаканчику из полуштофа, о каторге не говоря.
Все проиграли, в яму до срока улегшись, даже провидческий, истину напророчивший мальчик, медиум исторических крайностей, скорбных бесчинств, но эти, включая и отрока, хоть следами, бороздками продавились в глине и воске, а сколько непробудно пропавших – много, несчитанно много, колышется братский курган. И я так вам скажу: никто ни полсловом о них не обмолвится, ухнули навсегда, вот с кем беда, колотились, грязнили водицу, сбивали сметану – напропалую исчезли: сороковые урядники, им вдогон непородные кузова выдвиженцев, габардиновая, макинтош к макинтошу, шеренгой обслуга, спириты салонов, гостиные вольномыслов, кавказский, на азиатском строительстве, весельчак, который, празднуя, что ли, получку, какие-то левые деньги, танцевал, помавая руками, на каждой десяток пар часиков вроде дамских браслетов, той же ночью зарезали, близ туркменского, ко всему равнодушного мастера национальной борьбы, одиночки попутного стихоплача. Клыч Дурды его звали, пьющий водку толстяк, я когда-то читал. О них памяти нет и не ждите, не будет, и о тех, кого якобы помнят, – обрывки, клочки. Я Прыжовым зачитывался, «Двадцать шесть московских юродивых, дур и дураков», «Нищие на святой Руси», «История кабаков в России в связи с историей русского народа», мог экзамен сдавать, а теперь названия смотрю в словаре, крохи, жалкие крохи застряли, про Ивана Яковлевича Корейшу, из-под которого текло, Данилушка Коломенский не желал носить сапоги, еще безымянный затейник, что с криком «Искушение, искушение!» кидался на арбуз и весь его в один присест поедал ради праведности. Дальше туман, я даже Ю.Т., за вычетом слога и настроения, больше не помню. Он сам, навязчиво вспоминая, обо всем забывал; важнейший, сквозной персонаж, или пять глав томившая драма, иль неотступная местность, и вдруг на тебе, забвение, пустота, лишь гораздо спустя, в придаточно мимоходной строке – человек этот умер, драма давным-давно рассосалась, местность переменилась и заселена чужаками. «Невероятно до смешного: Был целый мир и нет его», – изумлялся под старость, над собою и миром глумясь внутренним хохотом, эмигрантский поэт, интимно со всякой мерзостью связанный для остроты понимания.
Поэтому никому ничего не надо. Москва обступает нас, словно лес. Мы прошли его. Остальное не имеет значения.
Пораженчество искусства его истолкую во-первых и во-вторых. Во-первых, существование, литературно, по крайней мере, оформленное, казалось ему юдолью, изредка прорезаемой страстью и вожделением, красными, как выводящий и проводящий наклонный тоннель в аэропорту Сан-Диего, как бархатная с багряно сгущаемой тьмою труба в летном доме свиданий, прощаний, велюровая, медленно заполняемая кровью труба; страсть бесцельна всегда, вожделение – кто его знает. Вторая причина подробнейшее, сверхобстоятельное письмо. Победа, рассказанная со всеми подробностями, неотличима от поражения. Подробность и есть поражение, это его знак, победа не знает деталей. Жизнь глотать надо быстро и не приглядываясь, как селянку в трактире. Худо-бедно терпима, пока прозреваешь вполглаза. Если ж и самую чудную жизнь обстоятельно, не выпустив мелочей, описать, то проклюнется сумрачность. Без гадкого умысла, повторю, описать, добросовестно и внимательно, даже и преклоняясь перед ее красотой. Таково свойство зрения с предельным наблюдательным курсом. Когда бы Ю.Т., изображая условия человека, да хоть бы и многих людей, ограничивался девятью, ну девятнадцатью деталями расслаивающегося от его пристальности времяпространства, сквозь частокол удалось бы еще просочиться, у него ж их пятьсот тридцать семь, восемьсот сорок пять, так что жизнь пропадает, теряется, этот лес нельзя пересечь. История не жестока, будучи всеохватной, всепроникающей данностью, она вне оценок, вне отношений и пожирает вслепую, без выбора, как циклоп мореходов. История безразлична настолько, что не перечит и тем, кто разматывает-мотает клубок, тянет нити, запутавшие Народную волю в бесформицу донского казачьего бунта, в невеликой надежде отделить Малый театр от охранки двойного лазутчика.
Цензура не вредила Ю.Т., поэзия умаления, иссякания, убывания, стихи о погубленных судьбах обещали нескончаемое перечисленье примет, нанизанных на бечеву резиньяции, отнюдь не прямое и громкое окликанье предметов, и если печальной реке пришлось раз или два чуть-чуть сжаться в русле своем, она стала только полнее, тревожней, словно в глубинах ее зародился гудящий содружеством темный призыв, как бы голос далекого, с самого дна, минотавра – к затурканным душам на берегу, замершим перед нежелаемо-страшным освобождением. Необходимость умалчиваний потворствовала психике письма, даря тайну, власть и смирение. Цензура мешала Ю.Н., тот ощущал себя разбойником и хотел рассказать правду о теще с желтыми откровенными волосами – дождался, сбылось, все получают свое сообразно чему-то. А доискиваться причин мы не будем.
Все, здесь рассказанное, рассказано про Ю.Т. предпоследнего и последнего срока. Сын убитого русского военачальника и еврейки из революционной семьи, он провел сирую юность и в 25 лет прославился пухлым графоманским дебютом. Получил премию, купил дачу, машину; из тщеславия женился на оперной диве, развелся; много, не сознавая себя, сочинял. Поэтом стал поздно, свершившийся переворот не постигается разумом. При жизни мизантропический тяжелодум издал почти все им написанное. У интеллигенции был с ним роман, после кончины обоих они это забыли.
* * *
С течением Лет я ее представляю броненосным жиртрестом, плавучей, когда не стоячей, фабрикой-кухней объедков, прежде чем выбросить на прилавки, их успевали немного поесть. Самую малость слегка отрыгнув, ерунда, твердый ценник на расфасованном сблеванном, пищеблок вот-вот должны вынести в отдельный от выгребного дна дачный массив. А крысу, что сгрызла кусочек, уже отравили, по чистой случайности сброшюрована вместе с расстрелянным сыром, ошибаетесь, телефонный диск за углом. Одна, без товарок, и тем же стрихнином посыпали синюю птицу.
Не аллегория – литература. И не дерюжно-камчатная речь византийства вдали от Босфора, но из позднейших времен лучезарная мракобесная подрывающая услужающая какая угодно почти беспрозванность (невзирая на имена вожаков легиона), продолжение классики на ее гнойном распаде. Лефовец П. погорячился по молодости, что второе пришествие классики невозможно, как невозможно вообще второе пришествие, самого потом за уши было не отодрать от трупа товарища М. Все совершалось под знаком совокупления с мертвыми, ими клялись, к ним влеклись, от закоснелых клятвопреступников и растлителей, нуждавшихся в комильфотном блезире, до агностиков на покаянии, до нешуточных возродителей праха. В пестрый венок вплелись стоны о потопленьи деревни, потекли страхи, городские, бесцветные, страхи на службе, в постели, за чаем на бахромчатой скатерти, зеленовато и влажно мерцавшие Гончие Псы отразились в оброненной на опушке пустой поллитровке, морозный бунт растопил стылые души – это была их, наименее прокаженных, словесность, их, самых проникновенных, яснобунчужный удельный улус.
Ю.Н. жизнь проработал писателем, копиистом дворянской манеры набегами в просветительный очерк. Разоренные гнезда, вальдшнепы мещерской охоты, опевают зарю петухи, незнобкий, с распахнутым воротом Р. воздымает аккорды, в звучании коих, бормоча из Ларца, хватается за сердце А., попечитель вокзальных ступеней, все поэты бормочут погибельно в ночь, лабиринты окрашены предвоенной Москвой, всюду в городе были пурпурные, жемчужные отблески, от них-то и разливалось томление силы, вечером или того сильней, на рассвете, когда счастливо возвращалось неутолимое тело, для вас уже отлиты пули, прорицает подруга у патефона, сценарии, публицистика, большеведерные коромысла поденщины, которую он научился выделывать, как свою безотказную прозу, в день четыре страницы, даже когда умирала мать и он умирал с ней.
Слово он чувствовал, десять, двадцать, сорок лет кряду вываливая в печать благоуханно задуманные, породисто выписанные суррогаты. Не меньше того восхищался куражной, вакхической жизнью. Гея и Эрос не отдыхали на нем, и он воспитал себя в драке, в гулянке, в любви, бретёром сиреневых времен коктейль-холла, денежных, мелом запачканных бильярдных, храпящих и вспененных лошадиных бегов под пиндарову оду с портвейном и колесничим, а за девочек в туфлях на микропорке приходилось махаться с охальными коллективами; таким и остался, разве что с возрастом и солидностью опрокидывал столы в ЦДЛ (ликующий взвизг подавальщиц), по бойцовской привычке быстро кончая того, кто в очках, потом принимаясь за прочих. Ему нравились мощь, натиск пола, обрамленные высокопробной учтивостью, он знал толк в своем ухарстве, упрямом изяществе овладения, женщин никогда не было слишком много, они выходили на свет, чтобы Ю.Н. зря не тратился в поисках, а он им показывал, мол, суетиться не надо, все ясно и так.
Барин, забойщик, богач, чародей трудозанятости, том за томом объедков с чужого, ставшего общим, стола, четыре страницы разжиженных ежесуточных подражаний, не угрызаясь, гордясь всепогодною мощью, но что-то стесняло, корежило, портило начинавший подрагивать, дребезжать аппарат. В нем больно ворочался, стальными конечностями задевая за сердце и легкие, какой-то другой человек, который плевал на собачий оброк, обожал селина, и джойса, и сверхнатурально, до внечеловеческих граней простертого музиля, чье имя Ю.Н. впервые услышал в окопе от чопорного, не выбравшегося из мокрой земли книгочея, поверенного венских дворцово-библиотечных пожарищ (и вот несут, глаза в тумане и в жидкой глине сапоги, а в левом боковом кармане страницы музиля в крови), в нем, говорю я вам, больно расположилась какая-то чуждая, посторонняя тварь – недостойно выказывая злобную проницательность и отклоняя ставку на падаль. Он ненавидел ублюдка, ибо тот, смеясь, рвал изнутри, но втайне пестовал, обихаживал, покамест за неимением лучшего потчуя проспиртованной печенью, дабы урод, когда выйдет наружу, а Ю.Н. был уверен, не отлипал бы от мяса и крови, единственно крепких для слова. Подонок был сладким секретом, подпольем, сберегательным выблядком. Погаснут колючие звезды, заря сменит ночь палачей, только что, по возвращении автора за госсчет из европы, сдавших в набор два стотысячных его тиража приплюсовкою к по(д)тиражно-сценарным, и на распаде властительной мерзости Ю.Н. выпишет все, что вслепую вымарывал из него государственный мрак – расовые и половые закруты, непотребство оценок, смятение юности; все имена и запреты, золото ее проклятых, доводящих до самоубийства волос, округлую дароносицу живота, излитие семени в тот одинокий раз у окна, венчающий помешательство непокоренного лона и воздержания, он скажет все слышите да скажет все.
Чепуха, ни во что он не верил, ни на что не надеялся. Он был в нем собою другим, тем, кто, глумясь, презирал плебс, любил слово, циничную похвальбу удовольствиями и помещичью волю. Гад выполз наружу, когда все кругом закачалось. Сперва удавалось Ю.Н. не ахти, он все же отвык от свежатинки и, привычно подмешивая к ней отбросы, достигал, максимум, разухабистых поношений. Но вскоре, насколько позволили навыки, освободил себя от натужного обличительства и от квелых импрессий, дав выход ярости и отчаянью. Можно ведь догадаться, откуда печаль. Отвратительно хамство земли, неприятен народ, сжимающий охотнорядский кистень, Ю.Н. долго не знал, кем считаться, русским или евреем, а как вызнал, счастье уплыло по невозвратной воде, да это же умственность в пользу бедных, для отвода глаз и дерущихся рук, истина проще, суровей. Не дали стать автором на разрыв, с гневом в устах, с неприличием в жестах, не дали ни в молодости, ни потом, хотел, смертельно желал, внутренне ощущал – не дали, а он согласился. Вот откуда печаль, и волнение нервов, и возвращение в крымское солнце, к женскому телу на гальке у моря, к женскому телу, скользящему от виноградника к простыням, к собственной непоруганной, что-то еще обещающей гибкости, навязчивая, до красных пятен в глазах пристальность утомленного, все же не сдавшегося, совершенно все же подавленного сибарита, везунчика, неудачника, ломового на ниве, слишком поздно, слишком предсмертно, только когда разрешили, выпустившего наружу урода – баснословного, негодяи, красавца, вам, подонкам, не снилось: в остроге намаялся, не успел погулять, а винить-то, винить-то кого, отвечайте. Ушел спокойно, во сне, вычитав накануне машинопись завершительной прозы. Работал на закате одержимо, намереваясь, кажется, многое наверстать. Многое, многое наверстать. Кажется, если не ошибаемся, на закате.
Ю.Н. в саду за столом. Горки блинов, рыбья обоего цвета икра, старорежимные кушанья и напитки. Старый режим обвалился, накрыв вскормленную печать. Ю.Н. принимает гостей, похоже, из новых издателей. По слухам, Ю.Н. вложил личные средства в пятнадцать томов сочинений, и если бы Ю.Н. не умер, то мог бы быть разорен. Он смотрит в кадр молча, так что слышна его плавная речь с мягким дворянским дефектом. Лицо мурзы и певца одухотворено широким неприятием почти всего происходящего. Степная роскошь поколений напечатлелась в повелительно-хлебосольных чертах. Светлые глаза сияют детской удивленной жаждой. Сосны шумят наверху, не торопя, провожая. Усадебный ветер шевелит седину.
Два бессмысленных отражения бессмысленной несоветско-советской души. Чего ради я их отразил, пусть покоятся с миром, лежат где лежат. Посвящается Толе Портнову, говорившему, что Москва, Подмосковье, кольцевая Россия не снег, не мятель и не зимние сани, не синий слабо светящийся и постанывающий и посвистывающий призматический или не призматический лед, не замерзающая тоскливо-гортанная лебядь в оставленном бежавшими гвардейцами пруду, но летние жары, горящий торфяник, чадное задыхание пузырящихся газированных улиц, спасения ищущих в соснах, в сосновом убежище дач. Мороз панцирь России, Руси, под ним жаркодышащее в дыму, зной в Тель-Авиве дымится иначе, нежели подмосковный июль. Расплавленное в ковше для слепых и слепящих металлов, море бликует, рябит на разрушаемой желто-соленой стене кинотеатра «Артемидор», намоленного прозрителями с воспаленными от недосыпа глазами, из Варшавы, из Лодзи, из Вильны, в годы всевласти английской и свободного проезда к Бейруту, во дни повилики, сосущей зелень и сок; дом торговый, солнцем блистающий дом взойдет на руинах. В пробковом шлеме коржавый производитель работ кроет бригаду засохших румын.