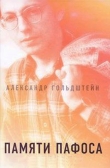Текст книги "Спокойные поля"
Автор книги: Александр Гольдштейн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Так оно было, наверное: центр конспираторов, порученцы в мышиных мундирах, какой-нибудь занебесный ашрам, где, сбившись в кружок, лепечут махатмы, и решено уничтожить художника – в притче хасидской Зло отворачивает от постоялого двора хворого мальчика, дабы умер в дороге, не стал бы мессией. Для чего им понадобился внезапный удар, замаскированный под опухоль сердца, в чем провинился баловень дарований, музыкант, председатель поп-механических оргий. А чтоб лишнего не болтал, не выбалтывал лишнего.
Слышны отзвуки великой битвы Богов и Титанов, говорил он, проступит другая цивилизация, старые кумиры культуры падут, а идолов новых не будет, потому что и время изменится, потечет в ином ритме. В противовес многим, те немногие, к числу которых относился Курехин, чувствуют переборы тьмы и волнения воздуха, разгоняемого незримыми крыльями; пока что, он продолжал, в космосе рождается Существо, оно явит свой лик, и привычная констелляция ценностей рухнет пред ним, от него. Это, решил я, вагнеровский помет и замес, обновленное человечество, раса артистов, сам же Курехин есть волхв, мистагог, о котором пророчили в Байрейте, в Дорнахе, но потом обнаружил гностическую перспективу. Смена циклов, эонов, неизбежность того, чего словом не выразить. И открывается самый жгучий курехинский враг – материя.
Художники различаются также и тем, за и против каких идеалов они выступают. Одни ищут общественной справедливости, им нужна не Европа банкиров, а Европа трудящихся, и чтоб расплатились за работорговлю, такая им нужна справедливость. Другие стараются не допустить искривления рек, мечтают заштопать девственность Озера и Деревни, бредят природой и национальною чистотой, их враг – загрязнение. Третьим мила дева Корректность, они защищают от белого большинства независимость третьемирных – в позлащенной Европе – меньшинств и ждут, когда те переполнят стогны прощального Рима. Четвертые думают, как уберечься от моды, толпы и торгашества. В подмогу им пятые, мечтающие обнести колючим железом партер. Шестые, девятые, двадцать третьи будут названы завтра. Но мало кто ополчается против материи, в чем была миссия Сергея Курехина. Современное искусство, он утверждал, пребывает в маразме. Этим походит оно на политику, политику с растраченным измерением. Искусство отвергло одушевлявшую его некогда этику невозможного и тем подписало себе приговор. Но невозможное существует, потому что мы его ищем и ждем. На путях невозможного претворяют тварность в свет, одолевают косное вещество, возносятся над гравитационной рептильностью – чудо освобождения от материи, освобождения (от) искусства. Само по себе искусство, твердил он, не так уж значительно, оно будет смыслом и властью в том случае, если станет ветвью универсальной культуры. Парижская коммуна оказалась дерьмом, а Рембо правильно сделал, что ее поддержал, так было сказано. Партия, которую поддержал Курехин, аналогичного свойства, он тоже вступил в нее справедливо; демократический принцип для жизни хорош, но искусство с ним задыхается, как куриная шейка в руках Альтюссера.
Художники не сходствуют прежде всего в степени своей готовности принять невозможное, в своем отношении к падшей материи, ожидающей превращения в свет. Обычно это называют утопией, но чем утопичней мыслит художник, тем реальней его смерть и работа, как же иначе, ей-богу.
Несколько строк еще по линеечке, всплыли призывы его, из последних, к двум безднам. Чтоб получалось искусство (не нынешнее – идущих времен), буквального, без аллегорий, требовал взлета под купол, туда, где, окруженное звездами, в невыспавшейся ласке пробуждается Существо, а также братания требовал с организмами, кишащими в илистой тине. К промыслу этому человек непригоден, значит, сменится тем, кто придет. Позорно затянувшаяся эволюционная неподвижность побеждена будет производством дремучих гибридов, упоенных, застенчивых, нежных, корявых, со штемпелями блаженства; хрен редьки не слаще из глаза, кисть семипалая роет в желудке, пенится телепатией мозг, по коже сквозит наслаждение. Эти сдюжат. Тема «Голубого сала» и «Элементарных частиц», предрекших конец человека, рождение новой биологической расы (Игорь Павлович Смирнов, клянусь, что сам додумался и сравнил, лишь оценку вашу оспорю: отчего-то не кажется мне, что «Сало» – на высшем, в сопоставлении с Уэльбеком, уровне изощренности; это, напротив, в реабилитации холодного нигилизма «Бувара и Пекюше» есть смелость, и ее нет в прослоенных китайщиной псевдо-сталине с псевдо-хрущевым). Человек исчезнет не фигурально, не как лицо на песке, смытое океанской волной. Он отступит под натиском счастливых химер, се буде, буде, заклинал усохшее время отец Паисий, зная про надвижение ошеломляющих, зачеловечески необычных искусств.
P.P.S. И вот вторая башня провалилась, в разрухе Город, вношу исправления. Стоит еще ветхое человечество, рано списывать со счетов. Живо искусство его. Художественное действие неотмирной мощи пало на аккуратные головы, убаюканные идеей вселенской негоции – деловых разговоров, консультативных переговоров, двояковыгодных договоров («диалог» – это верховное божество их объевшегося индексами и котировками пантеона). Психический состав действия тот же, что у всякого большого творчества старой школы людской, – одержимость, принесение жертвы, готовность все поставить на кон, всем и всеми до основания поступиться. Ослепленная, не видящая ничего иного душа возводила гигантские храмы, она и обрушила их. Когда я затеваю здание, то прикидываю, красивые ли из него получатся руины, вещал архитектор. Неправильно упрекать в плагиате, мол, содрано с фильмов врага, приспособление киносхем апокалипсиса: и образы картин, и настоящий, экраном миллионократно укрупненный взрыв, для экрана и предназначенный, с грохотом вырвались из общего для всех сна. Хрестоматийного сна, где вершатся кощунственные, бегущие тяготенья поступки, того самого сна, который парижский сновидец, водя у собственного горла бритвой, ставил в пример измельчавшему творчеству и разбирая который венский целитель задавался вопросом о моральной ответственности. Но фильмы, эти образы показывая, в них не верят. Им кажется, что это не всерьез, так, фантазийный блуд, невинный мазохизм: увидеть в красках гибель, чтобы слаще было возвратиться к жизни, ну и врачующая компенсация, от дурных желаний, каждому и массе в целом свойственных, их переброс в публичное зрение, где устраняется зло. Фильмам кажется – этого не бывает. Это безопасный, развлекательный сон, его специально показывают, подчеркивая отделенность от яви.
Люди, обесчестившие Город, доверились реальности своих снов. Памяти о полетах, свободных от гравитации, о легкости паренья над крышами, о сбывшихся желаниях и огненных столпах. Структура, слаженность, конспирация, далеко раскинутая сеть – не в этом ужас, вспышка, пепел. Главным было наитие, что сумасшедшее действие осуществимо и невозможное возможно, так проникается сверхчувственной реальностью своих абстракций математик, они плотней, весомее всего, из чего слеплена обыденность повседневья. Надежда на однополюсный мир бессмысленна, потому что полюсов два. На одном – доказательность, порядок символических опосредствований, технологии, римское право, моральный закон, тщательно охраняемые музеи почивших в Бозе искусств и религий. На другом – искусство веры в невозможное. Вера как таковая. И как таковое искусство. Исход битвы не предрешен.
P.P.P.S. День спустя услышал по радио Карлхайнца Штокхаузена, пугающая перекличка. Проклятие, строчки не написать, чтоб не аукнулось повтором. Поди докажи теперь, что не плагиатор, поверят точно не мне. Оба мы сукины дети, коллаборационисты словес, упадочные римляне, способные ради нарядных каденций облить помоями самое дорогое, культуру нашу, во тьме погибающую, до чего, господи, жаль. О, небоскребы огней потребительских, банкнотное вежество галерей, текущих в распростертые эстакады и залы с голубой сединою мехов, изумрудными жемчугами, благовонными притираниями, так мечтал погулять в кирпичных аллеях, среди квакерских елей, просквоженных голландскою влагой с Гудзона, зелень и ржавчина, пел дымный джаз незабвенный рапсод, где еще приголубят, библиотечную выдадут книжицу, формуляр, обмазанную кетчупом отбивную на салатном листе, где еще выкрикнешь в разрыв облаков «я видел лучшие умы моего поколения убитые сумасшествием голодные в голой истерике»… Отчего же я так? Да что я, он отчего же, он, штейнерианскими сияющий очами музыкант, струнный квартет для четверни вертолетов? Истина дороже? Ха. Может быть.
Как давно это было. Четыре, пять, шесть лет назад, а исход все неясен, неясен.
Здесь завершаются эти профили освобожденных, но мы к ним вернемся или нас к ним вернут.
Комета Гонзага
Спасайся кто может, пела птичка в золоченой накидке.
Прежде казалось – помогут, теперь – только сам, только сам.
Юнгеру морфий рассек чтение «Тристрама Шенди»: вчитавшись в роман перед атакой, был поднят приказом, ранен, получил свою долю обезболивающего, продолжил чтение измененным умом и навсегда вступил в клуб шендистов.
Мне морфий разбил надвое Юнгеров «Гелиополь».
Правду сказал русский писатель, угрюмый, с высоким морщинистым лбом и опущенными усами разгульник: морфий царь наркотиков, он разлился внутри медленным осчастливливаньем. В знойный полдень галерник, убитый работой, похищен с невольничьей барки прохладными, сокровенно прохладными водами Нила, объят ими и воскрешен. Много ночей меня мучили сны о несдержанных обязательствах, нарушенном долге, стыде и вине, постыдной вине: я нечто обещал и не выполнил, суетился, теряя равновесие, изнемогая под судом нравственных кредиторов, чьи права на меня и презренье, питаемое к моим жалким потугам, представлялись неоспоримыми, тогда как мои отпирательства – уверткой обманщика, что изнуряло хуже предстоящего, будучи как-то с ним связанным. Морфий сделал сны легкими, царственными. Третейский арбитр в изысканных диалектических диспутах о порядке престолонаследия, я с неутешным отрядом сторонников искал, дабы предать христианскому, воинскому погребению, на зимнем подмороженном поле останки герцога-храбреца, павшего за честь рыцарей и баронов, сминаемых троном, лисицами рыскали и нашли спустя три часа, под ощеренной желтой злорадной луной, вмерзшего в лед лицом, губа, часть щеки оторвались, когда его отдирали, то, что осталось, нельзя было уже назвать лицом; услышал гниение, признак величия, в опочивальне итальянского короля, отходящего среди кружев, цветов, образов и свечей, – возвышенный, укрепляющий запах, коим дышал я наутро.
В паузах деликатные интермедии, слоистыми пеплами, листками папиросной бумаги, что укрывали в старых альбомах ценные репродукции – кисейным заслоном, вуалью. Старец кричал на два голоса: жалобно – Рона, и резкий остерегающий оклик – Ахмад. Он, конечно, из Андижана, где был кинотеатр «Шарк улдузу», звезда и акула Востока, летний, открытый акулам и звездам, с толпами гудящих мужчин вокруг Роны, полноватой еврейки, синее платьице, белый горошек, роковое для старцев сочетанье неплодной любви и разлуки, протяжного, точно индийская песнь из кино, расставания. Рона петляла, изменничала, раскаленная сотнями глаз и хотений. Ахмад, случайный красавчик-двурушник Ахмад, представлял ахмадийцев, сомнительную мусульманскую секту, ибо негоже суровому девизом брать кротость, у старца желтый зализанный череп, бессонная глинобитная Азия, шорохи и слова во дворах, в переулках. Ахмад подступается к Роне со своими змеиными искусительствами, но далее снова блаженство, высокость, я снова третейский арбитр, блистательно разрешающий монархический казус.
Пола Морфи я не встречал. Простейшее звукоподобие не могло быть допущено в отборный сезам. Но этим не отменяется горняя справедливость происхождения, провиденциальность зачатия, родов на кровати под балдахином в дурманном плантаторском разнотравье юга, где будущий чемпион черно-белых фигурок видел сызмальства белых и негров, утешаясь гармонией их сообщного бытия.
Морфий дал мне ключи к «Гелиополю», к его синей сдавленности, фашизм борется здесь с нацизмом.
Фашизм это княжество, рыцарство, аристократское продолжение старых династических правил. Солнечноликая иерархия, монастырская книжность. Совершенство взлелеянных оружий расплаты, истребительных взрывов, лучей, прободающих броненосные панцири. Двоякодышащее, духовно-чувственное собирание меда аскезы. И – гетеанская деятельная созерцательность, природоведенье, культ прогулок и собеседований, верховая езда, жесткая субординация в орденском дружестве, ученичестве, повелительная отрешенность самопожертвования, саморазвития, аполлиническое, дионисийством приправленное миродержавие.
Нацизм заправляет потными ордами на улицах, площадях, стадионах – вымазанная расовыми выделеньями масса, быкорогое стадо, ведомое ловкими совратителями в хромовых сапогах, щегольских портупеях. Гелиопольский вождь его тучен и бонвиванист, обжорно пантагрюэлен, ублаготворенный ликером, сигарами; любитель пряностей и острых слов, скабрезных книжиц о похождениях клира, холодный изучатель низости, непревзойденный в разлагающей клавиатурной игре. Нацизм человечен, в этом порок его, основной: плоть людская, страдальческая, мясожующая, поедаемая. Человек, человеческое, человечность, как давным-давно заповедано тем, кто безумной рукой разбросал семена в Юнгеровых голодных полях, должны быть преодолены, и фашистская аристократия Гелиополя, многоярусного, у зеленой воды воссиявшего цирка и театра, лоскут за лоскутом калеными стилосами по-живому сдирает с себя Адама. Брахманы и кшатрии, философы-меченосцы стяжали безжалостной милости, воинственной доброты, эротизирующих воздержаний – взмыв над собой и достигнув той промежуточной стадии, что в чаемом, хронологией не стесненном грядущем станет плацдармом неописуемых взлетов. Это только начало.
Теперь, не спросив дозволения переводчицы (простите меня), я разбросаю и склею (наклею) цитатную смальту, раскавычив и изменив в своих целях: все продлится недолго, объем невелик.
В горновосходительном отчете Фортунио воздух повествования раскаляется с приближением автора к древним кратерам, подобным зеленым кубкам, что разбрызгали пену морскую, он видит гроты, ледниковые мельницы, котлы ледникового периода, в них ледяное молоко обкатывало и шлифовало тысячелетия, а над этим испарившимся холодом – солнце в зените, свет был такой силы, что искажал формы и превращал все, расплющивая, в один сверкающий серебряный диск. Титанические силы природы, пишет Фортунио, оставляют такие места на память в знак их непобедимости. Ледниковые мельницы – кладовые драгоценных камней, изумрудов, вызывающих оцепенение, они превосходят все богатства Индии. Образованию такого рода жил содействуют звездные эпохи, этого не было ни в Голконде, ни в Офире.
Орелли, искатель замкнутых состояний, рассказывает о Лакертозе, затерянной на островах причуде: в час, когда альбатрос летит на охоту, жизненный мир города-государства уплотняется до предела. Белизна камня, пошедшего на возведение построек, ослепляет, выжженные круги перед жертвенниками черны. Женщины приносят каждодневное подношение уходящему солнцу, к святилищу солнечного божества, тяжеловесному порфировому храму с высоким обелиском, по которому сверяют свой путь мореходы, и золотым божественным брачным ложем обращены все городские жертвенники. Раз в год бог отбирает красивейших юношей и девушек, под белыми парусами уплывают они во дворец, дабы никогда не вернуться оттуда. Во дни празднеств в проливе устраиваются морские сражения, пышные эскадры ведут ожесточенные бои, расцвеченные сложной иллюминацией, потом корабли сжигают. Тень накрывает статую воздевшей руки богини морей, рог морского божества помельче звучит с галерей языческих храмов, и жертвенники курятся опять, заволакивая вечернее небо сладковатым дымком – обрядовым и животным.
Меж горной грядою и градом нет разногласий по существу, тверже, уверенней подчеркнем: о тождественном говорят Фортунио и Орелли, о камне, сиянии, щедрости – мельницы, кратеры с тою же расточительностью исторгают из себя россыпи изумрудов, с какой город сжигает эскадры и цвет своей молодости. Человеческое, и в том грандиозность островного примера, по кругу, размеренно, день за днем проборматывающего свои герметичные речи, выбито, выжато в Лакертозе – гнетущее в своем светлом великолепии поругание идеала, полюс, неизлечимый ужас предела, на природе природою учрежденный ритуальный музей, серпентарий самопоглотительных гадов, ежедневно и гибко пожирающих себя с головы до хвоста. Заклание идеала невинное, словно черно-кровавые маски майя и жреческие ножи, коими вспарывали, ломая, грудину, чтобы взять пальцами теплое влажное сердце; невинное, подобно самому извлеченью тугого, пульсирующего, еще живого комка. Но что за дикое слово. При чем здесь вина, подносимая на блюде извне посторонними, единственным преступлением, судить о котором нельзя, ибо такого еще не случалось, было бы лишь неисполнение обряда, совершенного, как солнце и дождь, как пирамиды с их жертвенной комнатой, залитой рассеянным светом, обряда, небом предписанного на все времена, чтобы не рухнуло мироздание, так издревле к золотому брачному ложу плывут белые паруса.
Путь утеснения, несвободы отвергнут аристократией Гелиополя. Есть иные образчики.
Петербург, зимний день, в безлюдном этаже античной глиптики на черном бархате эллинистический шедевр – камея Гонзага, богатством струящихся озарений равная комете Галлея. Субстанция красоты, неразбавленный эликсир, к восторгу знаточеского сословия: обретена высота, за две тысячи лет не достигнутая более творчеством, рукотворством. Слезы текут по небритым щекам, когда, раскрывши синий каталог, ощупываю оправленный в злато агат, два выпуклых профиля божественной мощи, нежности, млечности, интра-красный, с глуховато-лиловою рыжиной мужской шлем продлен вспененной волною сиреневой наплечной накидки, женский венок параллелен жреческому золотому мениску, египетскому традиционному «сердцу», срединным частям ожерелья. Скрепленность пары двойная: ближайшая кровнородственность (мать – сын, брат – сестра) и царская постель супругов по династическому обычаю местности. Кто эти двое – Август и Ливия, Нерон и Антония, Александр Бала с Клеопатрой Тея, Птолемей и Береника, Друз Младший с Ливиллой, Германик и Агриппина, Александр с Олимпиадой, Птолемей с Арсиноей – пребудет в неразгаданности, две последние пары почтены вниманием пристальней прочих. Щеки небритые высохли, влага убрана промокашкою со страницы, ты настойчив, упорен в рассматривании, в слепецком, по Брайлю, выщупывании, с мазохистическим рвением поджидая тревоги и страха, что вскоре, оборвав наслаждение, ниспошлют тебе два царственных лика, проверено сотню раз, и пора бы привыкнуть, но продолжает пугать, хоть с недавней поры тебе этого страха и этой тревоги известна причина, или кажется, будто известна, неважно.
Люди, вырезанные в прочнейшем, тверже стали, матерьяле геммы, людской мир покинули, избавившись от надежды, сомнения, смертной болезни. Чистой поступью, держась за руки, словно в брачный чертог, вошли они в сверхчеловеческое – учинив над собою усилие (у нас нет других слов для предпринятых ими действий), в тяжесть или головокружительную легкость которого не сочли нужным кого-либо посвящать. Пытка не смутила бы нектарической напоенности ракурсов, они нечувствительны к боли, испробовав ножевые сечения, прижиганья железом, раздробление кости в колодки: ранения, восстановляемые сами собой, на глазах палачей, заставили бы пытателей кончить жизнь помешательством; так же бездейственны сильные яды, принимаемые по-митридатовски, ежеутренне, малыми долями.
Неудержимая тяга к полетам ограничена, во избежание варварских поклонений, ночью и предрассветом – два обнаженных мерцающих розовым тела в яйцевых светоэллипсах парят, кувыркаются, стремглавно возносятся, непостижно, словно Нижинский в прыжке, столбенеют над дворцовыми кущами с их круглогодичным цветением, над страусами, павлинами, павианами, над леопардами и пантерами, укрощенными беглым касательством взгляда.
Колдуны, без всяких оракулов слиянные с будущим, волхвы, незримые за чертой, змееведы и жезлоносцы, чей домашний убор повторяет священное одеяние Авраама (молнии в глубинах карбункула, алмазы, сапфирный небосвод), – бессчетны умения, вбираемые в оргонных потоках, а масличной ветвью восславим приверженность к мертвым, ко всему космонекрополю, к давно упокоенным и еще не рожденным, но выхваченным, точно свиток, с полки хранилища, ибо все совершилось там, где большие лопаты выгребли время из мира, – будто Пол Морфи, вечно юный джентльмен карибского типа, развлекающий их александрийскими вечерами, когда рык пантер обвеян дыханием сада, на доске смещенных пропорций, с произвольным количеством разноцветных полей (прозорливое описание в «Эклогах аиста» Толи Портнова), или неведомые нам герои, умершие много лет спустя после нас.
Два профиля, шлем и венок, мениск и плащ. Умноженная брачной постелью кровнородственность сцены: мать – сын, брат – сестра. Вестники, нет и не будет ответа, как это им удалось. Гениальность безвестного резчика, прозревшего, кто перед ним. Черный бархат античности, комета Гонзага, камея Галлея, инталия, гемма, свершимость пророческих обещаний. Зимний день, Петербург, морозные сфинксы над невским ледком, синева каталога с обсохшей страницей, нет и не будет ответа.
В аристократии Гелиополя немало адептов египетского идеала. Несокрушима их вера: можно его повторить. В череде поколений пройдут путь до конца. Уже далеко уклонились от человеческого. Уходят из ветхого строя с пустыми котомками. Нет, кое-что взяли, прощальную слабость и сладость, не до отказа, чересчур велико удовольствие. Взирая на пиршество из постыдных низин, лягушонкой на койке с дренажными трубками, воткнутыми справа под ребра для сообщения с ящиком вроде дипломата-портфеля или столярного набора – полупрозрачного, бесшумно булькающего сиреневой пеной, ну и, само собой, выводной проводочек во члене, но сподобленный морфия, первого среди неравных наркотиков (не пробовал остальных, но ручаюсь), чем наперед искупается все, от опрокинутой утки до взмокшей пижамы, этот ли вздор перевесит укачивающую волну упоения, – я их слабость и сладость, патрицианских фашистов, сейчас разглашу, почему бы о ней не сказать, вспоминая распластанность.
Это южные острова, это белые города под Гомеровым небом, теплое море, за непроглядной курчавостью виноградника с переплеском ворчащее в стихотворный размер. Гранат лопнул от спелости, вгрызаться и всасывать, размазывать по носу и щекам. Вино переходит в кровь целиком, фиговыми деревьями обрамлен вид с террасы. Воздух целебен, Асклепий вдохнул в него кислород. Босые ноги танцовщицы, шестнадцатилетней гречанки в дареных браслетах, повинуются флейте гортанной и горькой, словно во дни первоэллинства, но здесь они, пастушеские, не иссякали, круговращаясь по древнему солнцу, с растениями и стадами, песенными ладами и пифагорейскими на бобах числовыми расчетами, таблицами звездных сплетений. Апиарий, медовая на вершине горы кладовая, поприще старца, мнимого простеца и отшельника. Полсотни лет назад отвергнув курс наук ради магического природоведения в духе Новалиса, воевал, путешествовал, расшифровывая схватку теней, смену букв в манускриптах, продаваемых там, где их всегда покупали, в потаенных клетях восточных базаров, ковровых сундучках, набитых драгоценностями текстов, санскритскими логиками и грамматиками, персидским махдизмом, арабскими проповедями Аль-Халладжа, кельтскими друидическими, разумеется, греческими, от времен басенных до Византии с ее роскошными безобразиями, на этих страницах трактованными, и пчелы прилежнее, мед льется на круглый поджаристый хлеб, но влияние пасечника простирается дальше пчелиных семей. Властители приходят к нему за советом и, никуда не спеша, чередуя ритм разговора, он умеет быть то обстоятельным, то кратким, подобно ландшафту, продленному в полдне, сжатому в сумерках, со всею внезапностью – разве к этому можно привыкнуть, – обнимающих залитый красками мир.
Средиземноморье, истрепанный мотив, скандировал атлетичный А.Л., уже привлеченный по этой цитатной статье, закольцовываю, повторяюсь, но пусть и он повторит Юнгеру, повторит Монтерлану, для которого городишки из белого камня у моря пристань, притин во всех странствиях и в чьем дневнике, обветренном, как могила еврея, торжественном, будто жабо на картине, – этюдный, еще до жары, спозаранку, портрет белого логова.
Сквозные, продутые переулки, набережная с гирляндою меркуриальных контор, недурное местечко для тех, кто корпением утренним и дневным по вечерам обретает свободу порока, равнодушных мальчишек, не имеющих капли терпения выслушать к ним обращенные вирши, для стихов потрудней, хотя что считать трудностью, из антологий, средневековых хронистов, есть просвещенные скептики по четвергам, но вот он порезался, чистя грушу несвежим ножом на отбитой тарелке, и ты лижешь красное, лижешь смуглое, золотое, караваджиевское златосмуглых спутанно-волосатых эфебов, прекрасных Иосифов, кровянящих пальцы, потешаясь твоей покупною неловкостью, ах, не все ли равно. Угловой магазинчик с индийскими тканями держит вес трехэтажного здания, доходного дома, самого крупного здесь. Кофе и сдоба разожгли аппетит, и с визгом взлетают в лавчонках железные простыни жалюзи. Мужчины пьют кофе, читают газеты, рассыпчатость нардовых косточек, управляющих шашечницей на лаковых с инкрустацией досках, сухой резкий выщелк и щелк домино. Набриолиненный сутенер, облокотившись о балюстраду, выслеживает возвращенье девиц, покупающих персики на базаре, вавилоняне на своем самодельном аккадском называли их «шляющиеся по рынку». Поклонницы в черных платьях, в глухих наголовных бахромчатых платах ждут отворения врат церковных, лестницы, арки, проемы, крутой по щербатым ступеням подъем, шквал ветра и – галечный пляж, обрывистый выбег к рыбацкой деревне, та же, что и две тысячи лет назад, жизнь рыбарей.
Отличная еда, А.Л. говорит, докушав фалафель, подходит хозяин, интересуется на иврите, что ему нужно от нас, обеспокоен А.Л., которому в каждом видится подосланный из полиции, ищейка или соглядатай, спрашивает, приятно ли нам у него, может, он как-то еще расстарается, хорошо, что подходит, кивает А.Л., мы деньги заплатим, он деньги возьмет, но тут что-то по ту сторону денег, отзвук старинного услужения страннику, чужестранцу, будто на караванных дорогах. Государство – отвратительный зверь, необходимо сопротивление, широкая разоблачающая его методы сеть. От одиночества перечитывая «Фауста», «Листья травы», писал и читал в Тель-Авиве стихи, Уитмен мальчишка в сравнении с Гете, плотник супротив столяра. «Фауст» воронка тунгусская, внеземной ядерный взрыв, криптограмма: лес разметав, нарушив свечение атмосферы, природы своей не раскрыл, никогда не раскроет. В этой ямище, вскопанной обаятельным бонзой, гады зубастые держат в пастях голубые цветки, романтики до альянсов таких не додумывались, я слабо позащищал от него романтизм, он не стал отбиваться. Короткая побывка, последнее наше свидание, завершалась, до Стокгольмского, амвона церковного, святотатства и полугода тюрьмы было уже недолго. День стоял островной, белокаменный, гелиопольский. Рону жалобно подзывали, Ахмада осаживали, остерегали. «Шарк Улдузу» плыл акулою в высоте под созвездием Рыб, вровень с кометой Галлея, длиннейшая жизнь свела Юнгера с огненным кометным хвостом где-то в Азии, на излете, на юге. Играючи, похваляясь казуистической мускулатурой, я изменил порядок престолонаследия (сомнительное гоношение Карлов, Людовиков раздавлено железной пятою закона, вынуждавшего их вести себя поприличней, без комических крайностей, свойственных вырожденческим биосообществам), дочитал с автором «Тристрама Шенди» и надиктовал в «Гелиополь» десяток отцеженных ересей, не удосужившись справиться, включены ли они в окончательный текст, в добавочном морфии отказали, комету Гонзага в синем собрании каталога водрузил я для Юнгера, скинув перчаткою снег, на заиндевелую голову невского сфинкса, так скиталец с тропы Хо Ши Мина, болезного дедушки, вожатай трудовых лагерей, винтовок, деревень под обстрелом – оставил мне Ямвлиха на валуне.
Благой медвяной погодой на белых улицах Тель-Авива звон колокольный медовый афонский, расплавленной медью текущий, слышится обонянием наподобие иван-чая и медуницы. В зайцевских заметах афонских дерзкая мысль. Проведя вечер в монастырской библиотеке, вскорости после осмотра черепов, подвижников и монахов попроще, отполированных, затемно-желтых, разобранных рядом и верещагинской кучей представленных во хранилище, – в библиотеке богатой, непосещаемой, где он весь вечер единственный был читатель, автор так говорит. Библиотеки с богатствами их и величием, может, вообще не для чтения, это явления объективные, вроде неба, моря и гор, им не требуется соучастие человека. Каков Борис Константинович, тихий паломник-поклонник, серафический ниспровергатель, на основу основ покусившийся, тут только возьмись рассуждать, и все безопорное рухнет, а другое все мигом лишится опор, – дивился я, идучи белыми улицами к Юрию Карабчиевскому, приглашен был на чай.
Кроме талантливого по темпераменту «Маяковского» и нескольких полемических колкостей, когда непосредственный казус раззадорил перо, мне из прозы его и стихов, ретроградных донельзя, не нравилось ничего, но автор нравился очень. Никаких соглашений с литературной советчиной, годами наладчиком на заводе, писал что хотел, рисковал печататься за границей, огромный облетевший купол, библейские мучительные глаза, борода разночинца. Натруженное, все еще цепкое очень мужское худощавое тело. Достоинство совестливости, ни грана постного ханжества. С гребня славы московской: телевиденье, обсуждения, в мягкой обложке нарасхват «Маяковский» – соскользнул в Палестину, где, мало ценимый, мало и замечаемый в горячке беженского первоустройства, жил скудно, как все (почти все), таская сумки с базара, отмахивая пешком расстояния – гонорарные крохи в газетах и те не всегда, чем-то он им не потрафил, но я видел отклоненную рукопись по тюркско-армянскому поводу в пользу армян, стойко, не поддаваясь давлениям, доказывая их правоту; еврейская, с Верфелева «Муса-дага», традиция, похеренная Табаки в ожидании найма к Шер-хану – покрывали покамест газетные плачевные оправдания гнуси погромной. Не знаю, приноровился ли Юрий Аркадьевич между двух стульев, меж двух огней в Иерусалиме, Москве, я не свидетель. Я выразил сразу почтение, он благодарно откликнулся.