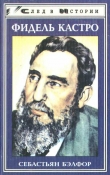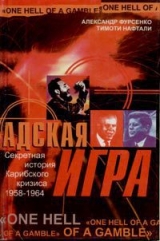
Текст книги "Адская игра. Секретная история Карибского кризиса 1958-1964"
Автор книги: Александр Фурсенко
Соавторы: Тимоти Нафтали
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
В конце 50-х годов карьера Большакова вновь пошла в гору. Ее подъем стал результатом дружбы с зятем главы государства, мужем Рады Хрущевой Алексеем Аджубеем. Тогда бытовала поговорка: «Не имей сто рублей, а женись, как Аджубей». Большаков познакомился с Аджубеем, когда работал у Жукова. Это знакомство дало Большакову новый шанс поработать в США, а также предопределило его роль посредника между Хрущевым и Джоном Кеннеди{24}.
Большаков познакомился с американским журналистом Франком Хоулменом, корреспондентом нью-йоркской газеты «Дейли ньюс» в 50-х годах во время своей первой командировки. Они были ровесниками. Хоулмен приобрел известность, освещая деятельность Никсона на слушаниях Комиссии по антиамериканской деятельности палаты представителей по делу Элджера Хисса в 1948 году. С этого времени Хоулмен стал известен как человек Никсона. После инцидента Чекере в 1952 году, связанного с якобы секретным избирательным фондом Никсона, «Дейли ньюс» откомандировала Хоулмена на освещение избирательной кампании вице-президента. Хоулмен был постоянно при Никсоне, он исколесил с ним всю страну. В 1956 году он вновь был прикомандирован к Никсону. В ходе трудной избирательной кампании он хорошо узнал Никсона и после выборов был одним из немногих журналистов, допущенных в личный офис Никсона на Капитолийском холме.
В начале 50-х годов Хоулмен стал Председателем Совета Национального пресс-клуба, что привлекло к нему внимание советской разведки. В апреле 1951 года чешское правительство наделало много шума, арестовав по обвинению в шпионаже всех сотрудников пресс-бюро «Ассошиэйтед пресс» в Праге, в том числе его шефа Уильяма Натана Оутиса. Впервые за время холодной войны в восточном блоке были задержаны западные журналисты. После «признания» Оутиса и вынесения ему приговора 10 лет лишения свободы в конгрессе раздавались голоса, призывающие выслать всех корреспондентов ТАСС из США. Если бы конгресс пошел на это, то советская разведка лишилась бы ценной «крыши», хотя Москва, несомненно, нашла бы другую. Тем временем Национальный пресс-клуб осудил действия Чехословакии и рассмотрел возможность лишения всех советских журналистов аккредитации. Хоулмен, председатель Совета, выразил несогласие. Он хотел, чтобы Клуб оставался открытым для всех, «кто хочет обмениваться ложью»{25}.
После этого советские представители нашли подход к Хоулмену и попросили его помочь новому пресс-атташе Александру Зинчуку вступить в Национальный пресс-клуб. Хоулмен согласился, и советское посольство выразило ему признательность за это, пригласив на завтрак. Там Хоулмен познакомился с Георгием Большаковым. Большаков понравился Хоулмену, и они стали периодически встречаться: офицер советской разведки – чтобы держать руку на пульсе американской политики, а Хоулмен – чтобы быть в курсе того, что маячит за фасадом официальной политики Кремля.
Большакову нравился Хоулмен. Незадолго до своей смерти в 1989 году Большаков писал: «Мы дружили семьями, часто ходили друг к другу в гости»{26}. Подобно удачному бизнесмену, который знает, как совмещать приятное с полезным в гольф-клубе, Большаков был уверен в себе и легко общался со своими информаторами. Это выделяло его из советской колонии Вашингтона{27}.
ГРУ рассматривало Хоулмена в качестве ценного информатора. Когда в 1955 году Большакова отозвали в Москву на работу к Жукову, Хоулмена передали другому сотруднику ГРУ Юрию Гвоздеву, работавшему под «крышей» посольства в качестве атташе по культуре. Гвоздев и Хоулмен продолжали традицию советских завтраков. Однажды офицер ГРУ рассказал Хоулмену, что советское руководство ищет путь пересылки личных посланий администрации Эйзенхауэра. Хоулмен сообщил об этом вице-президенту Никсону. Хоулмену посоветовали продолжать встречи с Гвоздевым: «Мы должны сохранить как можно больше каналов связи». Хоулмен не организовал встречи Никсона с Гвоздевым, а служил своего рода «почтовым голубем»{28}.
Поражение Никсона на выборах 1960 года не прервало связи Хоулмена с ГРУ. Гвоздев покинул США осенью 1959 года, и ГРУ заменило его Большаковым, который возобновил встречи с американским журналистом. Хоулмен приветствовал возможность связи с советским дипломатом и, несмотря на поражение республиканцев, надеялся сохранить этот канал. Эдвин О. Гатман, пресс-секретарь Роберта Кеннеди, был одним из друзей Хоулмена в новой администрации. Гвоздев никогда не встречался с Никсоном, но Хоулмен, возможно, по намекам Гатмана или самого Роберта Кеннеди, почувствовал, что последний, по-видимому, хочет лично встретиться с Большаковым.
«А не лучше ли тебе самому встретиться с Робертом Кеннеди?» – спросил Хоулмен Большакова 29 апреля 1961 года в субботу{29}. Это было неожиданное предложение. Никто ни в Кремле, ни в ГРУ не давал Большакову санкцию на такую встречу. «Но разве начальство не будет довольно, – добавил Хоулмен, – если Большаков сможет передавать в Москву соображения брата президента?» Большакова это предложение явно заинтересовало, но, согласно правилам, ему необходимо было получить на это санкции своего начальства – главы резидентуры ГРУ в Вашингтоне. Этот офицер, имя которого до сих пор держится в секрете, не поверил своим ушам, когда ему доложили, что Генеральный прокурор США желает встречаться с одним из его сотрудников. «Мельников (советский посол) еще куда ни шло, но Большаков?» – скептически заметил резидент ГРУ. Он категорически запретил Большакову встречу с Робертом Кеннеди. На следующий день 30 апреля 1961 года Большаков сообщил Хоулмену, что не сможет встретиться с братом президента. Таков был приказ, и он обязан был ему следовать{30}.
Сам Большаков считал очень соблазнительным встречу с Кеннеди-младшим. В конце концов он доверенное лицо президента. 9 мая Большаков решил рискнуть и встретиться с Кеннеди без разрешения. Это был День победы – национальный праздник Советского Союза. Посольство было закрыто.
Но Хоулмен сумел дозвониться до Большакова и пригласил его на поздний ланч. Было уже 16 часов. Когда Большаков спросил, почему он звонит так поздно, Хоулмен ответил, что разыскивал Большакова целый день. Он предложил встретиться в ресторане в Джорджтауне.
Едва они сели за стол, как Хоулмен сказал, что Роберт Кеннеди готов встретиться с Большаковым сегодня вечером в 18.00. Хоулмен предложил Большакову подвезти его к входу в Министерство юстиции на углу 10-й улицы и Конститьюшен-авеню. За столом воцарилась тишина. Хоулмену было любопытно, как отреагирует Большаков. Тот посетовал лишь, что не одет надлежащим образом: «Я же не готов к этой встрече». Хоулмен улыбнулся: «Ты всегда готов, Георгий».
Некоторое время спустя Хоулмен подвез Большакова к зданию Министерства юстиции. Правительственные учреждения на Конститьюшен-авеню были уже закрыты. Как планировалось, Роберт Кеннеди спустился на лифте с пятого этажа, где был расположен его офис. Он прошел мимо охранника и ждал Большакова у входа. Его сопровождал Эдвард Гатман. Когда Хоулмен и Большаков подошли к подъезду, они увидели Генерального прокурора и его помощника сидящими на гранитных ступенях. «Господин Генеральный прокурор, хотел бы вам представить господина Георгия Большакова». Большаков и Кеннеди обменялись рукопожатием. Гатман и Хоулмен ушли. Оглянувшись, журналист бросил взгляд назад на Генерального прокурора США и офицера советской разведки, пересекающих авеню Конституции и направляющихся к Моллу – длинному зеленому газону между памятником Вашингтону и Капитолием. Последнее, что заметил Хоулмен: двое, занятые оживленным разговором, направляются к Музею естественной истории{31}.
Роберт Кеннеди тщательно подбирал слова. «Американское правительство и президент обеспокоены, – начал он, – тем, что советское руководство недооценивает способностей нового правительства США и лично президента. Недавние события на Кубе, в Лаосе и Южном Вьетнаме усугубляют опасность непонимания Москвой политики новой администрации. Если эта недооценка сил США имеет место, – предостерег Генеральный прокурор, – то это может вынудить американских руководителей выбрать соответствующий курс»{32}.
Роберт Кеннеди хотел дать понять советскому правительству, что его брат готов отойти от внешней политики времен Эйзенхауэра, если это найдет достойное понимание Москвы. Открыто осудив «нединамичную и беспомощную» политику прежней администрации, вследствие чего «новому правительству досталось тяжелое наследство», Роберт Кеннеди заверил Большакова, что президент много работает над вопросами новой прогрессивной политики, которая будет проводиться действительно в национальных интересах. Успешный саммит мог бы сыграть важную роль в укреплении нового курса.
Сделав несколько общих замечаний, Роберт Кеннеди перешел к проблеме запрещения ядерных испытаний, которая могла стать предметом обсуждения на саммите. Хотя «президент не теряет надежды, – объяснил он, – печальные события на Кубе и в Лаосе несколько охладили пыл президента к урегулированию взаимоотношений с СССР». В частности, президент, возлагавший большие надежды на переговоры в Женеве, не хотел отказываться от идеи запрещения испытаний, несмотря на пессимистические сообщения госсекретаря. Генеральный прокурор обратил внимание Большакова на то, что брат готов смягчить позицию по поводу числа инспекций на месте, снизив их количество с 20 до 10, если бы Кремль выступил с таким предложением. «США могут пойти на компромисс», – добавил Роберт Кеннеди, пояснив, что публичная позиция администрации по поводу инспекции останется прежней, поскольку оппоненты президента внутри страны будут яростно сопротивляться смягчению позиции. Американская сторона хотела бы заранее согласовать детали соглашения по дипломатическим каналам для подготовки их к подписанию двумя лидерами в Вене, президент, подчеркнул Роберт Кеннеди, не заинтересован лишь в обмене мнениями, а хочет, чтобы встреча в Вене закончилась конкретным соглашением.
Еще одна возможная область сближения позиции США и СССР, по мнению Роберта Кеннеди, это соглашение по Лаосу. «Делегация США по Лаосу в Женеве будет делать все для достижения и создания действительно нейтрального Лаоса». Лаос стал символом нового подхода администрации Кеннеди к развивающимся странам. Вообще, объяснил Роберт Кеннеди, Вашингтон собирался реформировать американские подходы, заимствовав «хорошие идеи из советской программы помощи».
Куба также оставалась в поле зрения Роберта Кеннеди. В разговоре кубинская проблема возникала в связи с его личной ролью в изменении политики США по отношению к странам третьего мира. Латинская Америка, по словам Роберта Кеннеди, должна стать регионом его личной заинтересованности. «Он всячески уклоняется от обсуждения вопроса о Кубе, заявив, что эта проблема мертва».
Роберт Кеннеди не скрыл, что Белый дом ищет нетрадиционные подходы к Кремлю. Попросив Большакова проконсультироваться с «друзьями» и сообщить ему их мнение, Генеральный прокурор обещал выяснить точку зрения президента. Роберт предложил встретиться еще раз в неформальной обстановке после прояснения позиции сторон. Большаков составил отчет о встрече. Кремль практически заглянул на политическую кухню администрации Кеннеди, о чем мечтает любая разведка в мире.
Взаимные подозрения
Белый дом был осторожен в оценке Большакова. Несмотря на успешное сотрудничество Франка Хоулмена с Гвоздевым в 1959 году, американский журналист не представил достаточно веских свидетельств того, что у этого нового русского есть связи на высшем уровне. Роберт Кеннеди рассказал Большакову, что США через Махомедали Чагла, посла Индии в США, прощупывали позиции Кремля относительно саммита.
Летом 1961 года Москва с подозрением относилась в Роберту Кеннеди. На него в КГБ имелось обширное досье, заведенное в 1955 году во время первого посещения Робертом Советского Союза. Этот визит вызвал о нем массу негативных слухов. В результате в кремлевских коридорах власти его считали большим антисоветчиком, чем его брата.
Уильям Дуглас, помощник Председателя Верховного суда, пригласил молодого Роберта сопровождать его в СССР в знак уважения к своему старому другу Джозефу Кеннеди. Когда-то и Дуглас и Кеннеди были председателями Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям. Одно время Роберт Кеннеди работал в штате сенатора Джозефа Маккарти и подобно своему шефу неприязненно относился к советской системе. «Он приехал в Советский Союз с предубеждением: коммунизм – это плохо, все плохо», – вспоминала Мерседес, жена Дугласа{33}.
У Джозефа Маккарти были свои доводы против поездки Роберта в Москву, но Кеннеди-отец очень хотел, чтобы сын поехал в СССР с Дугласом. Мерседес, которая считала всех, кто работал с Маккарти, «ужасными людьми», тоже была против поездки Роберта. Но муж был непреклонен: «Я должен сделать то, о чем просит Джо (Джозеф Кеннеди)».
КГБ разделял мнение Мерседес о Роберте Кеннеди, который посетил Советский Союз в 1955 году. Через шесть лет, когда к власти в Вашингтоне пришел новый президент, советское руководство оценивало младшего брата президента как смутьяна. КГБ утверждал, что «Кеннеди весьма отрицательно относится к Советскому Союзу»{34}.
«Кеннеди вел себя с советскими людьми грубо и развязно», – сообщал КГБ в Кремль. Он «издевательски относился ко всему советскому», «делал антисоветские выпады» и, как особо отмечалось, говорил советскому переводчику, что в СССР «нет свободы слова и не допускается критика в адрес советского правительства», «осуществляется гонение на советских евреев». КГБ отмечал, что Роберт Кеннеди «старался выявить в СССР только отрицательные факты»{35}. Например, в ходе поездки он фотографировал только плохое (развалины, глиняный забор, плохо одетых детей, пьяных советских офицеров, старые дома, очереди на базаре, драку и т. п.){36}. КГБ считал Роберта Кеннеди провокатором. Он сообщал: «В беседе с советскими представителями на приемах Кеннеди ставил тенденциозные вопросы и пытался выяснить данные секретного характера». В Средней Азии Кеннеди привел в замешательство главу казахской милиции. «Он интересовался техникой подслушивания телефонных разговоров, просмотром почтовой корреспонденции, деятельностью советской разведки за границей, охраной границ СССР, мерами наказания пойманных иностранных шпионов». Но это было еще не все: «Роберт спросил, сколько заключенных в советских тюрьмах и лагерях и сколько из них используются на тяжелых работах»{37}.
Теодор Соренсен познакомился с братьями Кеннеди в 1953 году и позже говорил, что «в то время Роберт был воинственным, агрессивным, нетерпимым, упрямым и несколько поверхностным в своих убеждениях… более похож на отца, чем на брата»{38}. Перечень эпитетов, используемых КГБ в описании Кеннеди, был примерно таким же. Более того, советская разведка отмечала еще один недостаток Кеннеди. «Он питает слабость к женщинам», – сообщала Служба Кремлю. В 1955 году молодой женатый человек попросил гида Интуриста прислать ему в номер «женщину легкого поведения»{39}. Спустя несколько лет Роберт Кеннеди признал, что был не в лучшей форме во время пребывания в СССР. Ознакомившись с «каталогом ужасов», составленном его другом Теодором Соренсеном в начале 50-х годов, Роберт писал: «Тедди, дружище! Может быть, в 1967 году мы сократим список эпитетов для описания моей персоны в 1955 году. О.К. Боб»{40}.
Ответ Москвы
Большаков доложил суть разговора своему шефу в посольстве, который передал его в Москву. Доклад Большакова спутал карты советского руководства, которое полагало, что подготовкой саммита будут заниматься Томпсон и Громыко. Кеннеди дал понять, что он заинтересован в саммите, но хотел бы убедиться, возможен ли возврат к первоначальной повестке дня. Его постановка вопроса мотивировалась тем, что события в Лаосе или обстановка за столом переговоров в Женеве могли сделать встречу с Хрущевым невозможной. Донесение ГРУ, хотя и составленное на основании беседы с презираемым Робертом Кеннеди, по крайней мере подтверждало серьезность намерений Джона Кеннеди по возобновлению подготовки к встрече.
Хрущев воспользовался сигналами из Вашингтона. 12 мая в письме Кеннеди он писал: «В последнее время международная обстановка стала более напряженной в связи с известными событиями вокруг Кубы. Поэтому может быть сейчас как раз подходящее время для обмена мнениями»{41}.
Письмо Хрущева с согласием на встречу в Вене было доставлено в Вашингтон 16 мая через посла Меньшикова. Новость была хорошая, но Кеннеди рассчитывал на большее. Ни Большаков, на что надеялись Хоулмен и Генеральный прокурор, ни Хрущев не сочли подход американского президента настолько интересным, чтобы заниматься его рассмотрением до саммита. В любом случае президент чувствовал необходимость настаивать на возобновлении предварительного диалога, чтобы получить шанс на прорыв на главном направлении. С плохо скрытым разочарованием, вызванным письмом Хрущева, Кеннеди сказал Меньшикову: «Если мы не сможем достичь ничего конкретного по вопросу запрещения ядерных испытаний, сомнителен и успех по разоружению»{42}. Кеннеди не напомнил ему об уступке по количеству инспекций на местах. Он оставил этот вопрос Роберту. Несмотря на разочарование письмом Хрущева и отсутствие сведения от Большакова, Белый дом решил подтвердить через средства массовой информации США, что саммит готовится и ведется работа через МИД для отработки деталей{43}.
Не в первый раз Хрущев показал, что не похож ни на одного политика или государственного деятеля, с которыми когда-либо общался Кеннеди. Кремль не сомневался, что Роберт точно передал идеи президента Большакову. Однако президент рассчитывал, что в ответ на свои серьезные инициативы он получит соответствующие от Хрущева. По-видимому, такое предположение было основано на том, что отчасти советско-американские отношения являются жертвой непонимания и неудачно выбранного времени для дискуссий. В бытность сенатором Джон Кеннеди критиковал Эйзенхауэра за одобрение полета У-2 как раз накануне парижского саммита. После Залива Кочинос Джон Кеннеди хотел, чтобы ничто не мешало улучшению отношений между сверхдержавами. Его мелкие уступки как раз преследовали эту цель.
Однако Хрущев вовсе не был заинтересован в изменении своей позиции ради того, чтобы пойти навстречу новому президенту США. После получения донесения ГРУ о первой встрече Большакова с Робертом Кеннеди, Хрущев поручил Министерству обороны совместно с МИД подготовить соответствующий ответ. Не получив сверху руководящих указаний и боясь быть уличенными в авантюризме, министерства составили топорное послание.
В советской системе все важные решения должны были быть санкционированы Президиумом ЦК. Проект послания попал в Президиум 18 мая. Хрущев находился в Средней Азии, но члены Президиума постоянно общались с ним по телефону или направляли депеши курьером. В Москве Михаил Суслов, член Президиума ЦК, и министр иностранных дел Андрей Громыко, не член Президиума, отвечали за подготовку саммита{44}.
Ответ Хрущева отражал его мысли о новой американской администрации в начальный период ее работы. Инструкции Большакову сохранились в архиве ГРУ и в президентском архиве, и это позволило сравнить обе версии. Они оказались идентичны.
Большаков получил указания сказать Роберту Кеннеди, что «с момента предыдущей беседы с Р.Кеннеди он, Большаков, имел возможность подумать и посоветоваться с друзьями относительно поднятых им, Кеннеди, вопросов, и теперь хотел бы со своей стороны с такой же откровенностью, как это сделал Роберт Кеннеди, изложить ему свое мнение относительно вопросов, решение которых могло бы способствовать урегулированию взаимоотношений между СССР и США»{45}.
Естественно, что «мнение Большакова» было позицией Министерства обороны и МИД. В первую очередь офицер ГРУ отметил, что советское руководство придает важное значение улучшению советско-американских отношений. Несмотря на идеологические расхождения в межгосударственных отношениях, не было непреодолимых барьеров. США и СССР могли решать возникающие вопросы путем переговоров.
Если бы разговор на этом и закончился, Роберт Кеннеди мог считать, что в Москве его не услышали. Но Большакову разрешили сказать еще кое-что. Он должен был добавить, что в СССР не совсем понимают, что заставило Роберта Кеннеди полагать, что Советский Союз недооценивает его брата и американскую администрацию в целом. Москва, понявшая «недооценивают» как «отрицательно относятся», велела Большакову сказать, что дело обстоит как раз наоборот, «с приходом Кеннеди к власти в СССР связывалось… и связываются надежды на то, что отношения между нашими странами смогут войти в ту колею, в которой они находились во времена Франклина Рузвельта». Большакову также предписывалось напомнить Кеннеди, что Хрущев много раз говорил об этом. Более того, следует разъяснить американцам, что существует связь между этими надеждами и решением Советского Союза принять предложение президента Кеннеди о встрече на высшем уровне. В этот момент Большаков впервые сказал Роберту Кеннеди то, о чем вскоре сам Хрущев скажет его брату:
«Нельзя пройти мимо замечания Р.Кеннеди о том, что события на Кубе и в Лаосе „несколько охладили пыл президента к урегулированию взаимоотношений с Советским Союзом“. Конечно, нельзя отрицать, что за последнее время международная обстановка в связи с известными событиями на Кубе, а также отчасти и в Лаосе, за которые не несет ответственности Советский Союз, некоторым образом накалилась. Об этом приходится лишь сожалеть»{46}.
А чем Белый дом подсластил пилюлю, говоря о саммите? Кремль проигнорировал это. Москва не желала уступать ни в чем. «Советский Союз не добивается каких-либо преимуществ, не добивается ничего иного, кроме как дружественного сотрудничества, основанного на принципах мирного сосуществования. Такое сотрудничество, конечно, не может означать односторонние уступки со стороны Советского Союза». Согласно инструкциям Хрущева Большаков должен был заявить: «Если же в Соединенных Штатах кто-либо питает иллюзии, что советско-американские отношения можно строить в ущерб интересам Советского Союза или добиваться от него односторонних уступок, то такая политика, конечно, заранее обречена на неудачу».
Советское руководство приветствовало желание США разрешить три проблемы, тормозящие переговоры по запрещению испытаний: количество инспекций, состав инспекционных групп и руководство этими группами. Но в отношении этих проблем Москва не нашла ничего обнадеживающего в послании нового президента. Большакову было рекомендовано напомнить Роберту Кеннеди и о других препятствиях на пути к соглашению по запрещению ядерных испытаний. Москва хотела создать исполнительный комитет для наблюдения за соблюдением договора с одинаковым представительством трех сторон – запада, советского блока и нейтральных стран, или стран третьего мира. Советское правительство также желало объявить мораторий на подземные испытания оружия ниже определяемого мегатоннажа. Цель СССР, пояснил Большаков Кеннеди, навсегда запретить все ядерные испытания.
Реальным источником надежды было заявление Большакова по Лаосу. Считая, что эту проблему Кеннеди унаследовал от своего предшественника, советское руководство приветствовало его призыв к созданию нейтрального Лаоса и предложило двум лидерам построить переговоры на основе этих совпадающих позиций. Москва считала, что принципиальное решение по Лаосу ускорило бы переговоры по Лаосу в Женеве, где советские представители обвинили Раска в неконструктивной позиции. Решение лаосской проблемы стало бы добрым знаком начала потепления отношения между сверхдержавами.
Но братья Кеннеди не должны были думать, что Москва собирается делать им и другие подарки. Большакову предписывалось критиковать политику Кеннеди по Берлину. Надо было дать понять, что в этом вопросе «имеются серьезные разногласия», которые могут подорвать все доброе, что могло быть достигнуто по Лаосу. «Мы хотим лишь юридически вместе с США, – сказал Большаков, – сохранить статус-кво». СССР надеется, что «руководящие круги западных держав проявят государственную мудрость и поймут позицию СССР в германском вопросе, поймут необходимость заключения мирного договора с Германией и решения вопроса о Западном Берлине». Большакову было рекомендовано закончить угрозой: «В противном случае Советскому Союзу не остается ничего иного, как вместе с другими заинтересованными государствами подписать мирный договор с ГДР со всеми вытекающими отсюда последствиями для Западного Берлина».
Наконец, советское правительство подняло проблему Кастро и Кубы. Роберт Кеннеди высказался ясно, что президент не хотел бы обсуждать этот вопрос в Вене. Тем не менее Москва желала получить гарантии неповторения Залива Кочинос. «Непонятно, что имел в виду Р.Кеннеди, когда в предыдущей беседе назвал кубинскую проблему „мертвой“. Если собеседник имел в виду сообщить, что правительство США отказалось на будущее от агрессивных действий и вмешательства во внутренние Дела Кубы, то, безусловно, такое решение только приветствовалось бы в Советском Союзе». Кремль считал, что мир на Карибах зависит прежде всего от США.
Советское правительство подчеркивало, что кубинцы желают нормализации отношений с Вашингтоном. В свете комментариев Роберта Кеннеди возможно сближение позиций Кубы и США. Советское руководство предписывало Большакову: «Подчеркните, что нормализация отношений США с правительством Ф.Кастро и трезвая оценка положения на Кубе, безусловно, только повысили бы престиж США и правительства Кеннеди во всем мире, содействовали бы оздоровлению между. народной обстановки и, безусловно, создали бы дополнительные возможности для улучшения советско-американских отношений»{47}.
Большакову не дали никакой свободы маневра. Москва стремилась к мелочному контролю не только над проблемами как таковыми, но над их формулировками Лишь руководство может допускать изменение позиций, не говоря уж об их провозглашении. «Если Р.Кеннеди поставит другие вопросы, не предусмотренные данными указаниями, – гласила инструкция Кремля от 18 мая, – то т. Большаков, не давая по существу ответа, должен зарезервировать за собой право обдумать эти вопросы и обсудить их с Р.Кеннеди позднее».
Эти новости президент узнал от Роберта 19 или 20 мая, Несмотря на вежливость, в советском ответе сквозило раздражение.
Однако президент считал, что должен сделать все возможное для достижения соглашения в Вене. Он решил искать новые пути, чтобы убедить Хрущева в возможности прийти к согласию. Ради этого Кеннеди приказал своей команде переработать предложения о запрещении испытаний. 19 мая на заседании СНБ он защищал точку зрения, что это не будет противоречить национальным интересам США, а также окажется приемлемым для СССР. Ранее в мае он вызвал своих советников по вопросу запрещения испытаний для обсуждения советских предложений о триумвирате. Джон Макклой, один из твердых сторонников договора, доказывал, что если США хотят заключить соглашение о запрещении испытаний, то, по-видимому, надо пересмотреть отрицательное отношение к идее «тройки». Макклой процитировал высказывание Хрущева в беседе с американским обозревателем Уолтером Липманом, где советский лидер объяснял, как события в Конго – убийство Патриса Лумумбы, первого премьер-министра страны, после провозглашения ее независимости, – ухудшили его отношения с Генеральным секретарем ООН Дагом Хаммершельдом. Макклой понимал обеспокоенность Кремля. Он чувствовал, что и США не согласились бы с ООН в 1945 году, если бы сенат знал, насколько могущественным станет Генеральный секретарь ООН{48}.
Пересматривая свою позицию по запрещению испытаний, Кеннеди одновременно обдумывал еще одну вероятную область соглашения с Москвой. Он поручил своему советнику по науке Джерому Визнеру подготовить доклад с перечнем путей сотрудничества США и СССР в космических исследованиях и работе в космосе. Визнер собрал команду из представителей госдепартамента, НАСА и Министерства обороны для обсуждения того, как исключить холодную войну в космосе. Несмотря на сопротивление представителя госдепартамента, 12 марта группа обнародовала доклад. Вашингтон предлагал сотрудничество или по крайней мере координацию работы с СССР по проекту пилотируемого полета на Луну. Первоначально Кеннеди считал это прекрасной идеей. Возможно, именно эту идею он сможет предложить Хрущеву{49}.
Ранее Джон Кеннеди уделял мало внимания космическим проблемам. После 12 апреля его отношение к освоению космоса изменилось. Незадолго до выборов 1960 года Чарльз «Док» Дрейпер из Массачусетского технологического института пригласил братьев Кеннеди на обед. Дрейпер, пионер в разработке инерционных систем наведения ракет, хотел пробудить интерес Кеннеди к космической программе. Позже Дрейпер вспоминал, что братья Кеннеди не были уверены в необходимости Реализации космических проектов{50}. Но успех Кремля в апреле 1961 года вынудил Кеннеди обратить внимание на роль исследования космоса в холодной войне. Месяц спустя после полета Юрия Гагарина Алан Б. Шепард, американец, стал вторым человеком в космосе. Несмотря на попытки США сравняться с Советским Союзом в освоении космоса, отставание на месяц не сокращалось. Гагарин облетел Землю, проведя в космосе два часа, полет же Шепарда длился лишь 17 минут, то есть практически был осуществлен запуск и немедленное возвращение на Землю. Потребовалось еще девять месяцев для того, чтобы еще один американец, Джон Гленн, повторил полет Юрия Гагарина.
В начале мая 1961 года объединенный комитет представителей Министерства обороны и НАСА подготовили доклад с рекомендациями для Кеннеди. Он должен был объявить, что к 1967 году США осуществят пилотируемый полет к Луне. В докладе указывалось, что этот полет можно рассматривать как удачный ход в холодной войне. Это шло вразрез с многочисленными рекомендациями Эйзенхауэру и Кеннеди по поводу важности проекта пилотируемого полета на Луну с точки зрения научных достижений человечества.
На Кеннеди все эти рекомендации не произвели должного впечатления. Он оставил за собой право выбора вариантов, причем в основном его беспокоила стоимость программы, оцениваемой в 8 млрд. долларов. Кроме того, он не знал, какое влияние подобный вызов произведет на советское руководство в преддверии саммита. «Не секрет, что Кеннеди предпочел бы сотрудничать с Москвой в деле исследования космоса», – вспоминает Теодор Соренсен{51}. К 17 мая, дате начала подготовки саммита, Кеннеди не принял решения об экспедиции на Луну. Взамен он предложил Дину Раску и брату обратиться к Хрущеву с предложением осуществить совместный полет. Кеннеди понимал, что главное поле боя холодной войны – психология. Он не решался использовать ядерные испытания в атмосфере для шантажа Советов. Он не хотел упустить хотя бы малую возможность успеха, навязывая практически бесперспективное соревнование в полетах на Луну.