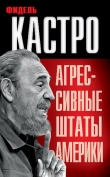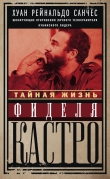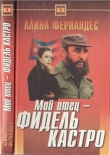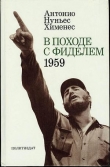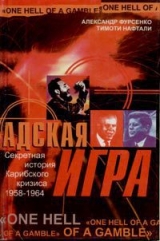
Текст книги "Адская игра. Секретная история Карибского кризиса 1958-1964"
Автор книги: Александр Фурсенко
Соавторы: Тимоти Нафтали
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц)
Вернувшись на Кубу, Алексеев взял на себя контроль за переговорами с главами кубинских спецслужб с целью определения роли этих «советников» из КГБ. В соответствии со своим новым статусом Анибал Эскаланте действовал как представитель Кастро на переговорах, где определялись новые формы сотрудничества советской и кубинской разведок. За полгода до этого Рауль Кастро заявлял, что только триумвират – Фидель, он сам и Вальдес могут вести переговоры с Москвой по такому деликатному вопросу. На переговорах Алексеева с Эскаланте и главами разведслужбы Кубы обсуждалась возможность подписания соглашения по расширению сотрудничества и разграничению сфер деятельности против США и кубинской эмиграции. Москва и Гавана приветствовали расширение кубинского разведывательного сообщества{90}. 17 кубинцев уже учились в советских разведывательных школах, кубинцы хотели увеличить это число до 50{91}.
Москва стремилась помочь кубинским секретным службам, но Алексееву приходилось сдерживать кубинских коммунистов, которые после залива Кочинос почувствовали возможность взять реванш. Блас Рока и Эскаланте по собственной инициативе разработали план физического устранения лидеров контрреволюции. Мануэль Рей, министр внутренних дел в первом правительстве Кастро, возглавил список лиц на уничтожение. Предвидя возражения со стороны советских представителей, Рока и Эскаланте пытались скрыть этот план Даже от Алексеева. Однако они прекратили свою работа, когда Алексеев узнал об этом от заместителя министра внутренних дел. Алексеев направил кубинцам послание, пытаясь убедить их в «несвоевременности» таких мер{92}.
Советские военные заняли оборонительную позицию в свете событий в заливе Кочинос. Вероятно, успех Фиделя объяснялся подавляющим превосходством в огневой мощи на крошечном береговом плацдарме. Советские танки Т-34 и 22-мм гаубицы, находившиеся на вооружении кубинской армии, вынудили контрреволюционеров сдаться. Тем не менее в советских армейских кругах понимали необходимость выработки соглашения по поставкам вооружения кубинцам, чтобы Кастро не смог обвинить Москву в несвоевременной поставке МИГов для предотвращения угрозы вторжения сил при поддержке США. Пока Алексеев отрабатывал детали реформы кубинских спецслужб, министр обороны готовил для Президиума перечень всего военного снаряжения, поставленного Москвой на Кубу с 1959 года[4].
Каковы были последствия операции? США не понимали, что из ожидаемых за год попыток вторжения нападение в заливе Кочинос было единственно реально. Хотя Советский Союз не завершил поставку военного снаряжения на Кубу, у Кастро оказалось достаточно вооружения для защиты берегового плацдарма. В апреле 1961 года кубинцы и советские представители были убеждены, что Кеннеди удержится от оказания реальной помощи контрреволюционерам. Фактически они оказались правы. Джон Кеннеди не санкционировал поддержку с воздуха, которая была необходима для удержания берегового плацдарма. Тем не менее кубинцы и Хрущев не ожидали вторжения такими большими силами в 1500 человек. Пережив первый шок, Советский Союз сделал то, о чем его давно просили кубинские коммунисты – они взяли на себя шефство над кубинскими спецслужбами.
Вторжение позволило Кастро объявить кубинскому народу о своем намерении построить социалистическую Кубу. Весной 1960 года Фидель намекнул советским представителям о своем желании видеть Кубу социалистической, в ноябре 1960 года он вступил в компартию, но кубинскому народу и миру объявил об этом 16 апреля 1961 года. Вторжение также смягчило влияние этого заявления на его авторитет в стране. Действия США подтвердили образ врага, который использовал Кастро в 1959 и 1960 годах, пытаясь ускорить радикальные реформы на Кубе. С апреля 1961 года события в заливе Кочинос стали великим объединяющим символом движения. Выбор в пользу коммунизма, сделанный Раулем Кастро в начале 50-х годов, Че в 1957 году и Фиделем в конце 1959 – начале 1960 года, теперь представлялся единственно правильным.
Серьезным последствием событий в заливе Кочинос стало возвышение Анибала Эскаланте и кубинских служб безопасности. Более года Фидель Кастро сопротивлялся этому. Перед лицом возрастания угрозы контрреволюции осенью 1960 года Кастро сделал первые важные шаги. Операция в заливе Кочинос ускорила этот процесс, явившись толчком к усилению полицейских сил, чему когда-то он так сопротивлялся. Эскаланте и его партнеры по переговорам Кудрявцев и Алексеев, вероятно, были правы, считая, что социалистическая революция встретит сильное сопротивление внутри страны, однако неумелые действия Кеннеди сняли последние преграды, удерживавшие Кастро от решительного шага.
Залив Кочинос привел к наихудшему для Кеннеди Результату: к неуязвимой Кубе в Карибском бассейне, не желающей вмешательства извне. Он получил коммунистическое государство в восьми минутах лета от США.
Вопрос, который после личной неудачи Кеннеди возникал у многих: смогут ли США примириться с существованием советского плацдарма на своем заднем дворе, достигнув приемлемой договоренности с СССР. Не только судьба шести миллионов кубинцев, но и характер соперничества сверхдержав зависели от ответа на этот вопрос.
Глава 2. Урок президенту
Жестокий апрель
Провал операции на побережье поставил Кеннеди перед необходимостью принятия ряда сложных для него решений. Джон Кеннеди не любил проигрывать ни в любви, ни в игре в футбол. Но в данном случае все было значительно серьезней: на карту был поставлен престиж нового руководства США и имидж администрации.
«Сейчас самая трудная проблема, стоящая перед нами, не в том, чтобы полностью изменить политику в отношении Кубы, – написал в докладе Кеннеди Уолт Уитмен Ростоу, помощник Макджорджа Банди и один из наиболее известных членов СНБ, – а консолидировать Север и начать присоединение к нему Юга». Увидев в Овальном кабинете разгневанного Роберта Кеннеди, Ростоу заволновался, не предпримет ли президент новую попытку устранить Кастро, залечив раны, нанесенные внешней политике США фиаско в Заливе Кочинос{1}.
Ключевым пунктом стратегической линии администрации было ослабление напряженности в отношениях с Советским Союзом. Термин «разрядка» впервые появился в 1955 году после встречи в Женеве Хрущева с руководителями Франции, Англии и США. Он означал ослабление борьбы с Москвой. «Дух Женевы» не пережил революции 1956 года в Венгрии и Суэцкого кризиса в том же году. Но потребность в разрядке порождала надежду. Казалось, такая возможность появилась в 1959 году, когда Хрущев, придя к власти, пересек океан и прибыл с визитом в США. К сожалению, второй период разрядки оказался кратким и завершился в мае 1960 года инцидентом с У-2, из-за которого встреча Эйзенхауэра с Хрущевым в Париже не состоялась В 1961 году администрация Кеннеди решила предпринять новую попытку.
Кеннеди понимал, что, давая зеленый свет операции в Заливе Кочинос, он рискует усилением напряженности в отношениях с Советским Союзом. За пять дней до того, как первый самолет США поднялся с аэродрома в Центральной Америки для бомбардировки целей на Кубе, Кеннеди и Хрущев договорились встретиться 3 июня в Вене. Но желание предпринять какие-либо действия против Кастро, бюрократическое давление в пользу секретной операции и непоколебимая вера Кеннеди и его советников, что Москва вынуждена будет смириться с тем, что произойдет с Кастро, – все говорило в пользу продолжения разработки плана ЦРУ.
Однако после провала операции в Заливе Кочинос Белый дом был прежде всего озабочен восстановлением веры Европы в Кеннеди, а не возвращением к идее саммита. «Кеннеди потерял свою притягательность», – заявил один европейский лидер, комментируя влияние катастрофы на Кубе на общественное мнение в Европе{2}. В Великобритании, к которой Кеннеди питал особую привязанность, газета «Файненшл таймс» писала о «редкостной неудаче» кубинской авантюры, а Уильям Риз-Мог из «Санди таймс» отмечал, что операция в Заливе Кочинос «была одним из грубейших просчетов… возможно, самой явной ошибкой Белого дома со времени решения президента Рузвельта разогнать Верховный суд»{3} В Оксфорде группа 14 американских ученых выразила крайнее недовольство молодым и способным выпускником Гарварда, который не оправдал возложенных на него надежд «Мы надеялись, что при новой администрации внешняя политика США будет отличаться повышенной честностью и доброй волей Мы не ожидали, что наш представитель в ООН прибегнет к обману и уверткам, что наши действия будут оправдываться необходимостью рассматривать их в качестве противовеса вторжению советских войск в Будапешт, и что соответственно общественное мнение будет обращено против них»{4}.
В конце апреля 1961 года отношение к Никите Хрущеву было более благосклонным. Каждая из неудач Кеннеди шла ему на пользу Полет в космос первого человека Юрия Гагарина 12 апреля продемонстрировал советское технологическое превосходство, которое впервые проявилось в 1957 году при запуске спутника. Через три дня после возвращения Гагарина на Землю Кремль поднял шумиху по поводу неудачи США на Кубе.
Хрущев понимал, что такие мировые достижения, как первый пилотируемый полет, дают большое преимущество в атмосфере политической войны. Полет Гагарина и триумф Кастро означали зрелость социализма. Разве не предвидел он подобного развития событий, выступая в январе перед советским народом В этом выступлении он особо остановился на новой фазе развития международного коммунистического движения «Наша эпоха, – говорил Хрущев, – это эпоха победы марксизма-ленинизма»{5}
Даже события в Юго-Восточной Азии, где СССР боролся со все возрастающим влиянием китайцев, развивались в благоприятном направлении. В декабре советские ВВС начали переброску военного снаряжения Патет Лао – коммунистическому повстанческому движению в горах Лаоса. Патет Лао обращался в основном за помощью к северо-вьетнамцам и китайцам, но с созданием воздушного моста, по которому перебрасывались необходимые грузы, Советы получили некоторое преимущество. После ряда неудач в первые месяцы 1961 года отряды Патет Лао начали успешную операцию по захвату столицы Вьетнама, а в дальнейшем и королевского трона Когда их наступление вновь замедлилось, Советы призвали Патет Лао к прекращению огня Сначала повстанцы отказались, полные решимости продемонстрировать свою независимость от Москвы, но затем согласились. Несмотря на ненадежность лаотян, Хрущев имел все основания считать, что события в Лаосе потверждают его оптимистические оценки будущего коммунистического движения в развивающемся мире.
Первый шаг Советского Союза
Хрущев ждал исхода битвы в Заливе Кочинос, чтобы вновь поднять вопрос о саммите 18 апреля, когда испаноязычные аналитики КГБ напряженно вслушивались в радиосообщения, которые рисовали довольно неясную картину происходящего, Президиум ЦК одобрил очень резкое письмо Джону Ф. Кеннеди, обвиняя его в помощи врагам Кубы. Спустя четыре дня, когда практически было завершено окружение кубинских эмигрантов и корабли ВМС США возвращались к своим берегам, Хрущев мог позволить себе быть великодушным Он и министр иностранных дел Андрей Громыко смягчили второе послание в ответ на послание Кеннеди, в котором он оправдывал проведение операции против Кубы. «Товарищ Хрущев, – заявил Громыко послу США, – считал необходимым ответить на письмо президента и привести свои доводы, но он надеялся, что возникшие разногласия будут урегулированы, что послужит улучшению советско-американских отношений, если американский президент и его администрация проявят добрую волю»{6}.
Москва ждала неделю и, не получив ответа, прямо осведомилась о возможности встречи на высшем уровне в Вене 4 мая Громыко пригласил в МИД посла США Ллоуэлина Томпсона{7}. Он зачитал заранее подготовленный текст, где выражалось сожаление по поводу ухудшения отношений между двумя странами в связи с собыгиями на Кубе. Кремль хотел знать, намерен ли Кеннеди встретиться с Хрущевым в Вене. Остается ли в силе предложение Кеннеди об обмене мнениями на высшем уровне – поинтересовался Громыко.
Хрущев верил, что саммит будет работать на него В 1960 году Советы пожертвовали саммитом из-за инцидента с У-2 В данный момент Хрущев считал, что в пропагандистском плане значение встречи настолько велико, что общественное мнение не простит ему, если он вторично упустит шанс, не встретившись с Кеннеди.
Анализируя ход мыслей Хрущева, старейший сотрудник госдепартамента советолог Чарльз Болен подчеркивал «двойственность» его внешней политики Даже признавая идею «мирного сосуществования», он вооружал национально-освободительные движения и неоднократно грозил ядерной войной, бахвалясь размером советского военного арсенала С 1958 года Хрущев периодически предупреждал Запад, что если последний не примет его формулы «уничтожения занозы», то есть Западного Берлина, на фланге социалистических государств, он всеми силами будет препятствовать размещению в нем солдат США, Англии и Франции{8}.
Сравнивая политику нового президента США со стратегической линией Хрущева, можно выявить не столько двойственность позиции последнего, сколько различие приоритетов. Несмотря на успехи СССР в апреле 1961 года, оптимистические прогнозы Хрущева в отношении мирового развития подвергались серьезным испытаниям, особенно в части ключевого вопроса, баланса военной мощи СССР и США и советского влияния в Центральной Европе, горнила двух мировых войн, а возможно и третьей.
В этот период Хрущев уделял много внимания вопросам послевоенного устройства Европы. Он потребовал от трех держав – союзниц СССР во Второй мировой войне – Англии, Франции и США – подписать вместе с Советским Союзом мирный договор с обеими Германиями ФРГ, образованной на территории трех западных оккупационных зон, и ГДР – советской оккупационной зоне Развал антигитлеровской коалиции не позволил сделать этого в 1945 году. И хотя в 1961 году проблема подписания мирного договора могла показаться неактуальной, ее разрешение могло бы стать для Запада бомбой замедленного действия. Столица гитлеровского рейха Берлин расположен на северо-востоке Германии. Каждый из союзников считал взятие Берлина символом Разгрома фашизма, и поэтому, хотя он находился внутри советской зоны оккупации в 100 милях от ее границ, город был поделен на четыре сектора по числу стран – победительниц. Советы не могли примириться с островком Запада внутри сферы своего влияния. В 1948 году Сталин закрыл все наземные подъезды в город, пытаясь таким образом вынудить своих бывших союзников покинуть Берлин. Вашингтон ответил созданием воздушного моста, что подняло дух западноберлинцев и превратило Западный Берлин в символ свободы. Не желая повторять ошибок Сталина, Хрущев решил предпринять дипломатическое наступление. В ноябре 1958 года он предъявил западным державам ультиматум. Если через 11 месяцев не будет подписан общий мирный договор, то СССР подпишет односторонний договор с Восточной Германией, предоставив восточным немцам право самим решить судьбу Западного Берлина.
Прошло два года, но давление Хрущева на западные державы нисколько не способствовало сближению позиций сторон. Статус-кво сохранился. Единственно, что изменилось, – это экономическая ситуация в Восточной Германии, экономика которой с 1958 года постоянно ухудшалась вследствие массовой эмиграции. Около 100 000 восточных немцев, в большинстве своем специалисты, каждый год покидали страну через Западный Берлин. Положение стало настолько серьезным, что в январе 1961 года Хрущев был вынужден пообещать руководству Восточной Германии, что к концу года разрешит сложившуюся ситуацию{9}.
Хрущев был игроком. Ставкой был Берлин, и он рассчитывал, что при личной встрече с Кеннеди сумеет повлиять на его позицию по Берлину. Советский лидер верил, что его требования соответствуют американским интересам и что только из-за слабости администрации Эйзенхауэра не удалось прийти к соглашению. Советский министр иностранных дел описывал Кеннеди как «абсолютного прагматика». Возможно, этого прагматика, думал Хрущев, можно будет убедить, что Берлин станет первым шагом на пути к разрядке. Однако в случае неудачи Хрущеву грозит недовольство соратников. Не все его коллеги по Президиуму ЦК КПСС были согласны с его стратегией разрядки путем переговоров.
Товарищ Хрущев считает, что «если СССР и США договорятся, то войны в мире не будет», – критически заявлял при снятии Хрущева в 1964 году член Президиума ЦК Дмитрий Полянский{10}. Хрущев непрерывно убеждал своих коллег в необходимости советско-американских договоренностей; концентрируя свои усилия на достижении подвижек по Берлину, он одновременно становился заложником этих договоренностей. Риск состоял в том, что, ратуя за саммит, он мог вернуться домой ни с чем.
Гамбит Кеннеди
Американец, которому Громыко задал вопрос о саммите, почувствовал серьезность намерений советского руководства. Ллоуэлин Томпсон изложил Кеннеди шесть причин, по которым он должен внимательно рассмотреть план саммита, намеченного еще до операции в Заливе Кочинос. Томпсон, который становился одним из влиятельных представителей Кеннеди в Москве, считал, что возможно сгладить острые углы советской внешней политики. «Перспектива встречи, – говорилось в его личном послании Дину Раску, – сделает Советы более сговорчивыми при обсуждении проблем Лаоса, запрещения ядерных испытаний и всеобщего разоружения». Он также надеялся, что улучшение отношений с Вашингтоном повлияет на решение Советского Союза относительно военных расходов{11}.
Кеннеди никак не мог принять окончательного решения по саммиту. Провал операции в Заливе Кочинос подавил его перед дилеммой. С одной стороны, он не хотел проявлять чрезмерную заинтересованность во встрече с Хрущевым. Это сыграло бы на руку его внутренним оппонентам, которые критиковали Кеннеди за недостаточно решительную поддержку кубинских контрреволюционеров. С другой стороны, президент опасался, что если в ближайшее время встреча с Хрущевым не состоится, советский лидер расценит колебания Кеннеди как слабость. Кеннеди решил не предпринимать военную интервенцию на Кубу и в Лаос. Как отреагирует на это Кремль? Что подумает Москва о президенте?
Когда перед Кеннеди вставал вопрос принятия решений, он доверялся интуиции. В данном случае инстинкт подсказывал ему, что надо выиграть время. Он дал инструкции госдепартаменту: Томпсон должен убедить Громыко, что президент не намерен отказываться от идеи саммита, однако считает невозможным подготовить его к началу июня. Белый дом знал, что Хрущев готовится к 2-недельной поездке в Центральную Азию. Надо сообщить Громыко, что к 20 мая, дню возвращения Хрущева в Москву, будет принято окончательное решение о саммите{12}.
Перед принятием решения Кеннеди внимательно изучал записи бесед Эйзенхауэра с Хрущевым в 1959 году. В результате Кеннеди пришел к заключению, что, во-первых, советский лидер умен, сообразителен и тверд, а во-вторых, упрям. Для президента эти выводы были менее значимы, чем те, которые он сделал в отношении 70-летнего экс-президента. Эйзенхауэр был бесцветным, его суждения напыщенными. Кеннеди уважал старика, но считал, что его время прошло уже в 1956 году. Записи 1959 года подтвердили его мнение{13}.
Кеннеди желал найти другой путь. До начала саммита он намеревался изложить советскому лидеру свои соображения. Он был слишком нетерпелив, чтобы смириться с неторопливостью обычной дипломатической практики. В этом случае прошло бы слишком много времени и инициатива бы оставалась в руках судьбы или Хрущева. Что собирается сделать или сказать советский лидер? Роль Томпсона во время кубинского кризиса и в целом в проведении внешней политики была значительна, и Кеннеди во многом полагался на него. Однако в апреле 1961 года Кеннеди не был настолько близок с Томпсоном, чтобы использовать его как доверенное лицо в общении с советским руководством. Поэтому Кеннеди обратил свой взор на человека, который в декабре 1960 года передал первое послание новой американской администрации Хрущеву. Это был его брат Роберт.
Где-то в конце апреля 1961 года Джон Кеннеди и его брат выработали личную стратегию успеха в Вене. Некоторым было известно высказывание Роберта о том, что на США смотрят как на бумажного тигра. Джон Кеннеди тоже был обеспокоен тем, что неудача в Заливе Кочинос и неясность ситуации в Лаосе дают основания неправильно интерпретировать намерения США по защите своих интересов за рубежом. Братья, в особенности президент, были одинаково обеспокоены последствиями явно воинственной политики по отношению к Советскому Союзу. Чего можно достичь жесткими действиями, если в конечном итоге вспыхнет война, которую в ядерный век невозможно выиграть. Есть области, где США и СССР могут сотрудничать. Если Кеннеди сможет заставить СССР признать важность одного-двух двусторонних соглашений по контролю над вооружениями и сотрудничеству в космосе, тогда, возможно, Хрущев будет рассматривать хорошие отношения с Вашингтоном как довод в пользу уменьшения поддержки национально-освободительных движений в странах третьего мира. Эксперты по внешней политике, такие как Уолт Ростоу, укрепляли уверенность Кеннеди в том, что есть связь между советской активностью в третьем мире и стратегическим соперничеством сверхдержав. «Если Вы, Никита, хотите улучшения отношений с нами, уйдите из Лаоса» – такова основная идея.
Когда-то Кеннеди надеялся, что соглашение по Берлину создаст основу улучшения отношений с Кремлем. Кеннеди получил эту сложную головоломку в наследство от Эйзенхауэра. Катехизис политики новых рубежей показывал, что окружению Эйзенхауэра не хватало интеллектуальной глубины, чтобы заниматься внешней политикой. Характерно, что Кеннеди считал, что проблему Берлина, как и другие внешнеполитические проблемы, можно было бы разрешить, если бы Даллес не был таким твердолобым. Вскоре после инаугурации Кеннеди попросил Дина Ачесона, госсекретаря в администрации Гарри Трумэна, подготовить план решения проблемы Берлина.
В разгар разработки печально закончившейся операции в Заливе Кочинос, когда его одолевали мрачные мысли по поводу будущего Юго-Восточной Азии, Кеннеди получил от Ачесона плохие новости. Архитектор доктрины Трумэна Ачесон не мог предложить Кеннеди ничего утешительного. «Без воссоединения Германии проблема Берлина не имеет решения», – подчеркнул Ачесон{14}.
Чтобы иметь хотя бы малейший шанс на успех в Вене, Джон Кеннеди должен был уйти от дискуссии по Берлину и направить внимание Хрущева на те сферы, где были возможны взаимовыгодные договоренности. Братья Кеннеди ни с кем не делились своими планами напрямую предложить Хрущеву подписать договор по контролю над вооружениями.
С 1958 года Вашингтон и Кремль обсуждали вопрос запрещения всех ядерных испытаний. Для облегчения переговоров в ноябре 1958 года СССР наряду с США и Великобританией присоединился к мораторию на испытания. Традиционно эти испытания проводились в атмосфере, что было чревато радиоактивным загрязнением окружающей среды. В последние годы США разработали методику подземных испытаний, которые были более дорогостоящими, но не влекли опасных последствий.
Дуайт Эйзенхауэр был согласен запретить ядерные испытания, если будет найден эффективный способ проверки выполнения договоренностей. Сначала среди американских ученых царил оптимизм по поводу возможностей надежной проверки проведения подземных ядерных испытаний. По анализу воздуха можно определить взрывы в атмосфере, но сложно найти различие между природными сейсмическими явлениями, достаточно частыми на территории Советского Союза, и сейсмическими явлениями, вызванными подземными испытаниями. В 1959 году научное сообщество США пересмотрело свои концепции в этой области и пришло к выводу, что слабые колебания ниже 4,75 по шкале Рихтера невозможно отличить от слабых землетрясений. Эйзенхауэр, которого особенно заботила надежность международного контроля, распорядился, чтобы каждая из сторон – США и СССР – разрешила инспекции на месте для определения источника сейсмических колебаний{15}.
Хрущев публично поддержал запрет на испытания. В 1956 году он объявил, что такой запрет явится первым шагом в нормализации отношений между сверхдержавами. Но по мере повышения требований США по контролю интерес Кремля к этой проблеме таял. Доклад 1959 года по сложной проблеме определения ядерных подземных взрывов усилил сопротивление Москвы. США предлагали ежегодную квоту в 20 инспекций на месте, каждую после неиндентифицированного сейсмического явления. Советский Союз настаивал на трех инспекциях. Советы подозревали, что американцы намерены использовать инспекции в разведывательных целях. Ситуация еще более обострилась, когда на переговорах в сентябре 1959 года прогресс в отношении запрещения ядерных испытаний связывали с «всеобщим и полным разоружением», то есть с явно утопическим предложением Хрущева о постепенной ликвидации всех вооруженных сил сторон, причем уже на первой стадии предлагалось провести демонтаж стратегических ракет. К 1960 году СССР вновь изменил свою позицию. Он был так обеспокоен ролью ООН в Конго, где, по его мнению, мировое сообщество должно было считаться с союзниками Москвы, что начал требовать не только меньшего числа инспекций, но и совершенно иной ее системы. Прежний план заключался в привлечении одного наблюдателя. Теперь советское руководство предлагало «тройку»: одного представителя от коммунистической страны, второго – от США или Великобритании, а третьего – от нейтральных стран. Москва отказывалась верить, что так называемые международные наблюдатели – гражданские служащие – могут быть объективными по отношению к социалистическим странам{16}.
Несмотря на явное сопротивление Кремля, Кеннеди избрал договоренности по запрещению ядерных испытаний в качестве основы своей стратегии на саммите. В администрации Эйзенхауэра три различных ведомства занимались политикой разоружения: госдепартамент, Министерство обороны и ЦРУ. Кеннеди решил повысить статус данного вопроса, назначив Макклоя, одного из заместителей Генри Стимсона в военном министерстве времен Второй мировой войны и президента Фонда Форда в 50-е годы, на должность главы нового ведомства – Агентства по разоружению и контролю над вооружением. Через день после назначения Макклой разослал пакет предложений по новому раунду переговоров по контролю над вооружениями. Она предусматривала запрещение испытаний как наиболее вероятный путь достижения соглашения с СССР и содержала некоторые изменения позиции администрации Эйзенхауэра по этому вопросу.
Основные ведомства, занимающиеся проблемой безопасности США – госдепартамент и Министерство обороны, – отвергли многие предложения Макклоя. Но Джон Кеннеди одобрил их. При личной встрече с братом он предложил сделать уступки Москве. Он хотел, чтобы Роберт уговорил СССР согласиться на новые инициативы по инспекции. Группа Макклоя предлагала уменьшить количество инспекций с 20 до 10 в год, а госдепартамент – до 12{17}. Что, если Кеннеди сумеет убедить Москву согласиться на 10 инспекций в качестве компромиссного варианта, одновременно предложив 15, а затем сойтись на 12? В конечном счете этот торг может увенчаться первым договором по контролю над вооружением между сверхдержавами, о чем лидеры объявят в Вене.
Администрация Кеннеди имела основания полагать, что советское руководство может пойти на такую игру ради достижения согласия. Посол Томпсон сообщал, что Кремль готов к уступкам ради запрещения испытаний{18}. С момента инаугурации советские представители в Вашингтоне, похоже, смягчили свою позицию по инспекциям{19}. Комментарии главы бюро ТАСС в начале марта позволяли Джону Кеннеди надеяться на возможность компромисса с Хрущевым. Михаил Сагателян, руководитель бюро ТАСС, в частности, выразил уверенность в возможности выработки общих позиций. Далее Сагателян выразился более конкретно: «Вероятно, американцы снизят порог испытаний, а Советский Союз повысит его, и затем будет найдена золотая середина в 12–13 инспекций»{20}. От Макджорджа Банди Кеннеди мог узнать, что сотрудник КГБ в Вашингтоне Александр Феклисов говорил о возможности компромисса. Несколько дней спустя после комментариев Сагателяна Феклисов сказал американскому журналисту, что компромисс возможен{21}. Об этом разговоре Кеннеди узнал от своего помощника Фредерика Л. Холборна.
В Вашингтоне знали, что по ключевым вопросам советские представители выражают только официальную точку зрения. Но и Сагателян и Феклисов подчеркивали, что это их сугубо личное мнение. Тем не менее братья Кеннеди надеялись, что советская сторона проявит гибкость. Они стремились довести до сведения Москвы, что новая администрация не оставит усилия Москвы без внимания и готова к взаимоприемлемым решениям. Но для этого Кеннеди был необходим конфиденциальный канал связи с Хрущевым. В конце апреля 1961 года Роберт Кеннеди начал искать его.
Появление Георгия Большакова
Большаков приступил к должности в Главном разведывательном управлении (ГРУ), разведывательной службе Советской армии, после двух лет работы сначала устным переводчиком с финского языка, а затем дивизионным офицером разведки. Вернувшись в 1943 году в Москву с Северо-западного фронта, он в течение семи лет учился в школе военной разведки. Даже во время войны против гитлеровской Германии система обучения в ГРУ оставалась неизменной. После сдачи экзаменов Большакова направили на 3-годичную учебу в Высшую разведшколу Генерального штаба, затем он был переведен в Военно-дипломатическую академию Советской армии, где работал до 1950 года{22}.
В 1951 году Большаков, прекрасно владевший английским, был направлен в свою первую командировку в Вашингтон. Очевидно, в качестве сотрудника ТАСС от Большакова ожидали расширения источников информации в максимально возможной степени. Соперничающие ведомства ГРУ и КГБ использовали ТАСС как «крышу». Большаков занимал офис ТАСС вместе с несколькими офицерами КГБ и «чистыми» журналистами.
Первая командировка длилась четыре года. В 1955 году ГРУ отозвало Большакова и перевело его в штат министра обороны маршала Г.К.Жукова. В личном деле его должность называлась «офицер по особым поручениям». Скорее всего, Большаков был офицером разведки при Жукове в период венгерских событий и Суэцкого кризиса 1956 года. Опала Жукова в 1957 году прервала карьеру Большакова. Продвижение по служебной лестнице застопорилось, и Большаков оказался в отделе по делам ветеранов ГРУ{23}.