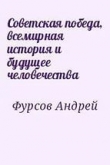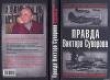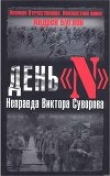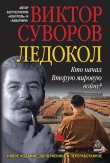Текст книги "Псевдоисторик Суворов и загадки Второй мировой войны"
Автор книги: Александр Помогайбо
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц)
Было у танка и противоснарядное бронирование: лоб и борта – 60 мм, корма – 55 мм, башня – 56 мм. Все это больше, чем у знаменитого Т-34 (лоб корпуса – 45 мм, лоб башни – 45 мм), который, несомненно, был танком с противоснарядным бронированием. «Они заслужили себе репутацию неуязвимых – ни одна немецкая танковая и противотанковая пушка не могла побить их брони» (там же. С. 27).
Но что любопытно: французский танк был не только лучше бронирован, чем Т-34, – он был и выпущен намного раньше. Танков В1 и В1бис на 10 мая 1940 года во Франции имелось 365, в мае – июне они вели бои с немцами. А в июне 1940-го были выпущены первые три серийных В-1тер с броней в 75 мм.
Первые же наши серийные KB появились летом 1940-го года, а Т-34 начали передаваться в армию лишь в сентябре 1940-го.
Ну разве все это не говорит о том, что Сталин жил во Франции и готовился завоевать Европу?.. Подумать только: еще в середине 30-х у него был танк, который имел четыре элемента конструкции новейшего танка.
Да Сталин жил и в Англии! И готовил нападение на Европу. Поскольку в 1940 году англичане начали выпускать «Валентайн», который тоже удовлетворяет требованиям Суворова-Резуна…

Английский танк «Валентайн»
На танке «Валентайн» была лобовая броня 65 мм, броня башни – 65 мм (напомним, что на танке Т-34, который считается танком с противоснарядным бронированием, броня в обоих случаях составляла 45 мм). На «Валентайн-П» ставились дизели, что позволяло иметь запас хода 225 километров. Силовое отделение и отделение силовой передачи находились в задней части корпуса; это позволяло танку иметь низкую высоту (2, 27 м, тогда как у Т-34 было 2, 4 м). Наконец, у танка была мощная длинноствольная пушка – небольшого калибра, но с очень большой начальной скоростью снаряда и до лета 1942 года поражавшая любой немецкий танк. Позднее это стало не так – но не так это стало и с Т-34, и КВ. Гусеницы только были средними по ширине – но, поскольку «Валентайн» имел отличную компоновку, он мало весил – и широкие гусеницы были ему просто не нужны.
В Мелитопольской операции само собой произошло сравнение характеристик «Валентайна» и Т-34. Тогда в трех бригадах 19-го танкового корпуса было 101 танк Т-34 и 63 «Валентайнов». За 13 дней боев потери составили 78 советских танков и 17 английских.
Но мы отвлеклись со всеми этими танками. О чем шла речь?
Ах, да! О том, что Сталин наготовил какие-то кошмарные танки для захвата Европы. И броня-то у них противоснарядная, и гусеницы широкие.
Ну так вот, английский танк «Черчилль» 1940 года имел лобовую броню в 101 мм. У «Черчилля» были широченные гусеницы, а также гаубица 76, 2 мм внутри корпуса и 40-мм пушка в башне (у Т-34 и КВ-1 было по пушке в 76, 2 мм). Позже гаубица перебралась в башню; ее калибр стал 95 мм. Лобовая броня дошла до 152 мм.

Английский танк Черчилль
Так что Сталин, оказывается, жил в Англии. Под партийной кличкой Черчилль.
Жил Сталин и в Америке и откликался на обращение «господин президент». Ведь американский средний танк МЗ «Грант», что выпускался с декабря 1939 года, с 1940 года стал оснащаться 75-мм длинноствольной пушкой – помимо 37-мм орудия. Лобовая броня его составляла 57 мм (у Т-34—45 мм), гусеницы были широкими, на танках МЗ и МЗА1 ставился дизельный двигатель «Гиберсон» Т-1400 – 2 (хотя большинство танков оснащалось карбюраторным мотором «Континентал»).
Если сделать общий вывод, то можно прийти к заключению, что советские KB и Т-34 не были каким-то уникальным достижением в танкостроении. Броня «Черчиллей» и «Матильд» была толще; вооружение В1бис и «Черчиллей» сильнее. Но это не значит, что Т-34 был хуже. У других танков – «Черчиллей», «Валентайнов», «Крусайдеров» – тоже были свои недостатки. В целом британский уровень танкостроения в 1941 году соответствовал советскому – за исключением пушек, которые в 1940 году еще могли быть 40-мм (на самом деле – 42-мм). «Валентайн» был сравним с Т-34, «Матильда» – с КВ.
Начало массового выпуска «Валентайна» (июнь 1940-го) совпало с началом серийного выпуска Т-34 (лето 1940-го). KB и «Матильды» тоже стали серийно выпускаться приблизительно в одно время (в 1940 году). Именно благодаря тому, что «Матильды» и «Валентайны» выпускались в одно время с KB и Т-34, английские танки смогли принять участие в битве под Москвой.
И все-таки советский Т-34 на 1941–1942 годы был действительно лучше иностранных! Не выдающимися качествами в чем-то одном, а комплексом средних параметров. Броня Т-34 была меньше, чем у английских «Матильд», ширина гусениц меньше, чем у «Черчиллей», вооружение жиже, чем у В1бис. Зато на Т-34 был найдено оптимальное сочетание маневренности, вооружения и бронирования. Именно это позволило ему стать лучшим танком мира!
И здесь, естественно, возникает вопрос: не потому ли именно в СССР возник лучший в мире танк? Возможно Сталин приказал создать – под угрозой ГУЛАГа – лучший в мире танк… Ведь он хотел завоевать Европу…
На это есть ответ. Танк А-32, из которого появился Т-34, возник как инициативная работа М. И. Кошкина. Работа вне основной задачи – конструирования колесно-гусеничного танка А-20.
Мало того. Вместо плохой пушки Л-11, которую намечалось ставить на этот танк, В. Г. Грабин разработал великолепную Ф-34. Руководители заводов производили и ставили на танк эту не принятую на вооружение пушку нелегально. Когда конструкторы создали новую, литую башню, безграмотный И. В. Сталин повелел не ставить ее до тех пор, пока конструкторы не определят, как новая башня изменит центр тяжести танка (!). Танкостроители все же нашли путь запустить в производство новую башню незамедлительно. М. И. Кошкин, В. Г. Грабин, АС. Елян и многие другие рисковали жизнью, чтобы дать Красной Армии хороший танк. Т-34 стал первым подвигом Великой Отечественной войны.
Но Суворов-Резун этого наверняка не знает. Не знает он и истории немецких танков.
«В ходе войны конструкторы заимствовали советский опыт и создали танки «Тигр» (1942), «Пантера» (1943) и «Тигр-Б» (1944). Это были лучшие зарубежные танки. Они имели в своей конструкции три элемента, которые относили в разряд новейших: мощные длинноствольные пушки, противоснарядное бронирование и широкие гусеницы. Но двигатели устанавливались на корме, а силовая передача – в передней части корпуса, это – нерациональное решение, это техническая отсталость. И создать танковый дизель в ходе войны Германия не сумела».
Ну что про все это сказать?
1) Танка «Тигр-Б» никогда не существовало. Был «Тигр-П», он же T-VI В, он же «Королевский тигр».
2) «Советский опыт» был заимствован только при создании «Пантеры». «Тигры» являлись чисто немецкой линией конструкторской мысли. К этому танку немцы шли с 1937 года.
3) У немцев был танк с размещением двигателя и силовой передачи в задней части корпуса – фирмы «Даймлер-Бенц», VK3002. Он по многим характеристикам напоминал советскую машину: боевая масса – 35 т, скорость – 55 км/ч, удельная мощность – 22 л.с./т, броня – 60 мм, длинноствольная 75-мм пушка. Сторонником этого танка был Гитлер. Задание условно именовалось «Пантера», но по этому заданию был представлен еще один танк, фирмы «МАН». Ознакомившись с обеими конструкциями, комиссия пришла к выводу, что расположение трансмиссии сзади, с двигателем, больших преимуществ не дает. Танк фирмы «МАН» и стал знаменитой «Пантерой».
4) Мощные дизели у Германии были, фирма «Даймлер-Бенц» предлагала поставить их на свои танки VK3002.
Продемонстрировав свое незнание советского и немецкого танкостроения, Суворов-Резун переходит к американскому.
«Мы почему-то не говорим, что они воевали на устаревших танках и войну завершили – на устаревших. А примеры – вопиющи».
Вопиют примеры.
О чем же они вопиют?
«Американский танк МЗ выпускался в огромных количествах (в их понимании) до 1943 года, он использовался до конца войны и далее. Детали легонькой противопулевой брони этого танка не сваривали – их соединяли заклепками. Как на броненосцах 19 века».
К этому своему утверждению Суворов-Резун добавляет иллюстрацию.

Американский танк МЗ (фото из книги Резуна)
Под фото надпись: «На протяжении всей войны Америка выпускала только устаревшие танки. До 1943 года на многих танках еще использовались заклепки. Это М-3. Его выпускали многими тысячами».
Увидев эти трогательные заклепки, я чуть не прослезился. Клепки – это да. Клепки – это убедительно: на протяжении всей войны американцы выпускали только устаревшие танки.
Но тут я обратился к характеристикам танка МЗ.
Броня… Вот: «Лоб корпуса: 38–45 мм…»
Гм… У меня мигом высохли слезы. Наш знаменитый Т-34 имел броню в 45 мм, и мы до сих пор безумно гордимся им. А Т-34 в СССР считался скачком в мировом танкостроении, первым массовым танком с противоснарядным бронированием.
«Броня лба башни – 38 мм…» У нашего танка Т-34 – 45 мм.
«Скорость 58 километров в час…» У Т-34 – 55 километров в час.
Н-да. Все как на ладони. Но обратимся лучше к мнению специалистов.
«К основным достоинствам танка МЗ следует отнести высокую эксплуатационную надежность и прекрасные динамические характеристики. Достаточно мощным было и вооружение, состоявшее из 37-мм пушки Мб и пяти 7, 62-мм пулеметов Browning M1919A4» (Моделист-конструктор. 1996. № 9).
Пять пулеметов! Можно представить, как такой МЗ встречал немецкую пехоту…
Впрочем, был и у МЗ и недостаток, и серьезный. Пушка явно слаба. Но танк-то был легким! Его дело – разведка, поддержка моторизированной пехоты, охрана штабов и другие вспомогательные функции, а не артиллерийские дуэли на дальних дистанциях. Для «дуэлей» вызывался на подмогу «Шерман».
Каковы были результаты боевого применения танков МЗ? Вот свидетельство:
«… Первыми американскими танками, прибывшими в Советский Союз по программе ленд-лиза, был легкий МЗ «Генерал Стюарт» и средний МЗ «Генерал Ли», более известные как МЗл и МЗс…
Недостатком была и клепаная башня; однако американцы ее довольно быстро заменили на сварную, а затем на подковообразную, боковые стенки которой состояли из одного гнутого листа.
Когда танки стали поставляться в СССР, они имели уже другой вид.

МЗ заслуженно считается лучшим легким танком Второй мировой войны. Английские танкисты, сражавшиеся в Северной Африке, прощали ему и слабое вооружение, и пожароопасность авиационного двигателя, зато «Стюарт» позволял им постоянно висеть на хвосте преследуемых немецко-итальянских войск. Динамические характеристики танка были отличными – семицилиндровый двигатель «Континентал» мощностью 250 л. с. разгонял 12-тонную машину до 58 км/час; подвижность танка и работоспособность его ходовой части находили изумительными. Вот только 37-мм пушка, по бронепробиваемости не уступавшая советской 45-мм, к 1942 году оказалась уже слабоватой. Разместить же более мощную артсистему не позволяли размеры башни.
В 1942–1943 годах Красная Армия получила 1665 танков МЗА1, которые если не превосходили, то не уступали советским Т-60 и Т-70. При общей простоте и надежности у МЗл выявился существенный недостаток – если автомобильные двигатели охотно потребляли низкосортный бензин, то мотор «Стюарта» предпочитал исключительно высокооктановый авиационный» (ТанкоМастер. 1998. № 1).
Итак, подведем итоги.
Суворов-Резун пишет: «На протяжении всей войны Америка выпускала только устаревшие танки. До 1943 года на многих танках еще использовались заклепки. Это М-3. Его выпускали многими тысячами».
Я полностью верю коммунисту Суворову-Резуну. Танк М-3, которого я не нашел ни в одном из справочников, наверняка был просто ужасным. Что вообще могут эти американцы? Разве что создать танк МЗ, о котором русские напишут, что этот танк «заслуженно считается лучшим легким танком Второй мировой войны» (ТанкоМастер. 1998. № 1).
Любопытно, что часть «стюартов» имела 75-мм гаубицу, что совсем приближало их по вооружению к Т-34. Назывался этот вариант «самоходной гаубицей М8», хотя к самоходным орудиям его, строго говоря, причислить трудно, поскольку башня вращалась. Танк-гаубица имел примерно такую же броню, вооружение и скорость, что и наш Т-34, но был куда легче и имел несколько меньшие размеры. С июня 1942-го по конец 1944 года фирмой «Кадиллак» было выпущено 1778 танков-гаубиц. Когда «шерманов» вооружили 105-мм гаубицей, задача огневой поддержки средних танков перешла от танков-гаубиц к ним.
Но почитаем Суворова-Резуна еще. Он все ругает американские танки:
«На танке М5 было два автомобильных двигателя, а на танке М4А4 – пять автомобильных двигателей (P. Chamberlain and C. Ellis. British and American Tanks of World War Two. New York. ARCO 1969. P. 110).
Как работали пять автомобильных двигателей в одном силовом отделении танка, пусть каждый вообразит сам. У меня не получается».
Не получается у Суворова-Резуна.
Действительно, пять моторов – это просто ужасно.
Но… с чего это пять двигателей стоит именно на М4А4, а не на более ранних модификациях этого танка – скажем, М4А1?
Я обратился к источникам – и с удивлением узнал, что на М4А1 стоял только один двигатель – Райт «Континентал» R-975.
В чем дело? Не сошли же американцы с ума, решив вставить в танк пять моторов вместо одного?
А дело обстояло так. Американцы начали выпускать танки М4 «Шерман» всего через 13 месяцев после того, как было дано задание разработать эту машину. За массовое производство взялось сразу несколько заводов, для которых прежних моторных мощностей просто не хватало. На часть танков М4 и М4А1 ставили «Континентал» R-975, который прежде ставился на средний танк МЗ. На М4А2 было два дизельных GMC-6046. На выпускавшемся с июня 1942 года М4АЗ стоял специальный танковый мотор «Форд» GAA-8.

Американскии танк «Шерман»
Танки М4А4 (выпускавшиеся с июля 1942 по сентябрь 1943 год) имели удлиненный корпус, чтобы вместить силовой агрегат «Крайслер С», состоявший из пяти автомобильных моторов. Танк М4А6 имел удлиненный корпус М4А4, в котором размещался радиальный дизель-мотор «Картерпиллар» RL-1820.
Используя различные моторы, американцы смогли быстро развернуть массовое производство. Всего до конца войны ими было выпущено 48 071 «шерманов» всех модификаций, включая 1332 канадских RAM и «Гризли» (М4А1). Уже 24 октября 1942 года «шерманы» участвовали в сражении под Эль-Аламейном в Северной Африке, где англичане убили 2600 немцев, потеряв 4100 своих солдат, – все же победили, чем до сих пор очень гордятся.
Глава 5
КАК УЖАСНО НЕМЦЫ БОЯЛИСЬ ВТОРЖЕНИЯ СТАЛИНА
Глава называется «С немецким разговорником по Смоленской области». В ней Суворов-Резун делает все новые открытия. Да еще какие!
«Единый замысел советского вторжения существовал и германской разведкой в общих чертах был вскрыт. Утром 22 июня 1941 года германский посол фон дер Шуленбург товарищу Молотову этот план довольно точно обрисовал. Еще и бумагу вручил. На память. Этот вскрытый германской разведкой советский замысел вторжения собственно и явился причиной и поводом германского вторжения как предупредительной акции самозащиты от неизбежного и скорого нападения».
Новейшая, смелая, прямо дерзкая версия начала Великой Отечественной войны!
Раньше все знали, что Шуленбург вручил документ, в котором говорилось, что, сосредоточив «все имеющиеся русские вооруженные силы на длинном фронте от Балтийского до Черного моря», СССР «создал угрозу рейху» и что СССР вступил в сговор с Англией «в целях нападения на немецкие войска в Румынии и Болгарии» (От Барбароссы до Терминала. М., 1988. С. 47). Никакого плана «советского вторжения» Шуленбург не предъявлял, и в его заявлении говорилось лишь о некоей потенциальной угрозе рейху.
Не было у немцев советского плана нападения на Германию.
Никогда.
Ни до войны, ни во время войны, ни после нее. Черную кошку не найти в темной комнате – особенно когда этой кошки там нет.
Немецкий историк М. Мессершмидт тщательно изучил дневники и письма немецких солдат, относящиеся к июню 1941 года. В книге «Operation Barbarossa» (Salt Lake Sity. 1961) есть его статья «Июнь 1941-го в немецких дневниках и мемуарах», в которой на странице 207 он пишет следующее:
«Если бы вермахт начал наступление против Красной Армии, тоже готовый к наступательным операциям, то можно было бы ожидать огромного числа свидетельств этой наступательной готовности в дневниках и мемуарах – тем более охотно это фиксировалось бы ввиду того, что помогало бы отрицать преступления самой германской армии. Но никаких признаков дневники и мемуары не выявляют».
Исключением было лишь одно-единственное свидетельство: перед Нюрнбергским трибуналом начальник штаба верховного главнокомандования вермахта Кейтель говорил о превентивном характере нападения по СССР. Но Кейтель, ответственный за многие злодеяния, писал тогда и мемуары, в которых пытался обелить свои действия. Каких-либо доказательств агрессивных намерений Сталина Кейтель не привел. Он лишь сказал, что в агрессивности Сталина его убедил – уже после нападения вермахта – Гитлер.
Ну а какие аргументы могли быть у Гитлера?
18 мая 1942 года, ведя беседу за столом, Гитлер сообщил, что именно их борьба с Россией «наиболее четко доказала, что глава государства должен первым нанести удар в том случае, если он считает войну неизбежной».
В обнаруженном у сына Сталина и написанном у одного из его друзей незадолго до нашего нападения письме говорилось буквально следующее: он «перед прогулкой в Берлин» хотел бы еще раз повидать свою Аннушку.
Если бы он, Гитлер, прислушался к словам своих плохо информированных генералов и русские в соответствии со своими планами опередили нас, на хороших европейских дорогах для их танков не было бы никаких преград» (Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск, 1993. С. 303).
На самом деле это письмо было найдено не у сына Сталина, а было предъявлено ему, Якову Джугашвили, на допросе с целью прокомментировать. Яков заявил, что никакого нападения в СССР не готовилось.
Таким образом, в качестве аргумента Гитлер имел одно-единственное, неизвестно кем написанное письмо! Это ясно говорит только о том, что никаких серьезных аргументов у него не было даже в 1942 году.
После нападения на Россию Гитлер в своей речи, оправдывая нападение вермахта, говорил о большом количестве советских танков, захваченных и уничтоженных на западной границе СССР. Но большое число танков на границе само по себе еще не свидетельствует о желании напасть. Это косвенно признал и сам Гитлер, сказав 4 августа 1941 года Г. Гудериану: «Если бы я знал, что у русских действительно имеется такое количество танков, которое приводится в вашей книге, я бы, пожалуй, не начал эту войну». Другими словами, танки Сталина Гитлер не расценивал как угрозу агрессии, требовавшей превентивного удара.
На том же Нюрнбергском суде Кейтель сообщил, что перед нападением на Россию он направил Гитлеру записку, предостерегая его от нападения на СССР. Гитлер отреагировал резко.
«Разговор свелся к весьма односторонней нотации Гитлера, заявившего, что мои соображения его никоим образом не убедили и моя оценка стратегической обстановки неправильна. Неверна и моя ссылка на прошлогодний договор с Россией: Сталин так же, как и он сам, не станет больше соблюдать его, если положение измениться и предпосылки для него исчезнут» (Откровения и признания С. 338).
Слова Кейтеля знаменательны. «Сталин… не станет больше соблюдать его [договор], если положение изменится». Значит, Сталин договор соблюдал.
Далее Кейтель говорил про Гитлера: «Он был одержим идеей: столкновение так или иначе, но обязательно произойдет, и было бы ошибкой ждать, когда противник изготовится и нападет на нас».
Выходит, Гитлер сам свидетельствует, что противник его еще не «изготовился».
Кейтель до Нюрнбергского трибунала утверждал, что министр иностранных дел Риббентроп согласился с ним попробовать отговорить Гитлера от его «русской авантюры». Отговорить Гитлера пытались также командующий ВВС Г. Геринг и командующий ВМФ Э. Рёдер (там же. С. 339). А это значит, что данных о якобы готовившемся Красной армией нападении не было и у них.
Лееб «оставался в оккупированной Южной Франции до 25 октября, когда группа армий «Ц» была переброшена в Дрезден, чтобы начать подготовку вторжения в Россию. Лееб протестовал против этой новой авантюры. Он предвидел возможные последствия, в том числе и вступление в войну Соединенных Штатов» (М и т ч е м С. Фельдмаршалы Гитлера и их битвы. Смоленск, 1999. С. 181). 22 июня 1941 года Лееб командовал группой армий «Север».
«В 1941 году Бок выражал несогласие со вторжением в Советский Союз и даже отказался во вверенной ему группе армий выпустить пресловутый «приказ о комиссарах» (там же. С. 209). 22 июня 1941 года Бок командовал группой армий «Центр».
«Герд фон Рундштедт был с самого начала против этой авантюры в России» (там же. С. 394). Рундштедт 22 июня 1941 года командовал группой «Юг».
Таким образом, командующие всеми тремя группами армий, вторгшихся в Россию 22 июня 1941 года, были против войны!
Генерал-фельдмаршал Рейхенау, презрев воинскую субординацию, предпринял попытку переубедить Гитлера. «Весной 1941 года Рейхенау подготовил подробный и объективный доклад о нежелательности войны с Россией и отослал его Гитлеру, минуя промежуточные инстанции.
После того как Гитлер отмахнулся от этого документа, Рейхенау, судя по свидетельствам генералов Роэрихта, Ферча, фон Фитингофа и Шпейделя, стал относиться к нему критически в целом» (там же. С. 166). 22 июня 1941 года Рейхенау командовал 6-й армией.
Э. фон Манштейн писал:
«Много спорили о том, носило ли развертывание сил Советской Армии оборонительный или наступательный характер. По числу сосредоточенных в западных областях Советского Союза сил и на основе сосредоточения больших масс танков как в районе Белостока, так и в районе Львова, можно было предполагать
– во всяком случае, Гитлер так мотивировал принятое им решение о наступлении, – что рано или поздно Советский Союз перейдет в наступление. С другой стороны, группировка советских сил на 22 июня не говорила в пользу намерения в ближайшее время начать наступление… 22 июня 1941 г. советские войска были, бесспорно, так глубоко эшелонированы, что при таком их расположении они были готовы только для ведения обороны» (Манштейн Э. фон. Утерянные победы. Смоленск, 1999. С. 198–200).
Так что Манштейн не считал фуппировку советских войск у границы угрожающей.
Командующий 2-й танковой группой Г. Гудериан на вопрос, за сколько дней он достигнет Минска, ответил: «5–6 дней» (Гудериан Г. Воспоминания солдата. С. 126). До Минска он действительно дошел за 5 дней, а Гот, идя другим путем, – за 4 дня. Вряд ли Гудериан, называя столь малый срок для такого значительного продвижения, считал, что основные советские войска сосредоточены на границе и готовы к бою.
Командующий 3-й танковой группой Г. Гот, по-немецки педантично описывая подготовку плана нападения на СССР, сообщает:
«В это время Гитлеру, который собирался начать наступление на Россию еще осенью, доложили, что сосредоточение и развертывание войск вдоль восточной границы займет от четырех до шести недель. Целью операции указывалось «разбить русскую армию или, по крайней мере, продвинуться в глубину русской территории настолько, чтобы исключить возможность налетов авиации противника на Берлин и Силезский промышленный район».
31 июля Гитлер изложил свои намерения более конкретно. Он заявил, что охотнее всего начал бы наступление на Россию уже в этом году. Но этого нельзя делать, так как военные действия захватят и зиму, а пауза опасна; операция имеет смысл только если мы разгромим Россию одним ударом» (Гот Г. Танковые операции; Гудериан Г. «Танки – вперед!». Смоленск, 1999. С. 22).
Другими словами, нападение поначалу замышлялось осенью, но его отложили из-за зимы и нехватки времени на развертывание войск. Если бы Гитлер наносил превентивный удар по изготовившемуся врагу, откладывание этого удара было бы опасным. А Гитлер потом еще раз перенес нападение: с 16 мая на 22 июня.
На совещании 22 июля 1940 года Гитлер сказал: «Сталин заигрывает с Англией с целью заставить ее продолжать войну и тем самым сковать нас, чтобы иметь время захватить то, что он может захватить, но не сможет, если наступит мир. Он стремится к тому, чтобы Германия не стала слишком сильной. Однако никаких признаков активного выступления России против нас нет» (Уткин А. Россия над бездной. Смоленск, 2000. С. 331).
Именно на этом совещании главнокомандующий сухопутными силами Германии фельдмаршал Вальтер фон Браухич получил указание Гитлера начать разработку плана нападения на СССР. Таким образом, нападение на СССР не было просто желанием «рубануть первым».
«Генерал Лоссберг, помощник Йодля в штабе командования вермахта, слышал вопрос Гитлера, сможет ли он нанести удар по Советскому Союзу после победы над Британией» (там же). Опять же, это отнюдь не вопрос о русском ударе в спину…
Гитлер был настолько уверен в успехе плана «Барбаросса», что 17 февраля попросил Йодля составить план вторжения в Индию через Афганистан, которое должно было осуществляться после разгрома Советских Вооруженных Сил. 17 февраля 1941 года советские войска еще к границе не подтягивались – началось подтягивание только немецких. Паулюс в советском плену описал военные игры, проведенные под его руководством в конце ноября – начале декабря 1940 года, на которых отрабатывались основные вопросы войны с Россией. По окончании игр со специальным докладом выступил начальник отдела иностранных армий «Восток» полковник Киндель. «Выводы докладчика, – свидетельствовал Паулюс в заявлении Советскому правительству, – были построены на предпосылках, что Красная Армия – заслуживающий внимания противник, что сведений об особо важных приготовлениях не было и что военная промышленность, включая вновь созданную восточнее Волги, была высокоразвитой» (Волков Ф. Д. За кулисами Второй мировой войны. М., 1985. С. 67).
В. Шелленберг, в июне 1941 года начальник АМТ6, службы разведки за рубежом, писал:
«Несмотря на склонность Канариса недооценивать успехи русских в области военной техники, в последних наших беседах он высказывал серьезные опасения по поводу того, что Германия может оказаться втянутой в войну на два фронта со всеми вытекающими отсюда последствиями». Канарис был главой абвера, разведывательной службы, и, если бы его разведка располагала данными о готовившемся Сталиным нападении, он должен был настаивать на скорейшем превентивном ударе по России.
Когда 22 мая Гальдеру доложили результаты воздушной разведки, он сделал вывод: «Аэрофотосъемки подтверждают наше мнение о решимости русских удержаться на границе». Это порадовало Гальдера: жесткая оборона давала немецкой армии шанс заключить приграничные части в мешки и разгромить основные силы Красной Армии западнее Двины и Днепра. Немцы разгромили приграничные части Красной Армии именно из-за их жесткой обороны, обрекавшей их на окружение. Мобильные части, призванные закрывать бреши в обороне, были во втором эшелоне и вовремя не подоспели.
Генералы Маркс и Лоссберг, ответственные за германское планирование в 1941 году, категорически исключали наступательные действия Красной Армии даже в случае нападения на нее.
А вот что писал в своих дневниках Геббельс:
«14 апреля 1941. Хорошо обладать силой. Сталин явно не хочет познакомиться поближе с немецкими танками».
«4 мая 1941. Первого мая в России был военный парад с пылкими речами и громогласными восхвалениями великого Сталина. Однако внимательное ухо без труда различит в этом страх перед надвигающимися событиями.
7 мая. Сталин и его люди совершенно бездействуют. Замерли, словно кролики перед удавом».
«11 мая 1941. Москва уже не признает суверенитет оккупированных стран. Теперь она уже не признает Югославию, с которой две недели назад подписала пакт о ненападении. Невроз, порожденный страхом».
«24 мая 1941. Р. должна быть разложена на составные части… на Востоке нельзя терпеть существование такого колоссального государства…»
«29 мая. Сталин, по-видимому, понемногу разбирается в трюке. Но в остальном он по-прежнему зачарован, он как кролик перед удавом».
«1 июня 1941. Москва вдруг заговорила о новой этике большевизма, в основе которой лежит идея защиты отечества. Это совершенно ясно. Но это все же подтверждает, что большевики очутились в тисках. Иначе бы они не затянули такую фальшивую песню».
«5 июня 1941. Дрожу от возбуждения. Не могу дождаться минуты, когда разразится шторм».
«6 июня 1941. Доклад из Москвы: частично подавленное разочарование, частично грубые попытки сближения с нами, частично уже видимая подготовка. В случае конфликта правительство намерено эвакуироваться в Свердловск».
«12 июня 1941. Информация из Бессарабии и Украины: русские уставились на нас как загипнотизированные и боятся. Делать они много не делают. Они будут сбиты с ног, как ни один народ».
«14 июня 1941. Восточная Пруссия так насыщена войсками, что русские своими предупредительными налетами могли бы нанести нам большой ущерб. Но они этого не сделают. Для этого у них не хватит мужества».
«16 июня 1941. Я оцениваю мощь русских очень низко, еще ниже, чем фюрер. Изо всех, что были и есть, эта операция самая обеспеченная».
«17 июня. Частично говорят о русской всеобщей мобилизации. Я это пока считаю совершенно исключенным».
Годом позже, 14 февраля 1942 года, Геббельс написал в своем дневнике:
«Наш посол в Москве граф фон дер Шуленбург тоже не имел никакого представления о том, что рейх намерен совершить нападение [на Советский Союз]. Он постоянно настаивал на том, что наилучшей политикой было бы сделать Сталина другом и союзником. Он отказывается верить, что Советский Союз готовит крупный военный удар против рейха».
9 января 1941 года Гитлер сказал Риббентропу:
«Сталин, хозяин России, – умный парень. Он не станет открыто выступать против Германии… Сейчас русские вооруженные силы – это обезглавленный колосс на глиняных ногах, но невозможно предсказать его будущее развитие. Коль скоро Россия будет разбита, лучше сделать это сейчас, когда русские войска не имеют хорошего руководства, плохо оснащены и когда русские испытывают большие трудности в военной промышленности» (Цит. по: Уткин А. Россия над бездной. С. 301).
Итак, политические и военные лидеры Третьего рейха – Гитлер, Геббельс, Геринг, Канарис, Риббентроп, Шуленбург, Рёдер, Кейтель, Рунштедт, Бок, Рейхенау, Гудериан, Бок, Йодль, Маркс, Лоссберг, Паулюс – 22 июня 1941 года не исходили из страха перед нападением Сталина.
Не обнаружили изготовившихся к броску советских войск и простые немецкие солдаты. Л. Штейдле встретил 22 июня на границе в районе Бреста. Вот его свидетельство: