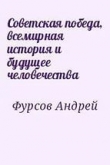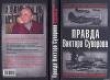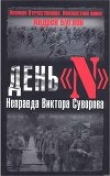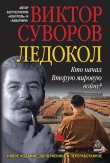Текст книги "Псевдоисторик Суворов и загадки Второй мировой войны"
Автор книги: Александр Помогайбо
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
Вот наперерез 1-й танковой и двинулись мехкорпуса – 22, 8 и 15-й, а потом, когда танковая группа проникла дальше в тыл, – 9, 19 и 21-й. Стрелковые дивизии прикрытия, что стояли на участке прорыва немецкой 1-й танковой группы, понесли страшные потери. Но они позволили советскому Генштабу увидеть направления главных ударов врага, благодаря чему 1-й танковой группе захватить с ходу Киев не удалось. А ведь в плане «Барбаросса» было написано: «С этой целью главный удар наносится из района Люблина в общем направлении на Киев».
А вот 164-й дивизии прикрытия повезло. Румыны вяло атаковали даже погранзаставы. Перед румынами план «Барбаросса» ставил задачу лишь «сковать русские силы, находящиеся внутри образуемых клещей». По этой причине в конце июня 12-я армия, к которой относилась 164-я дивизия, отошла от границы совсем ненамного.
Но почитаем еще Суворова-Резуна. Какие он делает выводы из своих рассуждений?
«В этом примере раскрыты причины поражения: готовность к оборонительной войне и готовность к наступательной – разные вещи, 164-я дивизия готовилась к наступлению, оттого так все и получилось».
Гм…
В этом районе Сталин поставил одну-единственную дивизию. Стрелковую – не танковую, даже не кавалерийскую. И не стрелковый корпус, не мощные орудия резерва Главного Командования, способные прорвать пограничные укрепления. Почему? Чтобы наступать на Германию?
Суворов-Резун:
«После выхода «Ледокола» выступили именитые историки и заявили, что моя версия не нова, это просто повторение того, что говорили фашисты. Своего читателя призываю в свидетели: разве я увлекаюсь цитированием фашистов? Мои книги пропитаны цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина, Троцкого, Сталина, Фрунзе, Хрущева, Брежнева, Шапошникова, Жукова, Рокоссовского, Конева, Василевского, Еременко, Бирюзова, Москаленко, Мерецкова, Кузнецова и многих с ними. Кто же из них фашист?»
Все верно. Не фашисты. Ни Василевский, ни Мерецков, ни Конев. Насчет Троцкого не знаю: не читал.
А. М. Василевский о плане грядущей войны:
«…Ожидалось нападение на наши границы наземных войск с крупными танковыми группировками, во время которого наши стрелковые войска и укрепленные районы приграничных военных округов совместно с пограничными войсками обязаны будут сдержать первый натиск…»
Стрелковые войска! У границы не было мехкорпусов – иначе Суворов-Резун их непременно бы засек. А наступление без танков не имеет смысла.
Но продолжим цитировать А. М. Василевского. У него после запятой идет:
«… а механизированные корпуса, опирающиеся на противотанковые рубежи, своими контрударами вместе со стрелковыми войсками должны будут ликвидировать вклинившиеся в нашу оборону группировки и создать благоприятную обстановку для перехода советских войск в решительное наступление» (Василевский A. M. Дело всей жизни. С. 117–118).
Хорошая цитата. Спасибо, Суворов-Резун, за то, что вынуждает заглядывать в источники.
И за Мерецкова спасибо, от души.
К. Е. Мерецков:
«Так, в начале июня свыше 750 тысяч человек приписного состава были вызваны в воинские части, а около 40 тысяч направлены в укрепрайоны» (Мерецков К. А. На службе народу. С. 207).
Это очень важная цитата. В советских книгах пишется просто, что в июне было вызвано «800 тысяч человек», а здесь начальник Генштаба К. Е. Мерецков уточняет – «около 40 тысяч направлены в укрепрайоны». Ясно, что за «нападение» готовил Сталин в июне 1941-го!
Но у Мерецкова есть и еще более важная цитата относительно военных приготовлений 1941 года:
«Взяв на себя инициативу, я сообщил командарму-5 генерал-майору танковых войск М. И. Потапову, что пришлю своего помощника с приказом провести опытное учение по занятию укрепленного района частями армии, с тем чтобы после учения 5-я армия осталась в укрепленном районе. В других местах оборонительные работы были еще не завершены. Ответственным за строительство укрепрайонов был Б. М. Шапошников, и я решил дополнительно поговорить с ним в Москве» (там же. С. 202).
К. А Мерецков был заместителем наркома обороны, и его слова прямо говорят о характере военной политики относительно Германии.
Теперь обратимся к И. С. Коневу. Опять же, благодаря Суворову-Резуну.
«Еще в Москве я получил задачу от Тимошенко. Указав районы сосредоточения войск 19-й армии, он подчеркнул: «Армия должна быть в полной боевой готовности, и в случае наступления немцев на юго-западном театре военных действий, на Киев, нанести удар и загнать немцев в Припятские болота» (Цит. по: С о к о л о в Б. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши. С. 212–213).
Армия Конева предназначалась для удара, но удара по прорвавшимся через пограничные войска немецким соединениям. Все тот же оборонительный план, что мы видим и в прочих мемуарах.
Суворов-Резун негодует:
«Если версия фашистская, то следует упрекать не меня, а советских маршалов и генералов, я только повторяю их слова. Мне плохо понятна ярость моих критиков».
Мне тоже плохо понятна. Такая прекрасная возможность посмеяться!
Суворов-Резун недоумевает:
«Отчего на меня ополчились? Почему вы молчали, когда выходили книги Жукова и Рокоссовского, Баграмяна, Еременко и того же Свиридова? На их головы следовало обрушить ваш благородный гнев. А я лишь скромный собиратель цитат».
Кого там вспоминает Суворов-Резун? Жукова, Рокоссовского, Баграмяна? Ну что ж, пособираем цитаты и мы.
Г. К. Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях»:
«13 июня С. К. Тимошенко в моем присутствии позвонил И. В. Сталину и просил разрешения дать указание о приведении войск приграничных округов в боевую готовность и развертывании первых эшелонов по планам прикрытия.
– Подумаем, – ответил И. В. Сталин.
На другой день мы были у И. В. Сталина и доложили ему о тревожных настроениях и необходимости приведения войск в полную боевую готовность.
– Вы предлагаете провести в стране мобилизацию, поднять сейчас войска и двинуть их к западным границам? Это же война! Понимаете вы оба это или нет?»
Ох, как Сталин хотел войны! Как жаждал напасть на Европу! Замучил Тимошенко и Жукова: мобилизуйте, предатели, армию. Немцы подвели войска к границе, а мы – что? Но Георгий Константинович И. В. Сталину этого не позволил.
К. К. Рокоссовский тоже предельно циничен насчет агрессивных устремлений РККА:
«Откровенно говоря, мы не верили, что Германия будет свято блюсти заключенный с Советским Союзом договор. Было ясно, что она все равно нападет на нас… Однажды заночевал в Ковеле у товарища Федюнинского. Он оказался гостеприимным хозяином. Разговор все о том же: много беспечности. Договорились о взаимодействии наших соединении, еще раз прикинули, что предпринять, дабы не быть захваченными врасплох, когда придется идти в бой» (Рокоссовский К. К. Солдатский долг. С. 7–9).
Собрались Рокоссовский и Федюнинский и свистящим шепотом обсуждают вопрос, как напасть на смирную, доверчивую синеглазую Германию. К слову, солдаты Федюнинского 24 июня обороняли УРы в районе Устилуга. Это написано у Жукова, которого Суворов-Резун не читал (см.: Воспоминания и размышления. Т. 2. С. 20).
Баграмян же посвятил нападению на Германию всю свою жизнь… Вот что он пишет про 1941-й год:
«В начале мая мы получили оперативную директиву Народного комиссара обороны, которая определяла задачи войск округа на случай внезапного нападения гитлеровцев на нашу страну…
В первом эшелоне, как и предусматривалось планом, готовились к развертыванию стрелковые корпуса, во втором – механизированные (по одному на каждую из четырех армий)» (Баграмян И. Х. Мои воспоминания. С. 192).
Заметим, что для нападения необходим противоположный порядок построения войск. Когда немцы напали на СССР, вперед были пропущены танковые группы, которые разорвали советскую оборону и создали котлы; следовавшие за танками пехотные части блокировали окруженных, после чего крупнокалиберная артиллерия этих окруженных уничтожала. Для осуществления этого плана немецкие танковые группы перед 22 июня были подведены к самой границе. Далее у Баграмяна:
«Стрелковые соединения должны были во что бы то ни стало остановить агрессора на линии пограничных укреплений, а прорвавшиеся его силы уничтожить решительными массированными ударами механизированных корпусов и авиации» (там же).
Ну разве не типично наступательный план? Спасибо Суворову-Резуну за правду…
Он пишет про единственную стрелковую дивизию у границы. Баграмян подтверждает – были только стрелковые. Все ясно, все сходится. Мы всё уже поняли. Но Суворов-Резун считает, что не всё, и упорно елозит вокруг этой единственной стрелковой дивизии.
«Предрекаю: когда найдете совершенно секретные документы, то в них будет та же информация – 164я стрелковая дивизия находилась между Прутом и Днестром… И по любой дивизии, корпусу, армии найдете совершенно секретные документы и в них обнаружите, что к обороне они не готовились, готовились к наступлению. Если генерал Свиридов и тысячи других участников войны отошли от исторической правды, то следовало их разоблачить 25 лет назад, объявить их версию фашистской и опубликовать опровергающие материалы. Но этого никто не делал и не делает. Мемуары наших генералов лежат на полках, их никто не читает».
Ну не читает их никто. А если бы прочли – такое нашли бы! У Жукова, Мерецкова, Конева, Баграмяна, Рокоссовского, Василевского – как Сталин готовил нападение на Европу!..
Суворов-Резун продолжает разоблачать:
«Да не так уж архивы были и засекречены. Правда, в генеральских мемуарах сталинский замысел мы видим не единым документом, а миллионом сверкающих осколков. Генерал армии К. Н. Галицкий, например, в книге «Годы суровых испытаний» (С. 33) описывает такой же разведывательный батальон, как и у Свиридова, но не во Львовском выступе, а Белостокском. Этот батальон – в составе 27-й Омской имени Итальянского пролетариата стрелковой дивизии, которая тайно была выведена в приграничные леса».
Одна-единственная дивизия, и опять – стрелковая, а не танковая.
Суворов-Резун продолжает:
«Разведывательный батальон находился в готовности вести разведку на территории, занятой германскими войсками. И чтобы поверили, генерал армии К. Н. Галицкий приводит ссылку на архив. Другими словами, находились в готовности к войне, только не к «великой отечественной».
Хорошо, поверим на миг Суворову-Резуну, что в «белостокском выступе» войска 22 июня стояли прямо на границе – пограничники же, как это говорил он ранее, были отведены в тыл.
Тогда 22 июня 1941 года в бой должны были вступить регулярные части: танки, артиллерия, пехота.
Ну-ка, посмотрим, что у нас было 22 июня в «белостокском выступе» и на его флангах. Обратимся опять к документальной книге А. И. Чугунова «Граница сражается».
105-й отряд. В 3 часа 50 минут в расположении гарнизона отряда разорвался первый снаряд. 3-я застава сразу приняла бой и через полтора часа оказалась в окружении. Продержавшись два часа, застава начала прорываться на восток.
4-я застава сдерживала врага около часа, но противник ее окружил. Продержавшись до 11 часов, пограничники прорвали кольцо и к вечеру прибыли в штаб отряда.
9-я застава держала оборону почти 8 часов. В живых осталось несколько человек, которые смогли выйти из окружения.
10-я застава сдерживала врага почти двое суток. Отошла по приказу коменданта.
12-я застава оборонялась до 23 часов. Начальник заставы послал свою жену с просьбой о подкреплении, но комендант смог направить только двух – военфельдшера и красноармейца; все остальные уже участвовали в бою.
13-я застава сражалась так упорно, что немцы бросили против нее пехотный батальон. После ожесточенной схватки пограничники отошли к комендатуре.
15-я застава. Начальник заставы Степанковский приказал подпустить немцев на 80—100 метров и только после этого открыть огонь. Потеряв несколько десятков человек убитыми, противник отошел. Степанковский погиб. К третьей атаке патронов почти не осталось, и тогда пограничники спустили на немцев пограничных собак. Придя в замешательство, противник отошел.
106-й отряд. 1-я застава. Пропустив немецкие танки, застава открыла огонь по пехоте. Придя в себя, немцы организовали атаку, но эта атака была отбита. Немцы блокировали заставу и уничтожили.
2-я застава. Бой длился два часа, после чего пограничники контратаковали. 25 пограничников погибло, 17 пробилось к своим.
На стыке 5-й и 6-й застав немцы выбросили десант, но пограничники его уничтожили. Уничтожение десанта вызвало замешательство у немцев, атака началась только через два часа. Бой длился до 12 ночи, после чего заставы по приказу отошли.
12-я застава встретила переправляющихся через реку немцев пулеметным и ружейным огнем. Бой продолжался несколько часов. Комендант пограничного участка капитан Бедин, израсходовав все патроны, подорвал себя и немцев последней гранатой.
107-й отряд. Все заставы отряда, кроме 8-й, были атакованы в первый же час вторжения. Дот под командованием Андриенко сражался три дня. Немцы замуровали все выходы, заживо похоронив защитников дота. Защищая комендатуру, рядовой Шевченко связал две последние гранаты и взорвал их в тот момент, когда немцы подошли к нему вплотную. 5-я застава отразила вражескую атаку и отошла по приказу. 6-я застава сдерживала врага более часа. Командир заставы приказал подпустить врага ближе и открыть огонь. Атака была отбита, но Кубов погиб. Командование принял политрук Беляев. Было отбито шесть вражеских атак. Политрук Беляев погиб во время последней. Застава отошла по приказу.
8-я застава сдерживала врага в течение полутора часов.
86-й отряд был обстрелян артиллерией в 4 часа.
1-я застава отражала атаку батальона пехоты и нескольких танков. Пограничники отсекли пехоту и заставили ее отступить.
2-я застава оказалась в окружении, но продолжала отбивать атаки. Подвергнув заставу сильному арт огню, немцы смогли ее захватить.
3-я застава отбивалась до 12 часов. Командовавший 3-й заставой лейтенант Усов получил пять ранений, но продолжал руководить боем. Разрыв снаряда засыпал его окоп. Откопали останки только после войны. В. М. Усову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
5-ю и 6-ю заставы подвергли бомбежке с воздуха, затем артиллерийскому обстрелу, после чего на пограничников направились танкетки. Пограничники и бойцы строительного батальона отразили атаку и отошли на вторую позицию, после чего снова отразили атаку. Третья атака оказалась самой трудной. Противник обошел пограничников. Начальник заставы выделил группу прорыва, которая расчистила путь остальным. После шестичасового боя застава отошла.
7-я застава подверглась пулеметному огню в 6 часов, после чего противник двинул вперед пехоту. Под огнем пограничников немцы отошли, потеряв около сотни солдат. Противник повторил атаку в сопровождении танкеток. Атака была отражена, но с большими потерями – 12 убитых и 3 раненых. Когда застава была окружена, начальник заставы принял решение идти на прорыв. В 20 часов оставшиеся в живых пограничники присоединились к 27-й стрелковой дивизии.
11-я застава начала боевые действия с того, что ее наряд в ночь на 22 июня обнаружил двух диверсантов. Один был уничтожен, второй ушел за границу. Застава сдерживала врага более четырех часов и отошла по приказу.
12-я застава сражалась на границе, затем была отведена, чтобы прикрыть эвакуацию из города.
20-я застава подверглась сильнейшему арт огню. Но пограничники подпустили врага и открыли огонь с близкой дистанции. Застава отошла по приказу.
87-й отряд располагался на границе с Восточной Пруссией. В 4 часа начался интенсивный обстрел застав. Силы наступавших были очень велики. Но тем не менее…
2-я застава отразила две атаки, уничтожив более 40 фашистов. Раненый старшина Логинов продолжал подносить боеприпасы в окопы. Застава держала оборону 10 часов.
4-я застава встретила два батальона пехоты, держалась до 11 часов, после чего пришел приказ на отход.
8-ю заставу атаковал кавалерийский эскадрон. Жена начальника заставы Я. Г. Лебедя стреляла в немцев из винтовки, а затем, связав гранаты, уничтожила танк. Застава оборонялась шесть часов; когда ее окружили, пограничники начали пробиваться к своим.
10-я застава вела тяжелые бои в окружении. Немногие уцелевшие под командой сержанта Иванова прорвались на восток. Иванов погиб.
14-я застава оборонялась два часа, отошла в тыл по приказу.
17-я застава подверглась ураганному обстрелу. Застава отражала атаки на протяжении четырех часов. По приказу отошла к комендатуре, где вместе с 15-й и 16-й заставами и штабными подразделениями заняла оборону. Когда противник обошел этот рубеж, пограничники стали отходить. Пограничники 15-й заставы захватили высоту, которая позволяла прорваться остальным.
88-й отрад. 2-ю заставу атаковало до батальона пехоты, пограничники отразили шесть атак. Оставшиеся в живых двадцать бойцов пошли на прорыв.
3-я застава отражала атаки пехотного батальона. Пограничники продержались до полудня и отошли по приказу.
5-я застава подверглась артогню, который разрушил все ее сооружения. Пользуясь тем, что застава располагалась у реки, пограничники более суток мешали переправе. После того как противник создал вокруг заставы кольцо окружения, по приказу коменданта застава начала прорыв. Поскольку патронов почти не осталось, прорыв осуществлялся штыками и саперными лопатками.
6-я застава оказалась на направлении главного удара. Застава заставила отойти кавалерию противника, но оказалась бессильна против двигавшейся на восток колонны танков. Тем не менее пять бойцов были посланы помешать немцам навести переправу; трое из них (двое погибли) успешно выполняли эту задачу на протяжении долгого времени. Противник вынужден был поднять против заставы «юнкерсы». После воздушной атаки на заставу направилось три танка. Рядовой Сидоров подорвал один танк и погиб сам. Танки пушечными выстрелами разрушили дзоты. Оставшиеся в живых пограничники отошли в тыл.
13-я застава подверглась артналету. Немцы начали наводить переправу, но пограничники сорвали ее своим огнем. Один броневик все же успел проскочить переправу, но рядовой Смирнов уничтожил его связкой гранат. Перешедшие вброд немцы пошли в атаку, но пограничники перешли в контратаку и сбросили врага в реку. Бой продолжался до 17 часов, было уничтожено несколько десятков фашистов и две бронемашины. По приказу застава отошла.
Три заставы и штаб 4-й комендатуры составили отряд, оборонявший Драгичено. После артподготовки немцам удалось захватить часть Драгичено, но, перейдя в контратаку, отряд выбил врага с советской территории. Тогда немцы двинули танки. Два танка пограничники подорвали связками гранат. Когда вечером границу начали переходить крупные силы, командование комендатуры приняло решение на отход.
17-й отряд воевал в Бресте. Подвиг защитников Брестской крепости хорошо известен. Значительно меньше
– подвиг пограничников острова, что примыкал к крепости. Защитники острова оборонялись до. 28 июня. Воспользовавшись дождем, немцы высадились на остров, но контратакой пограничники сбросили их в реку. При этом погибла почти половина личного состава. 29 пограничников прорвались в крепость, но при переправе еще часть погибла. Осталось всего 18 человек. После атак немцев погибло еще шесть. Когда кончились боеприпасы, лейтенант Жданов принял решение перебираться туда, где еще слышались выстрелы, но там нашли только павших. В ночь на 3 июля группа насчитывала 8 человек, но к ней присоединились три защитника Брестской крепости, из которых один был тяжело ранен. Жданов приказал идти на прорыв; прорваться удалось четверым. Раненый скончался, трое 23 июля вышли к линии фронта.
В крепости 28 июня лейтенант Кижеватов распорядился прорываться из крепости мелкими группами. Сам он решил не отходить:
– Некуда мне идти, здесь моя застава, а я ее начальник.
Часть бойцов решила его не покидать. Продолжая руководить обороной, лейтенант Кижеватов с группой бойцов пошел на взрыв переправы, которую фашисты навели через Буг. При выполнении этого задания он погиб. Разъяренные фашисты нашли и уничтожили его семью.
1-я застава была атакована танками. Фашисты начали переправляться через Буг под прикрытием дымовой завесы. Скоро из 52 человек заставы в живых осталось лишь 13, из которых большинство были тяжело ранены.
2-ю заставу обстреливали с перерывами в два часа. Пограничный наряд не давал врагу переправиться через реку, но, когда наряд погиб, около роты пехоты начали атаку на заставу. Две атаки с флангов были отбиты, тогда немцы высадили парашютный десант, но и десант успеха не имел. В 18 часов комендант дал команду прорываться.
3-я застава была атакована в 7 утра. Застава отбила две атаки и по приказу отошла.
На участке 4-й заставы противник начал форсировать Буг в трех местах, под прикрытием артиллерийского и пулеметного огня. В центре участка переправлялось около 40 танков. Первую попытку форсировать Буг пограничники отразили. На дно было отправлено пять вражеских танков и четыре орудия. Но гранаты и патроны кончились, и потому большая часть пограничников погибла. Когда немцы пытались взять раненного на вышке часового Семенова, он бросился вниз и разбился. В развалинах продолжали отстреливаться раненые бойцы. Когда развалины начал утюжить немецкий танк, последовал сильный взрыв – защитники подорвали себя и танк.
5-я застава, находившаяся в 10 км северо-западнее Бреста, обороняла шоссе. После артподготовки на восток устремилась масса войск. Во время немецкой атаки по ним ударил пулемет из засады и заставил залечь. Немцы пригнали местных жителей и за ними, как за щитом, увели тех, кто залег. Пущенный против пограничников танк был подбит гранатами. Застава оборонялась пять часов. Уцелевшие пошли на прорыв. Тяжелораненых подобрали и выходили местные жители.
6-я застава отражала атаки тринадцать часов. Когда немцы обошли пограничников, начальник заставы принял решение пробиваться к своим.
7-я застава оборонялась восемь часов. Истекая кровью, раненый Землянский стрелял, стоя на коленях. Григорьеву раздробило локоть, но он продолжал вести огонь. Тяжелораненый Саблин метнул гранату и потерял сознание. После приказа на отход пограничники двинулись на восток. Раненых по пути погрузили на попутную машину. 8-я застава оборонялась семь часов и отошла по приказу. 10-я застава держалась четверо суток. Застава разделилась на две группы, каждая из которых попала в окружение. Одна группа была полностью уничтожена в рукопашной схватке, но немцы при этом были так обескровлены, что не сразу смогли взяться за вторую группу. Когда снаряд поджег дом, в котором оборонялась вторая группа, – никто не вышел. Все погибли.
11-я застава вела бой пять часов. Когда немцы окружили заставу, начальник штаба 3-й комендатуры дал команду на отход.
12-я застава вела бой около трех часов, пока к ней не прибыл батальон 84-го стрелкового полка, усиленный тремя орудиями. В 20 часов застава начала отход в направлении полигона.
13-я застава сражалась в окружении четыре часа. После гибели начальника заставы, разбившись на группы, пограничники стали пробиваться на восток.
16-я застава сдерживала врага более пяти часов. Начальник заставы и замполит были убиты. Пограничники отошли по приказу и присоединились к 75-й стрелковой дивизии.
17-я застава оборонялась около девяти часов. Исчерпав все возможности, отошла, чтобы присоединиться к 75-й стрелковой дивизии.
18, 19 и 20-я заставы были подвергнуты артобстрелу. В 8 часов началась переправа на участке 20-й заставы. Получив отпор, немцы отошли, чтобы начать переправляться на участке 18-й заставы. Поскольку и это завершилось неудачей, немцы подожгли лес. Пограничники отошли на участок 1 – й заставы соседнего отряда, где продолжали сражаться до утра 24 июня. Часть 20-й заставы была расположена на восточном берегу Западного Буга. Пограничники оборонялись до 14 часов, до приказа на отход. С 22 часов они заняли позиции, на которых прикрывали отход 15-го стрелкового корпуса, а затем 45-й стрелковой дивизии.
Не все заставы отражены в этой краткой драматической хронике. Часть из них погибла в полном составе. Бывший начальник 86-го погранотряда Г. К. Здорный писал:
«Остаются еще невыясненными действия целого ряда застав, в частности 8, 10, 17, 18-й, на участках которых прорывались большие силы противника».
Ни имен, ни фамилий. «Пропал без вести…» К этому добавим, что именно за позициями 86-го погранотряда и находилась 27-я стрелковая дивизия, о которой писал Суворов-Резун.
Итак, пограничники перед 22 июня отведены в тыл не были, их место танки, артиллерия и стрелковые корпуса не заняли. Ну а то, что
Красная Армия хотела напасть на Европу, – оставим это на совести нашего псевдоисторика.
Ну а если продолжить бред Суворова – выйдет вот что.
Благодаря танковым и стрелковым корпусам у границы 22 июня немцы были на всех направлениях отброшены и советских рубежей не перешли. Благодаря этому война окончилась уже 23 ноября 1941 года знаменитой Мюнхенской операцией советских войск…
«Вопрос о происхождении Третьего стратегического эшелона, надеюсь, ясен: ДО ГЕРМАНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ ГРАНИЦА БЫЛА ВО МНОГИХ МЕСТАХ ОТКРЫТА и многие тысячи пограничников отведены в тыл, где и были организованы в три карательные армии».
Что это, Господи, за три «карательные армии»?..
«29-й армией командовал заместитель Наркома внутренних дел генерал-лейтенант НКВД ИМ. Масленников, 30-й – бывший начальник пограничных войск Украинского округа генерал-майор НКВД В А. Хоменко, 31-й – бывший начальник Прибалтийского пограничного округа генерал-майор НКВД К.Н. Ракутин, затем бывший начальник Карело-Финского пограничного округа генерал-майор НКВДВ. Н. Долматов. Три армии – это целый фронт».
Был такой фронт?
Был!
Был фронт резервных армий, из шести армий, четыре из которых – 29, 30, 31 и 24-я – возглавлялись пограничниками. Резервными эти армии были недолго. 29, 30, 31 и 24-я армии бросили в Смоленское сражение.
Ход Смоленского оборонительного сражения дан одинаково практически во всех мемуарах. 20-я и 16-я советские армии расчленены, часть их сил – в окружении у Смоленска. Эти окруженные войска огибают клинья: с севера – танковой группы Гота, с юга – Гудериана.
Огибают и… упираются в 30-ю армию Хоменко и 24-ю армию Раку-тина. Дальше немцы тогда пройти не смогли.
Сейчас о Ракутине и Хоменко, к сожалению, почти никто не помнит. До победных наступательных операций они не дожили. Ракутин в конце 1941 года со всей своей 24-й армией оказался в окружении и погиб при попытке прорыва. Хоменко в 1943 году получил три ранения в грудь; у него были выбиты оба глаза. Попав в таком состоянии в плен, Хоменко отклонил все попытки немцев склонить его к измене и был умерщвлен.
Севернее 24-й и 30-й армий на карте Смоленского сражения находятся 29-я и 31-я армии. Именно на 29, 30 и 31-й армиях растратит все свои танки 3 – я танковая группа немцев, но так и не сможет обойти Москву с севера. Но это будет в ноябре – декабре. А в августе – сентябре у Смоленска 24, 30, 16 и 20-я армии приостановили обе танковые группы, 3-ю и 2-ю, – и надолго. Наступление было возобновлено немцами лишь через месяц. За месяц Советский Союз сумел осуществить мобилизацию, эвакуировать предприятия на Восток, перевести промышленность на военные рельсы. Сумел оправиться от удара.
Кто же их остановил?
Отведенные от западной границы пограничники?
Ответ есть в литературе. Суворов-Резун мог его найти.
«На формирование только первых шести дивизий, предназначенных для фронта резервных армий, из состава пограничных войск было направлено 3 тыс. офицеров и генералов и 10 тыс. сержантов и солдат. Это была лучшая часть кадрового состава пограничных войск Грузинского, Армянского, Азербайджанского, Казахского, Среднеазиатского и Туркменского пограничных округов» (Сечкин Г. Граница и война. С. 155).
Вот как! Пограничники Средней Азии и Кавказа!
Начальник германского Генерального штаба сухопутных войск Гальдер надеялся, что «формирование противником новых соединений (во всяком случае, в крупных масштабах) наверняка потерпит неудачу из-за отсутствия офицерского состава…»
Кавказские и среднеазиатские пограничники Гачьдера весьма огорчили.
В новых дивизиях было 3 тысячи офицеров и генералов и 10 тысяч сержантов и солдат погранвойск. Под ружье встали выпускники Высшей пограничной школы и курсанты Ново-Петергофского военно-политического училища.
Помимо перечисленных пограничников в упомянутых шести дивизиях было небольшое число – в целом 3 тысячи человек – пограничников из Ленинградского, Прибалтийского, Белорусского, Украинского и Молдавского пограничного округов, «вышедших из окружения после боев на границе» (см. там же. С. 156).
Но 15 тыс. человек – это численность дивизии. Где же набиралось шесть дивизий?
Ответ можно найти в приказе на создание дивизий:
«На формирование указанных дивизий выделить из кадров НКВД по 1000 чел. рядового и младшего начальствующего состава и по 500 чел. командно-начальствующего состава на каждую дивизию. На остальной состав подать заявки в Генеральный штаб Красной Армии на призыв из запаса всех категорий военнослужащих» (там же. С. 153).
Подавляющая часть солдат новых армий никакого отношения к пограничным войскам не имела.
29-я армия (245, 252, 254 и 256 сд) и 31-я армия (244, 246, 247, 249 сд) формировались в Московском военном округе. Территориально Московский военный округ – это центр Европейской России. Июньская мобилизация составила 29-ю, 31-ю армии и часть 30-й армии (состоявшей из 119 сд и 51 тд из резерва Ставки Верховного Главнокомандования и вновь созданных 242, 243 и 251 сд), а также пополнение практически всех остальных армий Западного направления.
Июньская мобилизация основательно «подчистила» военнообязанных центра России 1905–1918 годов рождения, и потому началось формирование московских дивизий народного ополчения, из которых состояли 32-я и 33-я армии (2, 7, 8, 13 и 18-я дивизии народного ополчения в 32-й армии и 1, 5, 9, 17 и 21-я дивизии народного ополчения в 33-й армии).
Когда я был еще комсомольцем, то ездил к границе Смоленской области, к памятнику дивизии народного ополчения нашего района, вошедшей в состав 32-й армии и погибшей у дороги, что вела на Москву.
Суворов-Резун к этому памятнику не ездил, об армиях с 29-й по 33-ю он не знает и потому пишет следующее:
«Остается вопрос о назначении целого фронта чекистов. Стрелять в затылки наступающих войск, подбадривая нерадивых? Может быть».
Профессиональный стукач не может не предположить что-либо подобное. Профессионал всегда профессионал…
«Но для того существовали заградительные отряды, созданные до германского нападения во всех советских армиях и корпусах. Заградительные отряды НКВД органически входили в состав и Первого, и Второго стратегических эшелонов».