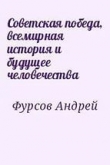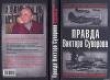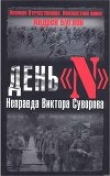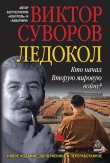Текст книги "Псевдоисторик Суворов и загадки Второй мировой войны"
Автор книги: Александр Помогайбо
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
Итак: Муссолини пришел к власти не благодаря Ленину, а благодаря королю Италии. Не парламентские выборы, а вооруженное выступление дало фашистам власть в Италии. На парламентских выборах итальянские фашисты получили столь ничтожное количество голосов, что претендовать парламентским путем на власть они никак не могли.
Теперь почитаем, как наш историк объясняет свое утверждение о том, что Сталин привел Гитлера к власти в Германии.
Он пишет:
«На выборах 1933 года Гитлер получил 43 % голосов, социал-демократы и коммунисты – 49 %…»
И еще:
«Товарищу Сталину нужна была война. Поэтому товарищ Сталин приказал коммунистам в единый блок с социал-демократами не вступать… После выборов 49 процентов голосов были разделены на социал-демократов и коммунистов. Вместе – сила, порознь – слабость. Не коммунисты, ни социал-демократы в отдельности не имели 43 процента голосов. Их имел Гитлер. И он победил».
Ну что ж, прежде всего проверим цифры, что приводит Суворов-Резун, по книге Аллана Буллока «Гитлер и Сталин» (Смоленск, 1994).
Количество голосов (в процентах)
| Партии | 14 сент. 1930 | 31 июля 1932 | 6 нояб. 1932 | 5 марта 1933 |
| СДПГ | 24,5 | 21,6 | 20,4 | 18,3 |
| КПГ | 13,1 | 14,6 | 16,9 | 12,3 |
| Центристская партия | 11,8 | 12,5 | 11,9 | 11,7 |
| Баварская народная партия | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 2,7 |
| Германская демократическая партия | 3,8 | 1.0 | 1,0 | 0,8 |
| Германская народная партия | 4,5 | 1,2 | 1,9 | 1,1 |
| Экономическая партия | 3,9 | 0,4 | 0,3 | — |
| Германская национальная народная партия | 7,0 | 5,9 | 8,8 | 8,0 |
| НСДАП | 18,3 | 37,4 | 33,1 | 43,9 |
| Другие партии | 10,5 | 2,8 | 4,4 | 1,9 |
Итак, выборы 5 марта 1933 года: социал-демократы – 18,3 процента, коммунисты – 12,3, национал-социалисты – 43,9 процента.
Насчет национал-социалистов Суворов-Резун почти угадал, а о других – нет. Не имели социал-демократы вместе с коммунистами 49 процентов голосов. И никогда не имели.
6 ноября 1932 года: социал-демократы – 20,4 процента, коммунисты – 16,9, национал-социалисты – 33,1.
Еще одни выборы, 31 июля 1932 года: социал-демократы – 21,6 процента, коммунисты – 14,6, национал-социалисты – 37,4.
Неверны цифры у Суворова-Резуна. Не в ладах он с цифрами.
Мой совет ему: в очко играть не садись – разденут…
Вот и получается, что исходные положения Суворова-Резуна неверны. Теперь разберемся с выводами. «Сталин открыл дорогу к власти для Гитлера методом, которым Ленин открыл дорогу для власти для Муссолини».
Ну, допустим.
Допустим, что Сталин хотел победы Гитлера. Хотел объединить под властью фашистов Европу, чтобы Гитлер имел перевес в людях в три раза и располагал промышленным потенциалом в пять раз более России. Это в 1941 году Сталин что-то построит, но в 1933-м промышленный перевес Европы был больше раз в десять!
И именно тогда Сталин задумал свой дьявольский план.
Благодаря большой численности населения СССР имел перед началом Второй мировой войны очень большую армию. Здесь СССР имел подавляющий перевес – но в отдельности – над Германией, Францией, Италией и Англией. Чтобы лишить себя этого преимущества, Сталин, получается, и задумал объединить Европу под фашистским знаменем…
Завоевание Гитлером Европы нужно было Сталину еще для одного: для поголовной ликвидации всех коммунистов на континенте. Только когда Гитлер сгноит немецких коммунистов в концлагерях, сделает всех европейцев фашистами, сформирует полки СС из норвежцев, голландцев, датчан, фламандцев и т. д., – вот тогда Сталину можно будет нападать на Европу.
Каким мудрым был план Сталина! И только Суворов-Резун, единственный человек в мире, его разгадал!
Но он разгадал не только это…
Наш мудрец понял еще и то, что Гитлер победил на выборах!
«Ни коммунисты, ни социал-демократы в отдельности не имели 43 процента голосов. Их имел Гитлер. И он победил».
Это открытие прямо эпохально, а поскольку немцы до сих пор думают, что Гитлер на выборах не победил.
Военная переводчица Елена Ржевская в книге «Геббельс. Портрет на фоне дневника» пишет:
«У нас бытует ошибочное представление, будто Гитлер в результате победы на всенародных выборах 1933 года стал канцлером. Это не так. Он был главой самой массовой партии, получившей преимущественное по сравнению с другими партиями число голосов, но это не означало, что тем самым он становится канцлером. Он получил этот пост из рук Гинденбурга в критический момент, когда выявились спад популярности его партии и кризис внутри нее».
На самом деле Гитлер на выборах проиграл. В 1932 году были выборы президента – Гитлер стал вторым, Гинденбург – первым. Победил Гинденбург, выбранный президентом. В 1933 году национал-социалистическая партия получила больше голосов, чем другие партии, – но по немецким законам это совершенно ничего не значило. У нас в 1993-м Жириновский получил максимальное число голосов на выборах в парламент, но ему не вручили пост премьер-министра.
Президент Германии Гинденбург мог предоставить пост канцлера любому, чья кандидатура получила бы большинство при голосовании в парламенте, что он и сделал: канцлером стал министр обороны генерал-майор фон Шлейхер.
Но почему Гинденбург позднее вдруг передумал и сделал канцлером Гитлера? Ответ на этот вопрос очень точно дает книга Вилли Фришауера «Взлет и падение Геринга». Фришауер был в 1933-м немецким журналистом – он свидетель той эпохи.
Он пишет, что на выборах 31 июля 1932 года национал-социалисты получили 230 мест, тогда как коммунисты всего лишь 89, а социал-демократы – 133 места. Но нацистов Гинденбург презирал, во время визитов к нему Гитлера он даже не протягивал ему руки. Пост канцлера Гитлеру не светил. Однако настроение Гинденбурга внезапно резко изменилось. А дело было в том, что социал-демократы потребовали расследования деятельности прусских помещиков Юнкерсов – соседей Гинденбурга по поместью и деловых партнеров. Юнкерсы растратили государственные средства, и следы могли привести к Гинденбургу. Канцлер Шлейхер обещал социал-демократам расследовать это дело. Сын Гинденбурга срочно связался с Герингом: Гитлеру предлагали пост канцлера.
Вот так из-за «дела Юнкерсов» Гитлер и стал во главе Германии. Конечно, свою роль сыграли и многие другие предпосылки: экономический кризис, сделавший Гитлера популярным; финансовая поддержка Шахта и прочих банкиров на предвыборной компании Гитлера; даже ненависть Сталина к социал-демократам после того, как те вместе с группой Брандлера в германской компартии «способствовали поражению рабочего класса Германии во время революционных событий 1923 года» (Сталин И. В. Сочинения. Т. 6. С. 411) – и многое другое.
Но решающее слово в назначении Гитлера канцлером принадлежало именно Гинденбургу.
Канцлер Гитлер уже не расследовал дело Юнкерсов. Вскоре был организован поджог рейхстага (В. Фришауер приводит факты, свидетельствующие, что эта акция была совершена по команде Геринга). После такой провокации оппозиционные партии, в том числе и социал-демократическая, были запрещены.
К этому можно добавить, что вскоре Шлейхер был убит, была убита и его жена; социал-демократов отправили в концлагеря.
Это было только начало…
Но продолжим знакомство с открытиями Суворова-Резуна:
«Социал-демократы неоднократно предлагали коммунистам совместные действия против Гитлера на любых условиях, но всегда получали твердый и решительный отказ».
Проверим и это – по книге Е. Ржевской. Она сообщает следующее: Гитлер был назначен канцлером 30 января 1933 года. Накануне этого рокового события, 29 января, сто тысяч рабочих собрались в центре Берлина, протестуя против столь опасного для страны назначения. В 1920 году, в дни капповского путча, рабочие, объявив всеобщую забастовку, защитили республику – но, когда 30 января 1933 коммунисты предложили социал-демократам провести всеобщую забастовку, те наотрез отказались. Они легкомысленно сочли, что Гитлер и без того через несколько недель сойдет с политической сцены. Их аргументация была близоруко наивной: поскольку нацистский руководитель «пришел к власти согласно правилам, принятым в демократических государствах», всякое внепарламентское сопротивление следует исключить.
Сделав Гитлера канцлером, Гинденбург распустил рейхстаг – с мыслью, что после выборов нового его состава национал-социалисты получат абсолютное большинство. Но Гитлер его опять не получил! Не имели большинства в рейхстаге и социал-демократы с коммунистами. Тогда Гитлер и Гинденбург совершили грубый политический трюк: 23 марта рейхстагу был предложен закон о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству и диктаторских прав рейхсканцлеру (Гитлеру). Социал-демократы голосовали против. Но партия национального фронта и партия центра поддержали национал-социалистов.
Теперь еще раз вспомним идею Суворова-Резуна: Гитлера привели к власти Сталин и коммунисты. Теперь послушаем мнение по этому вопросу Г. Гудериана, начальника Генштаба сухопутных войск вермахта в 1944–1945 годах:
«23 марта 1933 г. был принят пресловутый закон о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству, наделивший рейхсканцлера диктаторскими правами. Он был одобрен большинством голосов, поданных депутатами от партии «национального фронта» и от партии центра. Социал-демократическая партия мужественно голосовала против этого закона, губительности которого для будущей судьбы Германии многие политики тогда не понимали. Ответственность за все последствия должны нести те политические деятели, которые в свое время голосовали за его принятие» (Гудериан Г. Воспоминания солдата. Ростов/на Д., 1998. С. 37).
Но это мнение немца, нациста, ближайшего сподвижника Адольфа Гитлера. У коммуниста – юродствующего Суворова-Резуна – иное мнение. Он не немец – ему виднее.
Но как же все-таки пришел к власти Адольф Гитлер? Очень просто.
После смерти Гинденбурга Гитлер, будучи диктатором, совместил посты канцлера и главы государства, что было, конечно, противозаконно. Таким образом, к правлению Германией Гитлер, как и Муссолини в Италии, пришел самочинно, минуя выборы.
Глава 8 опуса Суворова-Резуна называется «У кого союзники лучше». Главная цель ее – доказать, что союзники СССР – Англия и США помогали России куда лучше, чем союзники Германии помогали рейху.
Свою мысль Суворов-Резун подкрепляет фотографией

Надпись под фотографией гласит: «Американские студебеккеры – Сталину. Это и есть готовность к войне».
Здесь есть грамматическая ошибка: название марки автомашины без кавычек. Но главное в другом. К какой войне? До 22 июня 1941-го «студебеккеры» в Россию из США, как известно, не поступали.
Резун пишет книгу о желании Сталина напасть на Европу в 1941 году. При чем тут американская помощь?
«С 1 октября 1941 года по 31 мая 1945 года только Америка снарядила и отправила Сталину 2660 транспортных кораблей», – бойко сообщает Суворов-Резун.
Да, снарядила и отправила. Но при чем это в книге про «нападение Сталина»?
« Союзники не приходят сами. Их надо найти, союз с ними обеспечить», – пишет Суворов-Резун.
Аргумент убедительный.
Да, насчет союзников Сталин был просто мастер. Перед 22 июня 1941-го он имел сплошные союзы – с Францией, с Англией, США. Они появились сразу после агрессии против Финляндии. Как отбомбились наши СБ по Хельсинки, так вся Европа сразу выстроилась в единый фронт. «Слышался единый вопль: война России!..» – писал французский журналист де Кериллис о том периоде.
Англия и Франция стали союзниками Финляндии в посылке ей оружия, даже хотели отправить туда экспедиционный корпус для действий против Красной Армии.
Все правильно: были союзники – у Финляндии, а обеспечил ее ими Сталин.
Антисоветский запал в Британии из-за Финляндии был настолько силен, что когда 22 июня Германия напала на СССР, англичане даже и не знали, чью сторону занять. Советский разведчик Ким Филби писал о дне 22 июня 1941 года:
«Всех терзали сомнения в этой запутанной ситуации. На чью сторону встать, когда Сатана пошел войной на Люцифера? «Боюсь, русским придет конец», – задумчиво сказал Манн. Многие с ним согласились, некоторые даже со злорадством. Дух добровольцев, собиравшихся в Финляндию, был еще жив. Дебаты, однако, скоро прекратились, так как объявили, что вечером выступит Черчилль с обращением к народу. Самое разумное для рядовых англичан было подождать, пока не выскажется премьер-министр.
Черчилль разрешил проблему. Когда он кончил речь, Советский Союз уже стал союзником Англии» (Филби К. Моя тайная война. М., 1980. С. 42).
Так вот, нашей союзницей Британия стала только 22 июня 1941 года, после выступления Черчилля.
«Везло нам на союзников», – довольно пишет Резун. А потом, доказывая свою мысль, пишет, как посланцы Сталина приобретали у французов моторы, а у американцев – танки.
«Немедленно Советский Союз начал их массовое производство. Башню мы и сами сделать умеем, двигатель сначала использовали американский – «Либерти», потом нашли даже лучший – немецкий БМВ».
Все правильно: авиамоторы – из Франции, танки – из Америки, – но это Сталин готовил «нападение на Европу»! Американцы делали танки просто так, потому что они очень красивые. Потом немцы со своими моторами ввязались: очень уж им не терпелось, чтобы Сталин побыстрее напал. Но уже много было желающих вооружить Сталина – еле удалось втиснуться в очередь.
«Я показываю на примерах, что страны Запада гнали в Советский Союз бомбардировщики и авиационные двигатели из Франции, танковые двигатели БМВ из Германии, танки Виккерс и Карден-Ллойд из Британии, танки Кристи из Америки, и все это выдавалось за металлолом или за сугубо мирную продукцию».
В общем, европейцы наперебой совали свои бомбардировщики и танки потенциальному врагу. Неужели Запад сошел с ума и готовил себе погибель?
Проверим.
Танки «Карден-Ллойд»… Были в Красной Армии танки «Карден-Ллойд»? Не было. «Карден-Ллойд» Мк VI – это не танк, а пулеметная танкетка, по образцу которой в СССР была создана танкетка Т-27.
Суворов-Резун пишет: «Я показываю на примерах…»– и никаких примеров насчет танка «Карден-Ллойд».
И про бомбардировщики из Франции он тоже «показывает на примерах», даже не упоминает их марки. Наверное, потому, что их попросту не было.
А вот говоря про «танковые двигатели БМВ» из Германии, он называет марку – и уличить его совсем легко.
Не было «танковых двигателей БМВ»!
«В 20–30 годах ряд двигателей выпускался на наших моторных заводах по иностранным лицензиям:… М-17 – БМВ-6 (Германия)», – пишет А. С. Яковлев в книге «Советские самолеты» (М., 1982. С.246). «Общим для танков Т-28 и Т-35 было применение мощного авиационного мотора М-17» (Оружие Победы. М., 1985. С.132).
Выходит, немцы не «гнали» в Советский Союз танкового мотора, поскольку не было у них танкового мотора БМВ, а был авиационный, для танкового двигателя не совсем подходящий.
И немцы никогда не выдавали свой авиамотор «за металлолом или за сугубо мирную продукцию». В этом и не было нужды, поскольку мотор имел и сугубо мирное применение: он ставился на советские пассажирские самолеты К-5 и АНТ-9.
Ну, еще немного посмеемся над познаниями Суворова-Резуна. Он пишет: «…двигатель сначала использовали американский – «Либерти», потом нашли даже лучший – немецкий БМВ».
То есть сначала был неплохой «Либерти», а потом – совсем хороший БМВ.
Смотрим в справочник. «Либерти» стоял на танке БТ-2, принятом на вооружение в 1931 году, – однако еще в 1925 году появился у нас самолет ТБ-1 с мотором М-17, который и был тем самым БМВ – БМВ-6.
Как же так? В СССР выпускают БМВ-6, потом – через столько лет – в Германии… «находят вдруг «даже лучший», БМВ!
«Находят»!
На самом деле в середине 30-х годов у фирмы «БМВ» была приобретена лицензия на изготовление на Запорожском заводе моторов БМВ-6, которые уже давно использовались в авиации и на танках. Фирма «БМВ» к тому времени уже давно перешла на моторы большей мощности и потому даже не смогла толком воспроизвести прежнюю техническую документацию. Из-за этого, к примеру, на моторах, изготовленных на Запорожском заводе, ломались поначалу коленвалы. Тогда коленвалы сделали потоньше, чтобы разнести частоту работы мотора и резонансные частоты коленвала, – и это избавило мотор от поломок. Когда об изъяне сообщили на фирму, та прислала письмо с извинениями.
Но всего этого Резун наверняка не знает.
В главе 9 «А как реагировала бы Британия?» Суворов-Резун снова привязывается к читателю со своим «вопросом».
«Возникает вопрос. И вполне резонный. Союзники действительно помогли Сталину. Но Советский Союз был жертвой нападения, и потому ему помогли. Ну а если бы Советский Союз напал на Германию, как бы к этому отнеслись Британия и США? Давайте разберемся».
И вот он разбирается, высказывая свои гипотезы и домыслы, развозя свои рассуждения на целые 20 страниц.
Но это лишь гипотезы и домыслы. Нас они, конечно же, не интересуют, поскольку есть непосредственные высказывания самих лидеров Англии и США о том, как реагировали бы англичане и американцы на нападение СССР на Германию.
По свидетельству И. фон Риббентропа, когда летом 1940 года И. В. Сталин установил с Лондоном тесные отношения через своего посла С. Криппса, Черчилль заявил, что не пройдет и полутора лет, как Россия выступит против Германии (См.: Откровения и признания / Сост. Г. Я. Рудой, Смоленск, 2000. С. 36).
Иначе как подстрекательством Германии к нападению на СССР это не назовешь.
Поскольку официальное положение У. Черчилля обязывало придерживать язык за зубами, о сокровенных мыслях его о войне можно судить по высказываниям его сына Рандольфа: «Идеальным исходом войны на Востоке был бы такой, когда последний немец убил бы последнего русского и растянулся мертвым рядом».
Подобное некоторые официальные лица Британии говорили открыто.
Нарком авиапромышленности А. И. Шахурин в своих воспоминаниях писал, что англичане в начале Великой Отечественной отказались поставлять СССР современные самолеты. «Поведение Бальфура не покажется странным, если принять во внимание позицию, которую занимал тогдашний министр авиационной промышленности Англии Мур-Брабазон, открыто высказывавший надежду на взаимное уничтожение русских и немцев в интересах усиления Великобритании» (Шахурин А. И. Крылья победы. М., 1985. С. 119).
У. Черчилль хотел претворить эти мечтания в жизнь. «Черчилль пытался договориться с американцами о том, чтобы вместе с ними заключить сепаратное – без участия СССР – перемирие с Германией. Американское правительство не пошло на это» (Трухановский В. Г. Уинстон Черчилль. М., 1968. С. 373).
Итак, в конце войны, когда англо-американо-советский союз, казалось, был спаян накрепко, Черчилль предлагал американцам выйти из игры, чтобы немцы могли и дальше убивать русских. Вот такой у нас был верный и преданный английский друг.
Черчилль был не одинок в своих надеждах. Когда к командующему английской армией Монтгомери обратился преемник покончившего с собой Гитлера, адмирал Дениц, с предложением о сепаратном мире, Монтгомери согласился. И только благодаря тому, что командующий американской армией Эйзенхауэр сепаратному миру воспротивился, немцы прекратили сопротивление и капитулировали – день их капитуляции и стал Днем Победы.
А британский гражданин Суворов-Резун вопрошает: «Ну а если бы Советский Союз напал на Германию, как бы к этому отнеслись Британия и США?»
Да с восторгом! В этом никто и не сомневался никогда. К чему задавать пустые вопросы?
Когда началась война Германии с СССР, радости Черчилля не было границ. Вторая столь же радостная минута будет у него в 1945-м. В. Г. Трухановский пишет:
«Черчилль испытывал огромную радость, когда во время работы Потсдамской конференции американская делегация получила доклад о том, что экспериментальный взрыв ядерной бомбы произведен успешно».
Заметим, «огромная радость» Черчилля в середине 1945 года. Что же именно в победном-то 1945-м вызвало у него такую радость?
В. Г. Трухановский:
«Знаменательно, что первая мысль Черчилля, после того как он прочел переданный ему Трумэном доклад, состояла в том, что атомная бомба должна быть использована против Советского Союза, что теперь Англия и США, запугав СССР новым оружием, смогут добиться его капитуляции».
Не против Японии, с которой Британия и США воевали, хотел применить Черчилль ядерное оружие, а против СССР, союзника, который как раз взял на себя обязательство вступить в войну с Японией и помочь Британии и США.
При американской атомной бомбе глава Великобритании рассчитывал построить отношения с СССР на новой основе. К чему теперь дипломатия, коли можно поступить куда проще? «Черчилль говорил, что сейчас Советскому Союзу надо заявить: «Если вы настаиваете на том, чтобы сделать то или это, то ладно же… а затем – куда девались эти русские?» Имелось в виду, что после «ладно же» сбрасываются атомные бомбы на Советский Союз, в результате чего «эти русские» будут стерты с лица земли».
Для тех, кто недостаточно внимателен, подчеркнем: У. Черчилль хотел уничтожить не коммунистов или вооруженные силы Советов, а русских, народ России.
В речи на конференции консервативной партии в 1948 году он предложил немедленно, не откладывая дела в долгий ящик, предъявить Советскому Союзу ультимативные требования. Среди этих требований было, например, предоставление международным монополиям доступа к эксплуатации «обширных просторов» СССР.
Все это весьма напоминает план Адольфа Гитлера – и по уничтожению населения, и по захвату ресурсов нашей страны.
Ну а как отреагировали бы на нападение СССР на Германию Соединенные Штаты?
Когда в 1939 году разразилась мировая война, Советский Союз оставался на первых порах вне боевых действий. И тут произошел один инцидент, о котором сообщает в своих воспоминаниях министр иностранных дел фашистской Германии И. фон Риббентроп:
«Происходило и такое сближение Соединенных Штатов с Россией, что Рузвельт «на основе новейшей информации» смог намекнуть: вскоре произойдет вступление России в войну против Германии» (Цит. по: Откровения и признания / С.36).
Другими словами, Рузвельт тоже подстрекал Германию к нападению на СССР.
Скоро Германия и в самом деле напала на СССР. Через полгода Гитлер объявил войну и Соединенным Штатам. Казалось бы, Америке и» Англии нужно было немедленно открыть второй фронт – чтобы помочь союзнику. О необходимости открытия второго фронта говорило и командование американской армии – и совершенно обоснованно. В 1942-м это могло бы отвлечь немногие немецкие резервы, что позволило бы русским прорывать немецкий фронт; а в 1943-м американцы имели достаточно техники уже для самостоятельного наступления.
Но Ф. Рузвельт отложил открытие второго фронта на два года. По этому поводу посол США в СССР У. Гарриман открыто говорил, что отсрочка имеет не военные, а политические причины.
Что же это были за политические причины?
В разговоре со своим сыном Эллиотом в августе 1941 года Рузвельт говорил так:
«Китайцы убивают японцев, а русские убивают немцев. Мы должны помогать им продолжать свое дело до тех пор, пока наши собственные армии и флоты не будут готовы выступить на помощь. Поэтому мы должны начать посылать им в сто раз, в тысячу раз больше материалов, чем они получают от нас теперь. Ты представь себе, что это футбольный матч. А мы, скажем, резервные игроки, сидящие на скамейке. В данный момент основные игроки – это русские, китайцы и, в меньшей степени, англичане. Нам предназначена роль игроков, которые вступят в войну в решающий момент.
Еще до того, как наши форварды выдохнутся, мы вступим в игру, чтобы забить гол. Мы придем со свежими силами» (Рузвельт Э. Его глазами. М., 1947. С. 68–70).
Гарри Трумэн был еще откровеннее.
«Если мы увидим, – читаем на страницах «Нью-Йорк тайме» от 24 июня 1941 года, – что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше».
Удивительно, что Суворов-Резун не читал этих строк. Это откровение Г. Трумэна я знал, когда еще ходил в школу.
Но Гарри Трумэн станет президентом США в конце войны – а мы чуть задержимся на времени, когда президентом был Франклин Рузвельт.
В 1943 году, когда Советский Союз сражался с фашистским военным блоком, по сути, в одиночку, глава американского ядерного проекта генерал Гровс на одном из совещаний заявил, что атомная бомба готовится не против Германии, а против СССР. Одного из присутствовавших на совещании эти слова босса так поразили, что, по размышлении, он вошел в контакт с советской разведкой и передал ей информацию по атомной бомбе. Причиной своего поступка он назвал именно заявление Гровса.
Теперь, после всего сказанного, читатель без труда ответит на вопрос Суворова-Резуна: как бы отреагировали Америка и Британия на нападение СССР на Германию? Очень прост этот ответ в циничных словах Трумэна. Читатель может поискать и ответ на другой вопрос: могло ли наше советское государство, имея за спиной таких «друзей», как Англия и США, напасть на Германию?..
Теперь перейдем к главе 10. В ее названии у Суворова-Резуна снова вопрос. А вопрос такой: «Когда была создана антигитлеровская коалиция?»
Он лично считает, что еще до Великой Отечественной войны. Это его очередное «великое открытие».
Аргументы у него такие:
«Давайте вместе разберемся: Гитлер напал на Польшу, Британия с Францией объявили Гитлеру войну. А Америка сохранила нейтралитет. Гитлеровские захваты Америку не волновали. Через пару недель на Польшу напал товарищ Сталин, и никто ему войну не объявил. Ни Британия, ни Франция. И Америка не возмутилась».
И это, считает наш мыслитель, потому, что уже тогда существовала антигитлеровская коалиция.
Британскому гражданину было бы очень полезно заглянуть в историю Великобритании, чтобы узнать о причине спокойствия англичан в ту пору. Ллойд Джордж в сентябре 1939 года объяснил полякам: они заняли в 1920 году территории Западной Белоруссии и Западной Украины незаконно, так что Англия протестовать по поводу возвращения этих территорий России не будет. А дело в том, что в 1919 году победившие Германию союзники определили границу Польши по этническому признаку, но Пилсудский пренебрег этой международно утвержденной границей, и поляки напали на Украину и Белоруссию. Когда контрудар Тухачевского вывел Красную Армию – при жертвенной поддержке западных белорусов, дававших ей все, что они могли, – к Висле, министр иностранных дел Англии Керзон потребовал, чтобы советские войска отошли за линию, определенную союзными державами (она получила название «линии Керзона»). Тухачевского ждало поражение, поляки перешли в контрнаступление – и на переговорах о мире снова не признали «линию Керзона», отхватив часть белорусских и украинских земель.
Так что и в этом вопросе все давно известно. Возвращается к нему только Суворов-Резун, ибо ему надо доказать, что антигитлеровская коалиция существовала уже в 1939 году и, следовательно, Сталин вполне мог начать поход на Германию.
«Потом Сталин напал на Финляндию, и опять ему никто войну не объявил. Не скрою, пожурили. На том все дело и кончилось. Президент США Рузвельт объявил Советскому Союзу «моральное эмбарго». «Моральное эмбарго» никак на поставки технологии из США не повлияло, поэтому для товарищей Сталина и Молотова и всех других товарищей такое эмбарго вообще ничего не значило».
Еще открытие Суворова-Резуна: Сталина за Финляндию пожурили и ограничились одним «моральным эмбарго».
Выглядело это, может, и так: Иосифу Виссарионовичу не подавали руки, не приглашали сесть, говорили ему «ты» и курили в его присутствии, не спрашивая на то разрешения. Ну а Молотова вообще в упор не видели.
Морально воздействовали.
На самом же деле американцы ввели торговое эмбарго на экспорт в СССР стратегических товаров и топлива, что имело катастрофические последствия для нашей страны и ее Красной Армии.
Н. А. Зенькович пишет в книге «Маршалы и генсеки»:
«До войны механикам-водителям отводилось всего пять часов практического вождения, в то время как в вермахте – не менее пятидесяти часов. Что это – вредительство, тупоумие или вынужденная мера?
Норма – пять моточасов – была введена наркомом обороны Тимошенко не от хорошей жизни. И не от глупости. Страна испытывала острейший дефицит горючего. Павлов, занимавший в 1939 году пост начальника автобронетанкового управления наркомата обороны, скрепя сердце завизировал подготовленный Тимошенко приказ о жесточайшей экономии топлива. Пять моточасов – это же курам на смех. Но выхода не было: после начала войны СССР с Финляндией США ввели торговое эмбарго на поставку в Советский Союз стратегических материалов. Запрет коснулся прежде всего ввоза высокооктанового авиационного бензина и горючего для танков, а также и другой авиатехники. Американское эмбарго сохранялось до нападения Германии на СССР.
Вот почему на первых порах советские летчики и танкисты уступали немецким. Многому ли научишься соответственно за девять и пять часов? Вот в чем причина того, что в первые дни войны наши боевые машины быстрее выходили из строя – из-за неправильной эксплуатации, а исправные танки и самолеты приходилось бросать на дорогах и аэродромах – не было горючего. Павлов сказал истинную правду о самолетах, которые не могли подняться в воздух в первую ночь войны. Дело даже не в том, что летчики не имели навыков ночных полетов. На новейших илах и яках и днем никто не успел полетать! Пикирующий бомбардировщик ПЕ-2 успели освоить не более 72 процентов летчиков, а истребители ЛАГГ– лишь 22 процента» (Зенькович НА. Маршалы и генсеки. Смоленск, 1997. С. 491).
Горючего было слишком мало не только для боевой подготовки личного состава, но и для начавшихся с 22 июня 1941 года боевых действий.
Командующий Западным фронтом Павлов на допросе рассказывал о событиях 23 июня 1941 года следующим образом:
«Штабом фронта на 23 июня была получена телеграмма Болдина, адресованная, одновременно и в 10-ю армию, о том, что 6-й мехкорпус имеет только одну четверть заправки горючим. Учитывая необходимость в горючем, ОСГ(отдел снабжения горючим) еще в первый день боя отправил в Барановичи для 3-го мехкорпуса все наличие горючего в округе, т. е. 300 тонн. Остальное горючее для округа по плану генштаба находилось в Майкопе. Дальше Баранович горючее продвинуться не смогло из-за беспрерывной порчи авиацией противника железнодорожного полотна и станций» (там же. С. 491).
Подытожим сообщенное Зеньковичем.
Запас горючего в Западном особом военном округе составлял всего 300 тонн. Был еще запас – но он в Майкопе, рядом с Черным морем. 300 тонн – это одна заправка для 400–600 танков. Таким образом, танки Западного фронта фактически не имели горючего. Не только из-за американского эмбарго, но и американское эмбарго сыграло свою роль.