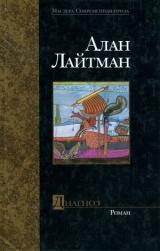
Текст книги "Диагноз"
Автор книги: Алан Лайтман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
СИДЕЛКА
Приезд матери пробудил дремавшие воспоминания. Она уже давно вернулась в Филадельфию, но Билл не перестал думать о ней. Он представлял мать такой, какой она была раньше, представлял ее в движении, несущейся по шоссе и автострадам и не обращающей ни малейшего внимания на стрелку спидометра. Смутные очертания мебели его комнаты превращались в части ее автомобилей: красивые капоты, зеркала, выхлопные трубы, маховики и картеры, а иногда и в нее саму, когда она, воплощенное нетерпение, привставала за рулем или едва ли не ложилась на приборную доску. Теперь Билл рисовал на полу изображения матери, ведущей машину. Линии рисунков путались, рвались, а сходство существовало, пожалуй, только в его воображении. Он почти не различал рисунки, он просто представлял их. В воображении он видел себя художником, стоящим за мольбертом. Кисти и краски готовы. Мать неохотно позирует. Каждый миг воображаемая рука на воображаемом холсте посылала пачку электрических импульсов настоящей руке на полу, так что ему не надо было следить за этой рукой, вполне достаточно было следить за мнимой рукой, существовавшей только в его сознании. Это изобретение с двойным управлением было уже другой историей, не историей движения Земли в пространстве, но историей движения его памяти во времени. Вспомнилось и другое: после игр с матерью до глубокой ночи он массировал ей шею шафрановым маслом, если она об этом просила, с такой силой растирая ее выступающие лопатки, что казалось, они вот-вот треснут.
Но чаще всего Билл рисовал, как мать на большой скорости ведет машину, и изображал продольными линиями свист встречного ветра.
Эти новые картины на полу, значение которых было непонятно никому, кроме него, легли на доски поверх листьев, изображений собак, неведомых животных и растений. Когда Билл прикинул, что весь пол уже занят картинами, он начал разрисовывать нижнюю часть стен. Потом настала очередь бюро, спинки кровати и вообще любой поверхности, до которой он мог дотянуться. Биллу казалось, что он должен вспомнить каждую черту матери так, словно никогда в жизни ее не видел, глядя на них, будто они впервые всплыли в его памяти. Однако чувство отчуждения и отдаленности не проходило. Он перестал сообщаться с миром, который отходил от него все дальше и дальше, поднимаясь к вечным небесам или, наоборот, опускаясь в ад, не отклоняясь от страшной в своей неотвратимости траектории.
В первую субботу после отъезда матери настал момент, когда Биллу отказались повиноваться и руки. В его воображении руки на холсте остановились, и то же самое произошло с руками на полу. Было три часа двадцать две минуты пополудни.
Чувство, которое испытал при этом Билл, можно без преувеличения назвать облегчением. Интересно, что произойдет дальше? Паралич прогрессирует, как ему и положено. Сначала ноги, потом руки, потом кисти. С самого начала Билла удивляло то, что он может двигать конечностями, которые абсолютно ничего не чувствуют. Теперь все пришло в гармонию и согласие. Что не чувствует, то и не двигается. Конечности полностью предали его, оставив только один мозг со смутными изображениями на зрительном нерве, со звуками в спиральном ходе улитки и с запахами. Да, еще остались голосовые связки. Он может попросить Мелиссу перевезти мозг из одного угла комнаты в другой. Может накричать на жену. Теперь это было признаком жизни – кричать на Мелиссу и слышать в ответ ее крик или истерические рыдания. Такова стала жизнь в четырех стенах его болезни, в его тюрьме, в коробке, вместившей то, что от него осталось. Окна издеваются над ним, дразня картинами иного мира. Люди ходят по земле, передвигаясь собственными силами, их тела перемещаются в пространстве без посторонней помощи. Посмотрите только, какое осознание жизни принесла Биллу его болезнь. Сознание его стало величественным, хотя он не в состоянии пошевелить даже мизинцем. «Некоторые люди рождаются в таком состоянии, – думает Билл, – они парализованы уже в колыбели». От них остается только мозг. Когда-то он ненавидел их за то, что они вообще живут. За то, что воображают, будто это парализованное существование и есть жизнь.
– Билл, я люблю тебя. Что я могу для тебя сделать?
Что это было? Слуховое ощущение мозга, порожденное смутным силуэтом, который может быть его женой.
– Ты обещал, что не умрешь.
Еще одно электрическое возбуждение мозга. Возможно, иллюзия. Может быть, весь мир – одна большая иллюзия. Как знать? Когда ему приходится есть, мочиться или испражняться при полной беспомощности и неспособности делать это самому, то скорее всего ощущение нужды, которое при этом возникает в его окаменевшем теле, есть не что иное, как работа воображения, блуждающие электрические токи, путешествующие в пустоте, как сигналы мобильных телефонов. Мозг, как флагеллант, бичует себя из чистой скуки.
Где сейчас его рисунки? Где окончательная история Земли? Или они тоже иллюзия? Не было ли все случившееся наказанием за его неудачу?
Сиделка Дороти оказалась громадной женщиной, и действительно требовалась недюжинная сила, чтобы носить Билла в туалет и ванную.
Сначала Билла шокировало, что его, голого, таскает и переворачивает какая-то чужая женщина. Он испытывал страшное неудобство от того, что при ней болтаются из стороны в сторону его, едва прикрытые простыней, белый живот, член и мошонка. Отвратительная интимность обрушилась на него за шестнадцать долларов в час. Все расходы несло общественное здравоохранение. Дороти была даже не сиделкой, а сестрой по оказанию помощи на дому, и на ее могучем бедре висел мультитон, по которому ее могли вызвать к больному в любое время дня и ночи. Но ничего лучшего Билл и не заслужил. Еда, которой его три раза в день кормили с ложечки Мелисса или Вирджиния, пропадала даром. Тощие ноги, живот, белые ягодицы, которые он видел в зеркале ванной, не были больше его телом, превратившись в онемевшие придатки головного мозга.
Дороти обращалась с ним как с мешком картошки, но ее нельзя было назвать злой. От краснолицей сиделки пахло лосьоном для рук, потом и протирочным спиртом. Раньше, сказала Биллу Дороти, она работала с парализованной женщиной, которая полностью поправилась. А болела она какой-то болезнью, которая начинается с буквы «г».
– Главное – это любовь, – говорила она, опуская Билла в ванну. – Я чувствую, что этот дом полон любви.
– Не морочьте мне голову, Дороти, – сказал Билл. – Что мне не нужно, так это то, чтобы мне морочили голову.
– Ладно, – покладисто согласилась сиделка.
Билл мало что мог делать самостоятельно, но, оказавшись в ванне, он принялся облизывать губы и тереться затылком о кафель.
– Успокойтесь, – ласково сказала Дороти. На ее шее блеснула цепочка. Что это? Крестик? Не была ли она к тому же еще и верующей? Он скосил глаза, но смог рассмотреть только красное пятно ее лица, склонившегося над ним.
– Зачем вы занимаетесь этим дерьмом? – спросил он.
– Мне нравится это делать, – ответила женщина.
Она молча мыла его некоторое время, потом опять заговорила:
– Ваша семья любит вас.
– Я не хочу говорить об этом.
– Самое главное, – продолжала Дороти, – это чувство юмора. Вы очень мало едите. Не хотите стать такой, как я?
Часы показали пять тридцать. Смена Дороти закончилась.
Обнадеживающие звонки и сообщения от адвокатов и врачей стали сыпаться как из рога изобилия по мере приближения даты ПЭТ. Теперь можно будет проверить конкурирующие гипотезы. В день на компьютер приходило по дюжине сообщений, иногда по две дюжины.
«Я информировал доктора Петрова об анализах, которые хочу рекомендовать. Мой ассистент доктор Каннингхэм свяжется с ним из Парижа завтра утром». «Мы связались с людьми из руководства „Плимута“». «Пожалуйста, ответьте на следующие запросы до четырех часов. Спасибо». В электронном обмене письмами принял участие даже доктор Крипке. Он решил описать случай Билла в «Анналах психосоматических болезней», и ему нужен был свежий материал.
Все эти сообщения принимал Алекс, распечатывал их, а по вечерам читал отцу вслух. Мальчик превратился в бледную тень. Футболка стала ему велика. Он сильно похудел. Сидя в ногах кровати Билла, Алекс беспрестанно повторял: «Папа, папочка».
Слушая все эти сообщения, Билл думал: что это за хрюканье доносится из другого мира? Кроме того, надо ведь что-то прохрюкать в ответ. Алекс разработал горячую линию ответов, так что Биллу оставалось только сказать ключевые слова, и сын посылал ответ в считанные минуты. Одна горячая плата для врачей, одна для юристов и одна для партнеров по бизнесу, которые все еще присылали Биллу свои деловые предложения. Алекс также создал новый сайт Сети: www.paralysis.aol.com/achalm. С помощью этого сайта он собирал всю информацию о параличах, причем каждый файл кодировался по источнику и времени передачи. После прочтения дневных сообщений Алекс возвращался в свою комнату и допоздна засиживался за своим терминалом, раскачиваясь в такт музыке из мощных динамиков, подвешенных к потолку.
«Надо было все же выдрать из стены все телефоны, пока была такая возможность», – думал Билл. Сейчас ему было трудно представить себе, что когда-то у него было тело, воля, способность к передвижению. Двадцать сообщений в день.
– Они играют с нами в свои игры, – пробормотала лежавшая на кровати пьяная Мелисса. – Пошли их подальше. Они и так уже много дел наворотили. Они что, думают, у нас много денег? Они точно так думают.
Она расплескала виски и посмотрела на Билла налитыми кровью глазами. Он скосил взгляд на жену, лежа на своем диване.
– Знаешь, что я тебе скажу? – продолжала Мелисса. – Я никогда не верила, что мы живем настоящей жизнью. Я всегда знала, что мы потеряем все, что у нас будет. Я знала, что рано или поздно это случится. Я никогда тебе об этом не говорила, но каждое утро, просыпаясь, даже в первые годы нашей совместной жизни, я знала, что наступит день, когда произойдет то, что произошло. – Она допила виски. – Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я никогда не верила в это. Генри уговаривал меня, что все в порядке. Он говорил это, когда я выходила за тебя замуж. И ты вел себя так, словно все будет в порядке. Я никогда тебе не верила. Почему ты так себя вел? – Она помолчала. – Когда я училась в школе, то знала очень богатых девочек. Девочек из богатых семей. Я знала, что никогда не буду такой, как они. Я не хотела их денег. Истинная правда, не хотела, Бог свидетель. Я хотела… я хотела чувствовать себя в безопасности. Разве это слишком много? Просто чувствовать себя в безопасности. Я этого вполне достойна. Почему я не имею права чувствовать себя в безопасности? Что мне делать?
Она уронила голову на подушку. Руки безвольно упали вдоль тела.
– Люди обходятся со мной как с невежественной южной сучкой. Может быть, я и правда сучка.
Где-то глухо, словно в механизме была вата, стучали часы. Нет, не часы. Ритм был неправильным, раздавались хаотичные стуки и щелчки. Они доносились откуда-то издалека, тихо, заполняя промежутки между тяжелыми вдохами Мелиссы. Билл открыл глаза и всмотрелся в темноту спальни. Комната была освещена неярким светом ночника в углу. Сколько сейчас времени? Два часа, три? Голова неудобно уперлась в спинку кровати, и от этого сильно болела шея. Страшно хочется пить. Может быть, разбудить Мелиссу? Интересно, сам-то он проснулся или пребывает в полудреме и ему снится, что он лежит в кровати, от него пахнет потом Дороти, а рядом, наглотавшись валиума, спит жена?
В голове раздавался какой-то звук. В душе зашевелился страх. Может быть, он уже не в состоянии отличить сон от бодрствования? Если он только воображает себе звук, то почему не воображает собственное сердцебиение? Можно ведь представить себе сердце вне бытия. Он прислушался, звук стал более отчетливым. Это рукотворный звук. Целенаправленный. И раздается он с противоположного конца холла, из комнаты Алекса. Так стучат по клавишам компьютера.
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ (ПЭТ)
Билл надеялся, что почувствует, как крошечные субатомные частицы вторгнутся в его организм. Он закрыл глаза.
Невидимый Арманд Петров обратился к невидимому технику:
– Я хочу получить кинетический следовой анализ каждого участка повышенной интенсивности.
– Нет проблем.
– Это удивительный аппарат, – сказал Петров. – Мистер Чалмерс, я понимаю, что вы не можете ничего видеть оттуда, где вы находитесь, но вы проходите сейчас самое лучшее диагностическое исследование.
– Хотите посмотреть, как войдет РФП, доктор Петров? – спросил техник.
– Да, мне нравится на это смотреть.
– Вот. Я разбиваю экран на двенадцать секторов. Каждый сектор соответствует метке в двенадцать секунд.
– ПЭТ – это первое и пока единственное приложение физики античастиц к медицине, – сказал Петров. Техник молчал. – Отметьте этот участок.
– Хорошо, – ответил техник.
– Двадцать – пятьдесят.
– Да. А это счет крови для сравнения.
– Билл, ты хорошо себя чувствуешь? – спросила Мелисса. – Я стою рядом с тобой.
– Это совершенно безболезненно, миссис Чалмерс, – успокоил женщину Петров.
– Билл, ты хорошо себя чувствуешь?
Хотя глаза его были закрыты, Билл четко ощущал, что происходит вокруг него. Он чувствовал кольца световых датчиков, или проводов, или чего-то еще, что они намотали на него. Мысленно он видел себя в полости между двумя сомкнутыми ладонями. Его держала громадная рука, готовая выдавить из него желчь. Билл чувствовал тепло машины, слышал биение ее сердца, которое гоняло электронную кровь из токов и субатомных частиц. Доктор опять что-то сказал, потом заговорила Мелисса. Но мысли и чувства Билла были далеко. Он уже играл в гольф с Эдвардом Марблуортом на неровной площадке. Ветер гнул и трепал зеленую траву. Теперь его и Марблуорта связывала немногословная мужская дружба. Билла приняли во внутренний круг приближенных, теперь он пользуется полным доверием Марблуорта и в ореоле этого доверия чувствует свою власть и силу. Марблуорт ударил по мячу, и тот улетел в лес. Неудачно. Тут же последовал второй удар, и мяч, описав идеально правильную дугу, приземлился на дальней зеленой лужайке. Наступила очередь Билла. Он ударил и промахнулся, не попав по мячу. Мало того, даже не коснулся земли. Он ударил снова – и снова задел только воздух. Клюшка его заметно укоротилась. Ударил еще раз – и опять мимо цели. Клюшка съежилась до трех футов. Нет, уже до двух. Он упал на колени, ударил и вновь промахнулся. Зрители за его спиной возмущенно зашумели. Он попал в глупейшее положение. Все кончено, мистер Чалмерс. Что? Кончено.
– Мы закончили, – сказал Петров. – Мистер Чалмерс, вы сможете уехать домой, как только мы извлечем катетер из лучевой артерии. Здесь есть специальная палата, миссис Чалмерс. Он может остаться здесь до завтра.
Билл почувствовал, как под неподвижной маской лица начала дергаться его здоровая щека.
– Я заберу его домой, – сказала Мелисса.
– Я отметил шесть участков повышенной интенсивности, – сказал Петров. – Они дадут нам много дополнительной информации. Я свяжусь с вами.
– Вы трус, – сказал Билл.
СИЦИЛИЯ
Прочитано вслух Алексом его отцу:
Утром шестнадцатого дня месяца элафеболиона Анит вышел из города через Мелитидские ворота и направился в гавань. Ему надо было куда-то идти.
Анит не сомкнул глаз с той минуты, когда Пиррий, разбудив его перед рассветом, сообщил дурную весть о гибели наемного убийцы. Все следующие часы он босиком расхаживал по периметру внутреннего дворика, бездумно глядя, как капли дождя разбиваются о статуи. Ранним утром он вернулся в дом и лег на ложе рядом с Пасиклеей. Дыхание ее было ровным и безмятежным, как волны, катящиеся к берегу спокойного моря. «Я – твоя жена, – говорило это дыхание, – я – твой уют. Дыши со мной, и пусть я принесу тебе отдохновение. Скажи „да“, скажи только лишь „да“. Я – море, омывающее тебя. Я – зеленая трава и твой покой. Ляг со мной, ляг со мной». Анит слушал ровное дыхание Пасиклеи, но не мог заснуть. Он внимательно всматривался в красивое тело, лежавшее рядом с ним. Что знал он о внутреннем мире жены? Он мало говорил с ней, а когда говорил, то почти всегда лгал. Он мало говорил с ней, потому что она будет любить его всегда, даже тогда, когда он перестанет любить ее. «Я – море, омывающее тебя. Я – зелень травы». Он слушал, но ее волны не убаюкали его.
Дождь был все еще силен, когда Анит дошел до Мелитидских ворот. Капли били по телу, как мелкие холодные стрелы. Ничего не видя перед собой, Анит бездумно свернул на дорогу к гавани, проложенную вдоль развалин некогда величественной Северной стены. Сзади, отстав на несколько шагов, тяжело дыша, шел Пиррий с маленьким дорожным светильником, огонек которого едва пробивался сквозь сырую мглу. Пиррий нес также чашу для питья, кувшин с маслом, запасной светильник, кисть, хлеб, завернутый в тряпицу, папирус и несколько луковиц. Все это он веревкой привязал к поясу. От дождя накидки промокли насквозь и висли на плечах, как тяжелые камни.
Анит, погруженный в мрачные раздумья, молчал. Его наказывает дикий Борей, наказывает слепой яростью бури. Анит представил себе старого софиста. Сейчас он завтракает, наслаждаясь хлебом и плодами в своей сухой и теплой тюрьме, непринужденно беседуя с друзьями и выказывая свою ненависть к нему, Аниту. Возможно, что именно в эту минуту, в утро своего последнего дня земной жизни, старый софист перекладывает в стихи басни Эзопа и поет их ученикам, собравшимся вокруг его ложа. Будь они все прокляты. Пусть захлебнутся они в птичьем помете.
– Что мы станем делать в гавани? – сдерживая одышку, спросил раб.
Анит не ответил, занятый своими мыслями. Он шел вперед сквозь проливной дождь, едва ли замечая, что идет мимо Некрополя, Города Мертвых, с его серыми каменными глыбами, возвышающимися над морем. Уже больше часа эти два человека пробиваются к гавани, невзирая на дождь и грязь. Они прошли полдороги до Пирея, два смутных силуэта на фоне серого дождя. Ни один человек не встретился им на пути.
Издалека послышались звуки кифары, похожие на стон мелкого животного. Потом вступила свирель. Потом все стихло, и снова стал слышен только монотонный шелест дождя и стук тяжелых капель о грязь. Через мгновение снова раздались звуки музыки, нахлынувшей как прилив. Анит и Пиррий различили чьи-то голоса. И вновь все стихло. Остался лишь дождь.
Кожевенник решил, что слишком сильно распустил свое воображение. Он оглянулся и дотронулся до плеча Пиррия, чтобы коснуться живой человеческой плоти. Впереди сквозь мокрую серую пелену проступили очертания человеческих фигур. Головы. Извивающиеся и дергающиеся руки и ноги. Какое-то шествие. Хоровая декламация. Безбородые молодые люди выкрикивают вещания оракула. Пронзительно верещат что-то танцующие девицы. Девушки, играющие на свирелях, связанные между собой веревками, сплетенными из их собственных волос. Мгновение спустя череда скрылась за стеной сырой мглы и исчезла.
Анит подумал: не это ли люди, сухим путем вернувшиеся со священных празднеств в Делосе? Заключительное шествие к городу, и в такую погоду? Нет, совершенно невозможно. Аниту стало жарко, от утомления пересохло во рту, страшная усталость навалилась на плечи. Снова стало видно какое-то движение. За стеной дождя прошли поющие речитативом люди. Серые мужчины и женщины, одетые в серые развевающиеся на ветру одежды. Жрец Аполлона со странным головным убором из маленьких глиняных кувшинчиков, которые звенели, ударяясь друг о друга, при каждом его шаге. Мускусный дух ладана, мирры и листрии. Неоседланные кони с напряженными членами, собаки. Старуха с раскрашенным лицом, завывая, жалуется на что-то Аполлону и жует какую-то пищу, зажатую в руке. Пепельно-серые фигуры, появившись на мгновение, растворились в серых струях дождя, чтобы спустя миг снова появиться перед взором неясными тенями. Анит протянул руку к одному из призраков, но сумел схватить лишь воздух. Он окликнул этих людей – никто не отозвался. Ему показалось, что призраки отпрянули на несколько шагов. Анит обернулся и посмотрел на Пиррия. Раб лихорадочно вертел головой, стараясь уследить глазами за невидимыми движениями. Наполовину огорошенный, наполовину напуганный, он умоляюще посмотрел на своего господина.
– Во имя Зевса, – тихо проговорил он и сжал руку кожевенника. – О великая Афина. Да поможет нам Зевс.
– Это священное шествие, – сказал Анит. – Это конец и начало конца и час нашей славы. Мы сделали город безопасным для таких шествий. Демократия победила.
Он сел в холодную грязь. Священные одежды касались его лица. Люди стояли плечом к плечу и пили вино из темных сосудов. Свирельщики наигрывали странные мелодии. Мимо проковыляли три лысые старухи, бормоча пророчества. Анит напряг слух, стараясь услышать слова предсказаний, но смог уловить только невнятное бормотание, пожираемое шумом дождя.
– Хозяин, вставай. Нам надо где-то переждать бурю.
Они нашли убежище в деревенской хижине на склоне холма. Рядом с хижиной росло фиговое дерево. Деревянная дверь сорвалась с петель, когда они открыли ее. Единственная комната оказалась тесной и темной. Дождь, уныло рокоча, барабанил по плоской крыше. Пахло пшеничными отрубями, сеном, льняным маслом и навозом. Сквозь высокое окно в помещение проникали серый свет и сырой туман.
С помощью огонька светильника, который он берег как зеницу ока, Пиррий развел на земляном полу костер. В качестве топлива раб использовал сено и обломки деревянного стула, найденные в углу. Пиррий помог раздеться своему господину и разделся сам, подивившись толстым валикам жира на боках Анита. Потом он выжал мокрую одежду и развесил ее на воткнутые в пол шесты. Мужчины опустились на колени возле огня. Кожа их тел была холодна и влажна, волоски на ней поднялись от озноба. Пиррий довольно долго смотрел на обнаженное белое тело хозяина, на его большой круглый живот и почти бессознательно принялся массировать Аниту шею и плечи. Под умелыми прикосновениями кожа стала теплой, затвердевшие мышцы начали понемногу оттаивать. Анит закрыл глаза.
– Я расскажу тебе о Сицилии.
Пиррий много раз слышал рассказы Анита о войне. Знал он и о битве при Сционе, его родном городе в Паллене, откуда его десятилетним мальчиком продали в дом Анита. Воспоминания о Сицилии были отрывочными, словно Анит одновременно желал и не желал говорить о них.
– Я был живым якорем… Шел девятнадцатый год Войны. Абордажный крюк, брошенный с сиракузской триремы, вонзился мне в бедро. Они начали тянуть канат, проволокли меня к носу моего корабля и стащили в воду. Море было в огне. Сотни судов. Были слышны треск их столкновений и душераздирающие крики раненых.
Одна из ставней хижины открылась от ветра, и в каморку полились струи дождя. Пиррий нашел длинную палку, закрыл ею ставень, сломал палку и бросил обломки в огонь. Потом он снова опустился на колени возле огня рядом с Анитом.
– Когда крюк вытащили, мое бедро стало похоже на раскрытую алую пасть. Аркадцы спустили дурную кровь, приложили к ране губку и обернули ее оливковыми листьями. Какой-то человек, я так и не узнал его имени, каждый день менял повязку и мыл меня. Через равнины и горы они перенесли меня в Гелу. Хотя нет, это было потом.
А сначала я пошел ко дну гавани. Я был рад, что мои люди не видят меня в таком плачевном положении, надетого на крюк и влачимого на веревке. Я желал пойти ко дну. Желал погибнуть смертью воина и хотел избежать паники. Гребцы похожи на собак. Они сразу чуют страх в голосе начальника. Я же не хотел, чтобы мои гребцы видели меня нанизанным на крюк, я хотел утонуть. Но сиракузцы не дали мне пойти ко дну, они упрямо тянули веревку, вытягивая меня на поверхность. Железный крюк вонзился глубоко в мою плоть и не желал меня отпускать. Наоборот, чем сильнее они тянули, тем глубже он погружался в мое бедро. Веревка выдержала мой вес. Наполовину я состоял из железа, наполовину из плоти, как жертва, приносимая Гефесту. Я стал кровавой жертвой.
Шел девятнадцатый год войны с пелопоннесцами. Амфиполь пал, Клеон и Брасид погибли. Военные действия в Сицилии длились уже два года. Под Эпиполем часть наших гоплитов вырвалась из скал, но некоторые перерезали себе горло из страха попасть в плен. Потом сиракузцы попытались сжечь наш флот. Они прижали наши корабли к берегу гавани, подожгли и направили в их сторону старый торговый корабль, набитый хворостом и гниющими кусками пинии. Нам надо было раньше покинуть гавань, когда выход из нее был еще свободен.
– Хозяин, но как ты выжил, после того как тебя стащили за борт?
– Что? Как видишь, выжил.
Анит сел и провел пальцем по старому шраму на бедре. Кожевенник посмотрел в глаза Пиррию, он был всего на несколько лет старше его сына, с которым он так и не смог поговорить. В хижине стало жарко, и руки раба повлажнели от пота.
– Почему они не убили тебя?
– Я стал кровавой жертвой. Они думали, что я мертв. Склонившись с носов своих кораблей, дорийские лучники и метатели дротиков смотрели на меня – наполовину якорь, наполовину человека, связанного с судами двумя веревками – одной из льна, а другой из свернувшейся крови. Потом они перерезали веревку и бросили меня в море. Поверхность воды была усеяна переплетенными, плавающими вниз лицом трупами. Ноги афинян на ногах сиракузцев. Союзники и враги. Мертвые лемносцы, камаринейцы, халкидийцы, стирийцы, эгинцы, коринфяне, иапигийцы, эритрейцы, гимерийцы. Я стал очередным жертвоприношением, красным от крови якорем с торчащим из ноги куском железа. Аркадские наемники, воевавшие на стороне Сиракуз и Спарты, увидели, как я барахтаюсь в воде. Они были моими врагами. Правда, они не знали, кто я, а позже это стало им безразлично. Они устали от войны и хотели одного – вернуться домой.
Аркадцы вытащили меня на берег и облили мою ногу горячим вином. Они оставили крюк на месте и целый день спорили о том, как его удалить. Один из них был бронзовых дел мастером, а второй – гончаром. Расплющили бы они меня на наковальне или помяли, как глину? В конце концов они соорудили из палаточных шестов и полотна носилки и отнесли меня в свой лагерь. Сначала меня хотели продать любому, кто предложит самую высокую цену. От такого бесчестья мне следовало убить себя, но я не сделал этого. Хотя у меня был нож и я вполне мог покончить с собой. В первую ночь нас, пленных афинян, крепко стерегли, и мы ждали, что на рассвете нас убьют. Мне следовало воодушевить земляков, которые были в полном отчаянии и умирали от голода. Но что я мог им сказать?
Я никогда больше их не видел. Через несколько дней всех афинян вывели в долину и убили. Аркадцы не продали меня в рабство. Вместо этого они соорудили для меня прочные носилки, выпустили гнилую кровь и зашили рану толстыми нитками. Они очистили рану измельченным льняным семенем и вареными листьями фиги, оливкового дерева и посконника. Потом они обернули мою ногу тканью, пропитанной отваром чечевицы, смешанным с вином и клевером. Они несли меня от лагеря к лагерю, медленно продвигаясь по сицилийской равнине к Геле, где надеялись найти союзнический корабль, направляющийся в Пелопоннес.
Я до сих пор помню запах человека, который из своих рук кормил меня финиками.
Анит прервал свой рассказ и опустил глаза вниз, тупо глядя в грязный пол. Пиррий встал и, как был, голый и белый, обошел хижину в поисках топлива. Дождь стал слабее. Барабанная дробь по крыше утихла.
– По равнине они принесли меня на носилках в Гелу. По дороге мы ели сушеные финики и все, что могли найти на равнине, – мелких животных, части каких-то растений, ящериц и птиц. Мы шли пять дней. Добравшись до Пелопоннеса, аркадцы рассчитывали отдать меня моей семье за большой выкуп. Однажды утром, на рассвете, я услышал красивую музыку. Мы проходили в это время по долине, формой напоминавшей орла. В Геле аркадцы погрузились на первый попавшийся корабль, шедший на восток, в спешке забыв меня у хозяина мастерской по изготовлению светильников. Я пообещал ему полталанта серебра, и он кормил меня целую неделю. Потом эритрейский корабль доставил меня в Суний.
Когда я вернулся в Афины, волоча больную ногу, город встретил меня как героя. Люди не поверили ничему из того, что я рассказал им о Сицилии. Они не поверили, что Никий и Демосфен убиты. Они не поверили, что пятьдесят тысяч человек погибли или попали в плен. Они не поверили, что затонула сотня афинских кораблей. Они не поверили ничему, кроме того, что я – герой. Через некоторое время я и сам захотел стать таким, каким они хотели, чтобы я стал. Продик, который был тогда совсем маленьким, ходил вокруг дома с моим щитом и просил меня взять его с собой в поход против хиосцев.
Анит горько рассмеялся. Вытащив из огня прут, он приблизил его тлеющий конец к шраму на бедре. Пиррий торопливо отнял у господина прут. Он был не в силах смотреть Аниту в глаза.
– Можешь ли ты поверить, что Продик когда-то считал меня героем? – спросил Анит. – Теперь он презирает меня. Я почти не знаю его, а ведь он мой сын, моя плоть и кровь.
– Хозяин. – Пиррий помолчал. – Я хотел бы быть вместе с тобой в Сицилии.
Анит печально улыбнулся. Потом он прислушался. Снаружи стало совсем тихо.
– Дождь кончился. Как ты думаешь, который теперь час?







