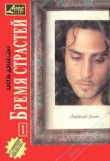Текст книги "Бремя секретов"
Автор книги: Аки Шимазаки
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Он одобрял мое решение жить самостоятельно, вдали от дома и от мамы, которая была слишком сильно привязана ко мне, единственному сыну. Единственному, в ком текла ее кровь. Отец предупредил меня, что если я не уйду из дома, мне будет трудно потом обрести независимость. «Не хочу, чтобы ты повторял мою ошибку», – прибавил он. Окончив университет в Нагасаки, я устроился на работу в Токио. Мама рассердилась не на шутку: «Это слишком далеко! Почему ты не захотел работать в каком-нибудь городе рядом с Нагасаки, поблизости от меня? Вся моя жизнь – в тебе. Ты мне нужен!»
По правде говоря, я искал работу в Токио, потому что надеялся найти там сестру и своего настоящего отца. К тому же мне хотелось выяснить, были ли у него еще дети, кроме моей сестры, с которой я когда-то играл в парке. С тех пор прошло восемнадцать лет, и возможно, что он с семьей переехал в другой город. Тем не менее я рассчитывал, что смогу начать поиски именно в Токио.
Прежде чем отправиться в Токио, я попросил маму сказать мне по крайней мере фамилию моего отца. Как я и ожидал, она отказалась наотрез: «У него есть семья – жена и дети. Не нужно вмешиваться в их жизнь. Его жене ничего о нас не известно».
Тогда я решил узнать у папы адрес церкви и имя того священника. Папа удивился: «Невероятно! Ты не забыл! Шинпу-сама, должно быть, уже больше семидесяти лет. Как бы мне хотелось снова его увидеть. Но вряд ли после бомбардировок Б-29 церковь стоит на прежнем месте и вряд ли Шинпу-сама остался в живых». Папа дал мне также адрес родителей господина Хорибе и сказал: «Можешь как-нибудь зайти к ним. Они меня хорошо знают, ведь мы с господином Хорибе в Токио были близкими друзьями». Родители господина Хорибе? Это же бабушка и дедушка Юкико! У меня заколотилось сердце. Значит, есть надежда отыскать Юкико. Папа даже не подозревал, какие мысли вертелись у меня в голове.
Церкви на прежнем месте не было, папа оказался прав. Я обошел множество других церквей, расспрашивая священников о той, в которую мы ходили с мамой. К моему удивлению, никто не знал ни о церкви, ни о священнике-европейце, ни о двух женщинах, которые там работали. Я был в недоумении. Мне сказали, что после войны город сильно изменился.
И я бродил по этому изменившемуся городу. Едва заметив девушку моего возраста, я тут же останавливался как вкопанный и шел за ней, пока она не исчезала из виду. Такое случалось на улице, на вокзале, в ресторане, в парке… Повсюду я искал девушку, похожую на меня.
Что касается Юкико, то родители господина Хорибе сказали, что она вышла замуж и уехала за границу. И дали мне ее адрес. Прочитав на листке ее новое имя – Юкико Камишима, – я почувствовал, что мое сердце разрывается от боли.
* * *
– Мне жарко, – говорит мама.
Я поднимаюсь со стула и регулирую температуру кондиционера. Я решил установить его, когда отец уже не мог вставать с постели. Потом я снова сажусь.
– У внуков все в порядке? – спрашивает мама.
– Да. Нацуко недавно вернулась из Нью-Йорка. Там проходила конференция, организованная для американских клиентов ее фирмы. Нацуко была переводчиком. Фуюки назначили начальником отдела. А Цубаки по-прежнему учится в университете.
– Хорошо, очень хорошо, – говорит мама, она довольна.
Мгновенье спустя она спрашивает:
– А что изучает Цубаки? Я забыла.
– Археологию.
– Что? Я плохо тебя слышу.
– Ар-хе-о-ло-ги-ю, – медленно повторяю я, наклонившись к ее уху.
– Ах да, теперь вспомнила…
Мама кивает головой, глаза у нее закрыты. Потом она вдруг спрашивает:
– Почему ты назвал ее Цубаки?
Она задает мне этот вопрос каждый раз, когда я рассказываю о своих детях, и каждый раз я повторяю один и тот же ответ: «Потому что она родилась в сезон, когда цветут цубаки». Мама прекрасно помнит, как мы выбирали имя для Нацуко и Фуюки, но всегда забывает про Цубаки. Шизуко назвала двух старших детей, а я младшую, Цубаки.
Мама ждет моего ответа. Говорю очень тихо и думаю: интересно, слышит ли она меня.
– Потому что у меня была подруга, которой нравились цубаки.
– Что?
Она удивленно смотрит на меня. Я улыбаюсь:
– Ты же все слышала.
– Я не знала, что ты встречался еще с кем-то, кроме Шизуко!
– Тогда мне было всего шестнадцать лет. Успокойся, мама.
Маме тоже было шестнадцать лет, когда она познакомилась с моим настоящим отцом, который сделал ее своей любовницей. Но мы с мамой никогда не говорим об этом, соблюдая молчаливый уговор, который длится уже долгие годы. Нельзя будить в ней старые воспоминания.
– Только никому не рассказывай, – нарочно говорю я, словно ребенок, жалобно упрашивающий свою маму.
– Ты совсем как мальчишка, – улыбается она. – Ладно, обещаю, не расскажу.
Мама права: когда я думаю о Юкико, мне всегда шестнадцать лет. Я часто вспоминаю ее лицо. Вспоминаю, как она, чудачка, надевает мое широкое черное пальто. А вот она бежит вприпрыжку по бамбуковому лесу, потом вдруг оборачивается и смеется.
– Ты сильно ее любил? – спрашивает мама.
– Да. Она была моей единственной подругой, в юности я любил только ее. Мы дали друг другу обещание пожениться. Но она вышла замуж за другого.
– Значит, она тебя обманула?
– Нет, – отвечаю я без малейшего колебания. – С ней случилась какая-то серьезная неприятность, из-за которой ей нельзя было со мной встречаться.
– Наверное, запретили родители.
– Нет. Они хорошо ко мне относились, особенно ее отец.
– Странно.
– Но, даже несмотря на это, я надеялся, что мы будем вместе.
Мама поднимает глаза к потолку.
– Вот почему, оказывается, ты женился так поздно… Тебе было тридцать пять лет, когда ты взял в жены Шизуко.
Я молчу. Может быть, мама права. Или я просто долго не мог найти идеальный образ, о котором мечтал. Мама тоже замолчала. Я смотрю в окно: в саду Шизуко, она собирает в корзину горох. Мама дразнит меня:
– Твоя юная подружка была так же красива, как Шизуко?
– Разумеется, она казалась мне красивой. Она была такой же очаровательной, как ты, мама.
– Как я? Не нужно так шутить. Я же твоя мать!
Мама делает вид, что сердится. По правде говоря, вместо «очаровательная» я хотел сказать «чувственная». В молодости мама привлекала внимание мужчин своей женственностью: у нее были длинные волосы, высокая грудь, тонкая талия. Кроме того, на ее лице, не принадлежавшем ни к какой национальности, всегда было задумчивое выражение. Она не походила ни на одну из женщин, которых я знал.
– А как ее звали? – поинтересовалась мама.
– Кого? – растерянно спрашиваю я.
– Твою подружку, конечно!
– Юкико. Ее звали Юкико, – отвечаю я, поколебавшись с минуту.
– Юкико? – повторяет мама.
– Ее фамилия – Хорибе. Помнишь их семью?
Мама смотрит на меня широко раскрытыми глазами.
– Ты имеешь в виду наших соседей в… – говорит она, так и не закончив начатой фразы.
– Да, в квартале Урагами, в Нагасаки, – подхватываю я. – Отец Юкико погиб при взрыве атомной бомбы. Потом Юкико с матерью вернулись в Токио, так ведь?
Мама не отвечает. Я продолжаю, улыбаясь:
– Ты, наверное, удивлена, мама. Да, я был влюблен в дочку наших соседей.
Мама по-прежнему молчит, уставившись в одну точку. Потом она спрашивает:
– Где сейчас Юкико?
– Не знаю. Ее бабушка с дедушкой говорили, что она вышла замуж и уехала из Японии.
– Бабушка с дедушкой? То есть родители ее матери?
– Нет. Родители отца, господина Хорибе.
– Как ты с ними познакомился?
– Незадолго до моего отъезда в Токио папа дал мне их адрес и сказал, чтобы я зашел их проведать. Разве ты забыла, в университете папа с господином Хорибе были приятелями? Родители господина Хорибе хорошо помнили папу и с радостью приняли меня. Разумеется, я не сказал им, что встречался с Юкико.
Мама не проронила ни слова. Я продолжил:
– От них я узнал, что мать Юкико скончалась от лейкемии: во время атомного взрыва она подверглась сильной радиации.
– Госпожа Хорибе умерла… – произнесла мама слабым голосом.
– Да, – отвечаю я. – Если бы я приехал в Токио тремя месяцами раньше, я бы застал там Юкико.
– После этого ты еще виделся с ее бабушкой и дедушкой? – спрашивает мама.
– Да, но всего лишь два раза.
И я продолжаю рассказывать о родителях ее отца. Они говорили, что Юкико ни разу не приезжала в Японию навестить их и даже не писала писем.
– Мне это и вправду показалось странным… – добавляю я.
Но мама не слушает. Прикрыв глаза, она задремала.
Выхожу из спальни, захватив с собой поднос, чтобы разогреть еду.
* * *
Иду к себе в комнату, где я обычно читаю. Все стены в книжных полках. Среди научных книг выделяются три: «Манифест коммунистической партии», «Капитал» и «Гражданская война во Франции». Достаю эту последнюю и открываю наугад. Между страницами – две фотографии Юкико, пожелтевшие от времени. И еще клочок бумаги, на котором написан ее заграничный адрес. Бумага тоже пожелтела, а в местах сгиба и вовсе почти порвалась. Я сажусь за стол и раскладываю фотографии перед собой.
На одной из них Юкико снята стоя, на ней матросский костюм. Волосы заплетены в косички. Мягкая улыбка на губах. Но взгляд говорит о твердом характере. На обороте подпись: «Юкико 13 лет».
На другой фотографии она сидит на скамейке, лицом к объективу. Рядом стоит мальчик, ее ровесник, со слегка опущенной головой. «Юкико три года», – читаю на обратной стороне.
Когда Юкико показала мне эту фотографию, она сказала в шутку: «Мальчик – мой друг». От тех слов у меня сжалось сердце. Первая любовь, первый поцелуй. До сих пор помню прикосновение ее губ. Ощущение, будто внутри все горит. Я хотел остаться с ней до конца жизни. Неужели все дело в том, что мне было только шестнадцать лет? Не знаю. Но воспоминание о Юкико живо до сих пор.
Никогда не мог предположить, что теперь, пятьдесят лет спустя, стану рассказывать маме о своей первой любви. Я беру обе фотографии и иду к ней в комнату. Мама уже проснулась.
– Вот это я никогда никому не показывал, – говорю я.
Повернувшись ко мне, мама спрашивает:
– Что это?
– Старые фотографии. На них – тот, кто тебе хорошо знаком.
– Что еще ты отыскал? Фотографии папы?
– Нет. Посмотри.
Сначала я протягиваю ей ту, где Юкико стоит одна. Мама берет ее. И, взглянув, через несколько секунд говорит:
– Что это за девочка? Шизуко или Нацуко?
– Нет, это та, в которую я был когда-то влюблен.
– Юкико?
– Да.
Мама снова смотрит на фотографию и говорит:
– Лицо мне не знакомо. Она прожила в нашем квартале всего два года.
Показываю ей вторую фотографию, где Юкико три года и она вместе с мальчиком ее возраста. Мама долго разглядывает снимок.
– Вот еще одна фотография Юкико, – объясняю я. – Этого мальчика она в детстве очень любила. Они оба такие забавные.
Мама не отвечает. Взгляд ее словно прикован к фотографии. Через мгновение она спрашивает:
– Кто дал тебе эти фотографии?
– Юкико. Она говорила тогда, что у ее отца был очень современный фотоаппарат.
Мама по-прежнему не отрывает взгляда от фотографий, но больше ни о чем не спрашивает. Я встаю, чтобы выключить кондиционер. Открываю окна и стеклянную дверь, которая выходит в сад. Комната наполняется свежим воздухом. Жара спала. Сейчас лучшее время для работы в саду.
* * *
Выхожу в сад и потягиваюсь. Подсолнухи полностью раскрылись. Желтые лепестки сверкают в лучах заходящего солнца. Осматриваю огород. Спелые баклажаны, огурцы, тыквы, дыни. Начинаю выпалывать сорняки.
– Очень вкусно, правда?
Из комнаты доносится голос Шизуко: она разговаривает с мамой. Кажется, мама ест тыквенный суп. Шизуко рассказывает ей о внуках, которые собираются приехать к нам на праздник Бон. Мама еле слышно отвечает ей. Она давно так много не разговаривала. Похоже, она неплохо себя чувствует и действительно сможет сходить вместе с внуками на могилу к отцу.
Ветер стих, и теперь я слышу весь их разговор.
Шизуко говорит удивленно:
– Ну и ну! Я не знала, то у вас есть детская фотография Юкио.
Должно быть, она имеет в виду ту, где Юкико сфотографирована вместе с мальчиком. Мама молчит. Видимо, она, как обычно, задремала, слушая Шизуко.
– Наверное, он был чудесным ребенком, – продолжает Шизуко. – На этой фотографии он похож на Фуюки, когда тому было три или четыре года. Обязательно покажу Фуюки, когда он приедет к нам на Бон. Для него это будет сюрприз.
Я так и замер, склонившись над грядкой. Поворачиваюсь в сторону окон. Шизуко сидит на стуле спиной к саду.
– Детей связывает с родителями единая кровь, – говорит она маме. – Но если посмотришь на их лица, никакого другого доказательства не нужно… А кто эта девочка в матросском костюме?
На мгновенье повисла тишина.
– Юкико в тринадцать лет? – читает Шизуко надпись на обороте. – Эту девочку зовут Юкико? У них с Юкио почти одинаковые имена. Она немного похожа на Нацуко или, скорее, на Цубаки. Они с Юкио родственники? Нет, вряд ли. У вас ведь никого нет…
Все мое тело словно онемело. Каждое слово, произнесенное Шизуко, впивается в меня иглой. Значит, мальчик рядом с Юкико – это я? Поднимаюсь и распрямляю спину. Голова идет кругом. Я больше ничего не слышу.
Незаметно стемнело. Шизуко заперла изнутри все двери и террасу. В комнате погас свет. Я стою неподвижно в темноте.
Наконец иду к себе в комнату. Медленно подхожу к шкафу, где хранятся три книги, которые дал мне отец Юкико. Дрожащей рукой достаю книгу о французской революции и отыскиваю между страниц сложенный вчетверо листок бумаги. Аккуратно расправляю его и кладу на письменный стол. Адрес Юкико написан черными чернилами. Долго вглядываюсь в буквы. Вдруг Шизуко стучится в дверь.
– Твоей маме плохо… – говорит она с беспокойством.
К десяти часам вечера мама впала в кому. Шизуко немедленно вызвала врача и позвонила детям.
* * *
Я сижу возле маминой кровати. Время от времени повторяю: «Мама, ты слышишь меня?» Ответа нет. Долго вглядываюсь в ее бледное лицо. Она по-прежнему держит в руке две фотографии.
Неожиданно замечаю, что в другой руке у нее какой-то предмет, завернутый в вылинявшую белую ткань. Касаюсь ее безжизненной руки и аккуратно беру сверток. Разворачиваю. «Хамагури!» У меня перехватило дыхание. Створки ракушки все еще перевязаны пожелтевшей бумажной лентой. Тук-тук-тук… Стучит внутри камешек. Разорванная ленточка легко соскальзывает с ракушки. Камешек падает на пол. В углублениях створок слогами азбуки хирагана написаны два имени: «Юкико» и «Юкио». Я едва сдерживаю слезы.
Не отрываясь, смотрю на фотографии в маминой руке. Потом беру ту, где Юкико с мальчиком, со мной.Рука дрогнула, снимок упал на пол. На обороте я замечаю несколько слов, написанных нетвердым почерком: «Сынок, ты – самое дорогое, что есть у меня в целом мире».
Снова вглядываюсь в мамино лицо, беру ее холодеющую руку. Мои слезы капают на наши сомкнутые ладони.
ЦУБАМЕ
I
Запрокинув голову, я смотрю в небо.
Затянутое плотными облаками, оно простирается до бесконечности. Стоит жаркая и влажная погода, редкая для конца лета. Раннее утро, но моя рубашка уже вся мокрая от пота.
Над головой проносятся две ласточки: снуют туда-сюда между крышей дома и электропроводами. Скоро они улетят на юг, в теплые края. Вот бы и мне стать такой же свободной, как они.
Мама однажды сказала: «Если бы можно было родиться второй раз, я бы хотела родиться птицей».
Иду по узкой тропинке, которая тянется вдоль пруда, – это самый короткий путь к дому моего дяди. Я несу ему початки кукурузы, сваренные мамой. От кукурузы, обернутой в газетную бумагу, исходит жар. Весь день дядя работает на дамбе Аракава, где идет строительство отводного канала. Он перевозит на тачке землю и гравий. «Платят мало, но это все же лучше, чем ничего».
На берегу пруда зацвел аир. Останавливаюсь и смотрю на него. «Странно, – думаю я. – Аир обычно цветет в мае или в июне». Ветра нет, водная гладь неподвижна.
Вдруг вспоминаю, что сказала мама накануне вечером: «Вот уже несколько недель в доме совсем не видно крыс». Мне казалось, это хорошо, потому что крысы мешали нам спать. Но на мамином лице было беспокойство.
Бросаю в пруд камешек. Круги на воде расширяются, дрожат, колеблются. Смотрю на них, пока они не пропадают. Потом снова иду дальше быстрым шагом.
Когда я прихожу к дяде, он уже собирается идти на работу. Он удивлен видеть меня так рано утром.
– Что случилось, Йони? – спрашивает он. – Мама заболела?
Я улыбаюсь, качая головой:
– Нет. Ни сегодня, ни завтра мама не работает. Хозяин вместе с семьей уехал отдыхать в деревню.
И протягиваю ему сверток с кукурузными початками. Он с любопытством разворачивает бумагу. На мгновение я задерживаю взгляд на его длинных тонких пальцах, непривычных к грубой работе.
– Кукуруза! – вскрикивает он. – Спасибо!
Он кладет бумажный сверток в сумку и достает из кармана залатанной рубахи несколько монет.
– Купи себе конфет, – говорит он и кладет деньги мне в ладонь.
– Так много!
На эти деньги можно купить столько конфет, что их хватит надолго. Дядя, очень довольный, гладит меня по голове.
– Прости, Йони, мне пора идти. Если я опоздаю, меня выгонят с работы. Поблагодари маму от меня. Я зайду к вам на днях. До свиданья!
И он убегает.
На обратном пути мне встречается группа девочек моего возраста – все одеты в кимоно и хакама. Они идут в колледж. В темные волосы, спускающиеся ниже плеч, вплетены цветные ленты. Девочки весело распевают какую-то песенку. На минуту я задумываюсь: «Разве в школе уже начались занятия?» К тому же девочки ничего не несут в руках. Опустив глаза, шагаю дальше.
Я не хожу в школу. Я занимаюсь дома. Мама учит меня писать по-японски и по-корейски. Я уже знаю азбуку хирагана, катакана, хангул и примерно триста иероглифов ханмун. Днем я помогаю маме по дому, стираю и хожу за покупками.
Я останавливаюсь и оборачиваюсь: школьницы уходят все дальше и дальше, пока наконец не исчезают из вида.
Возвращаюсь домой. Мама сидит на бамбуковом стуле прямо напротив входа и аккуратно распарывает ножницами свою черную чима.
– А, ты уже вернулась! – говорит она, поворачиваясь ко мне. – Успела застать его дома?
– Да. Дядя просил поблагодарить тебя и сказал, что зайдет к нам на днях.
И показываю маме деньги, которые он мне дал. Мама улыбается:
– Тебе повезло. Только смотри не потеряй.
Я рассматриваю чима, разложенную у мамы на коленях. Кончики ниток вьются по полу. Из корейской одежды у мамы сохранились только чима и чогори.
– Что ты делаешь, мама? – спрашиваю я. – Ведь чима еще можно носить.
– Я уже давно ее не ношу. Хочу перешить ее тебе в зимние штанишки.
Я кладу деньги в карман и сажусь на деревянную коробку, которая стоит у двери. В доме прохладно, как будто невыносимой жары и духоты не существует вовсе: нагайя всегда закрывает тень от высокого здания, расположенного позади, – фабрики, где делают лекарства. Кроме нас, все здесь японцы – приезжие из провинции, которые не задерживаются надолго. Мама говорит, что у них сильный акцент и она не всегда их понимает. Соседи не приглашают нас в гости. Они избегают нас.
Сегодня наша улочка пустынна, не видно даже бездомных кошек, которые обычно бродят возле нагайя в поисках еды.
Рассеянно смотрю на мамино лицо. У нее светлая кожа. На лбу ни одной морщинки. Глаза большие, чуть вытянутые, миндалевидные. Длинные черные волосы собраны в узел на затылке, пробор ровный. Прямая спина. На днях дядя сказал мне: «Голос у твоей мамы очень мягкий, и она никогда не кричит. Ее движения по-прежнему плавны и изящны. Досадно, что из-за японской колонизации мы оказались в нищете. Но не забывай: мы происходим из старинного рода».
В Корее мама вела уроки по домоводству в колледже для девочек. Дядя был писателем и журналистом.
Снова смотрю на маму: она все еще распарывает юбку. Ловко, сноровисто. На лице у нее мягкая, нежная кожа, а руки шершавые, зимой – с трещинками. Мама работает уборщицей, помогает по хозяйству в доме богатых людей. Когда я была маленькой и не могла оставаться одна, мама брала меня с собой на работу. У нашего хозяина тоже были дети, но я никогда не играла с ними. Родители запрещали им даже разговаривать со мной.
– Почему вы с дядей уехали в Японию? – робко спрашиваю я.
Мама коротко смотрит на меня исподлобья, но не отвечает. Руки ее проворно снуют по ткани.
– Почему? – снова спрашиваю я.
Мамины руки замирают, она поднимает голову. Взгляд задумчивый. Потом она говорит:
– Тебе уже двенадцать лет. Значит, ты сможешь пообещать, что не расскажешь никому о том, что сейчас услышишь от меня, ведь правда?
– Да, – отвечаю я.
Мама улыбается:
– А ты редко проявляешь такую настойчивость.
Потом она говорит шепотом мне на ухо:
– Мы с братом бежали из Кореи.
«Что? Они бежали? Они совершили что-то страшное?» Я с ужасом смотрю на маму.
– Не пугайся, – говорит она. – Мы не преступники.
И она все объяснила. Я слушала очень внимательно.
В Корее они с дядей участвовали в движении за независимость. Японцы хотели как можно скорее превратить Корею в свою колонию. В 1909 году, за два года до моего рождения, один влиятельный японский политик был убит в Харбине каким-то корейским патриотом. Сторонники движения за независимость стали подвергаться все более жестоким репрессиям. А год спустя Корея как государство перестала существовать. Статьи моего дяди больше не публиковали. Маме пришлось уйти из школы. Их родителей часто вызывали на допрос в полицейский участок. Мама и дядя вынуждены были покинуть город, но они не знали, куда ехать. Случайно они встретили одного из своих товарищей, который пытался попасть на борт судна, незаконно отбывавшего в Японию, и решили бежать вместе с ним. Так они оказались в Японии.
– Это случилось тринадцать лет назад… – говорит мама.
На мгновенье она замолкает, а потом добавляет почти шепотом:
– Мы по-прежнему верим, что Корея добьется независимости. Не забывай этого, даже если ты и родилась здесь. В любом случае в тебе течет корейская кровь, и ты никогда не станешь японкой.
– Говорят, Япония относится к Корее как к члену собственной семьи, – перебиваю я маму, – и брак между принцессой Масако и принцем Ли Ын как раз доказывает это.
Мама решительно качает головой:
– Нет, нет. Это политический расчет, брак был навязан Японией. В Корее императорская семья никогда бы не согласилась на брак с иностранкой. К тому же принц был последним наследником династии Чосон. Какой бесстыдный поступок! Это просто унижение! Видишь, что замышляет Япония.
«Политический расчет? Брак с иностранкой? Что это значит?» Я не понимаю маминых слов и только молчу. Мама не обращает на это внимания и продолжает:
– Еще до заключения этого брака принц был помолвлен, у него была невеста из знатной корейской семьи. Представь себе, что чувствовали двое суженых, которых разлучили таким унизительным образом, – особенно невеста, ожидавшая этой свадьбы больше десяти лет!
Мама глубоко вздыхает. Я долго смотрю на серое небо.
– О чем ты думаешь? – спрашивает мама.
Не отрывая взгляда от неба, я отвечаю:
– О том, что могла чувствовать японская принцесса.
Мама ничего не говорит и тоже поднимает глаза к небу. Мы долго молчим. Наконец мама говорит:
– Когда-нибудь мы вернемся на родину.
– На родину? – удивленно повторяю я.
– Да.
– И дядя тоже?
– Да, и он тоже.
Я обвожу взглядом нагайя, где живу с самого детства. Длинная крыша, соединяющая несколько домов, облупленные и потрескавшиеся стены, окна, которые открываются с большим трудом, узкая улочка, куда никогда не проникают солнечные лучи.
– Не могу даже представить, как мы будем жить в Корее. Я ведь там никогда не была.
Мама кивает:
– Это в порядке вещей. Просто мне не хочется, чтобы ты жила здесь так, как живу я.
И она опять принимается распарывать юбку. Я не отрываясь смотрю на ее руки и снова задаю себе вопрос, который не дает мне покоя и который я не решаюсь задать маме. «Каким был мой папа?» Ведь я никогда его не видела. Мама говорит, что он исчез еще до моего рождения. «Он был похож на дядю?»
Когда мне было три или четыре года, мама иногда оставляла меня со своим братом и просила его присмотреть за мной. Он тогда жил вместе с нами.
Он сидел за маленьким столиком, что-то писал и курил. Он хлопал себя по щеке, и изо рта у него выплывали колечки сигаретного дыма. Мне это очень нравилось, и я пыталась поймать колечки в ладони. Растянувшись на полу, он рассказывал мне истории, которые выдумывал сам. Когда стояла хорошая погода, мы поднимались на холм, расположенный неподалеку от дома. Дядя сажал меня к себе на плечи, и мы пели «Ариранг», песню нашей родины.
«Каким был мой папа?» – мысленно повторяю я без конца, не отрывая глаз от маминых рук.
– Мама…
– Что? – откликается она, не поднимая головы.
Я молчу. Мама переводит взгляд на меня.
– Что случилось? – спрашивает она.
Я опускаю глаза.
– Я проголодалась!
Выражение маминого лица становится мягче. Она улыбается:
– Скоро будем есть. Ты ведь можешь вымыть и нарезать овощи, правда?
Она встряхивает ткань, смахивая на пол обрезки ниток. Я иду на кухню и слышу у себя за спиной мамин голос:
– Нет ничего ценнее свободы. Никогда не забывай об этом, Йони.
* * *
На следующее утро я просыпаюсь от шума ветра и дождя, который барабанит в амадо. Прислушиваюсь. Под напором ливня двери трясутся все сильнее. Свет проникает снаружи сквозь щели между досками. Смотрю на часы, которые висят на стене. Без десяти восемь. Мама уже что-то шьет при свете лампочки. Я встаю. На столе – плошки, палочки и полная тарелка кимчи.
– Ну и буря! – говорю я, протирая глаза. – Настоящий ураган.
Мама садится к столу, накладывает в плошки рис и разливает овощной суп.
– Хорошо, что мне не нужно идти работать в такую погоду, – говорит она.
– Почему они все вдруг уехали отдыхать? – спрашиваю я.
Мама улыбается:
– Я слышала, как хозяин незадолго до отъезда сказал своей жене: «Уму непостижимо! Здесь нет ни одной ласточки. Хотя еще не пришло время улетать на юг. Где же они все?» И жена ему ответила: «Говорят, этим летом их много за городом». Хозяин тут же приказал готовиться к отъезду.
На мгновенье мамино лицо помрачнело. Теперь я жалею, что задала этот вопрос. Невыносимая жара, цветет аир, пропали все крысы… Неужели скоро случится что-то ужасное? Нет, я же видела вчера утром двух ласточек. Мы едим молча.
Вымыв посуду, я усаживаюсь за стол и начинаю заниматься. Пишу сочинение на корейском языке и пытаюсь заучить новые иероглифы ханмун, которые мама показала мне в начале недели.
К десяти часам ветер стих и кончился дождь. Открываю амадо, влажный жаркий воздух сразу проникает в комнату.
– На небе ни облачка! – говорю я маме. – И куда только ушла гроза?
– Днем будет очень жарко, – говорит она. – Сегодня первое сентября. В этом году осень наступит позже, чем обычно.
С шитьем в руках она выходит на крыльцо и ставит в дверях бамбуковый стул.
– Иди сюда. Здесь не так душно, – зовет она меня.
– Нет, сначала закончу делать задание. А потом пойду на холм собирать колокольчики. Их там много.
Мама улыбается. Колокольчики ее любимые цветы.
Когда я возвращаюсь домой, уже почти полдень. Букет из колокольчиков ставлю в бутылку. Мама готовит на кухне, напевая вполголоса какую-то песенку. На столе бамбуковая корзина с оставшимися со вчерашнего дня початками кукурузы. Приношу с кухни плошки и палочки. В тот момент, когда я ставлю все это на стол, раздается зловещий гул. «Что это?» У меня кольнуло в сердце. Послышалось глухое рычание, и вдруг дом начал шататься. Я еле удержала равновесие. Бамбуковая корзина перевернулась, и кукуруза рассыпалась по полу. Лампочка без абажура, свисающая с потолка, раскачивается, точно маятник. Часы сорвались со стены. Хочу позвать маму, но сил хватает лишь на то, чтобы уцепиться за деревянную перегородку. Мама кричит с кухни:
– Йони, быстрее!
И тащит меня за руку из дома. Земля плывет под ногами. Соседи бегут в сторону главной улицы. Плачут дети. Ноги у меня подкашиваются, я спотыкаюсь, падаю. Мама крепко держит меня за руку. Где-то сзади грохочет взрыв. Это фабрика по производству лекарств. Нагайя сровняло с землей. «Наш дом исчез!» Фабрика в огне. Я так испугана, что не могу бежать. С неба сыплются искры.
– Скорее! – кричит мама. – Иначе мы задохнемся от дыма.
Лицо у нее белое, как полотно.
* * *
Мы идем следом за толпой людей, движущихся в направлении холма, откуда я вернулась сегодня утром. Но говорят, дальше дороги нет: разрушенное здание перегородило улицу. Нужно идти в обход.
Мы бежим из последних сил. Запыхавшись, я умоляю маму: «Подожди минутку, я больше не могу». Но мама не останавливается и продолжает тянуть меня за руку. Я замечаю, что у нее на поясе висит белая холщовая сумка.
– Мама, а что у тебя в сумке? – спрашиваю я.
– Деньги и мой дневник, – отвечает она шепотом.
– Как ты успела? У нас ведь совсем не было времени, чтобы захватить с собой вещи.
– Сумка всегда лежала у меня под рукой, на верхней полке кухонного шкафа. Нужно быть готовой к любой неожиданности.
Мы шли больше часа, и вот наконец добрались до вершины холма, где уже толпится народ. Со всех сторон доносятся крики: «Смотрите! Вон там, внизу! Весь город горит, он похож на море пламени. Токио скоро исчезнет с лица земли!»
Меня охватила смертельная усталость. Сажусь на камень. Опять подземные толчки. Хватаюсь за мамину руку. «Через несколько секунд все закончится, – успокаивает меня мама. – Не бойся».
Хочется пить и есть. С самого утра во рту не было ни крошки. Деньги, которые мама взяла с собой, сейчас совершенно бесполезны. «Вместо сумки нужно было захватить воду и кукурузу», – думаю я.
Стоит ужасная жара. «Воды!» – кричат дети. Мама садится на землю, прислонившись спиной к камню, и жестом указывает, чтобы я положила голову ей на колени. Я молча опускаю голову и закрываю глаза. Но заснуть не получается: в нескольких шагах от нас беспрерывно плачет мальчик лет двух или трех, которого держит на руках молодая женщина. Она укачивает его и пытается успокоить, но мальчик плачет все громче.
Вдыхаю аромат трав. Я называю это место «холмом горечавок». Осенью тут между камней распускаются нежно-фиолетовые цветы. Они очень красивые, похожи на колокольчики. В детстве я приходила сюда вместе с дядей. А теперь гуляю одна. Обычно на вершине холма нет ни души. Лежа на траве, я смотрю на небо и потом засыпаю.
Мне приходится подняться, потому что мама хочет помочь той женщине с ребенком. Мама берет мальчика на руки, ласково гладит его по голове, лбу, щекам, медленно шагая вокруг женщины. Мальчик успокаивается и засыпает. Мама передает его женщине, которая много раз кланяется и говорит:
– Спасибо, спасибо большое!
В небе клубятся зловещие, наполненные дождем кучевые облака. «Мамин хозяин правильно сделал, что уехал из города», – думаю я. И шепчу маме на ухо:
– Надеюсь, дядя жив и здоров.
– Не тревожься, – тоже шепотом отвечает мама. – Он работает в безопасном месте. Скоро мы с ним увидимся.