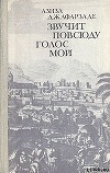Арабская поэзия средних веков

Текст книги "Арабская поэзия средних веков"
Автор книги: Тарафа
Соавторы: ,,,,Аль-Харис ибн Хиллиза,,Амр ибн Кульсум,Тааббата Шарран,,
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
X-XII века
АЛЬ-МУТАНАББИ
* * *
Доколе, живя в нищете, бесславную долю
Ты будешь покорно сносить,– доколе, доколе?
Ведь если ты честь обрести не сможешь в сраженье -
То, чести не обретя, умрешь в униженье.
Так, веруя в бога, лети с оружьем в руках:
Для гордого гибель в бою – как мед на устах!
* * *
О, сколько вас, подобно мне, израненных, убитых
Девичьей шеи белизной, румянцем на ланитах
И блеском этих глаз, больших, как у степных коров,-
Вконец измучен, из-за них погибнуть я готов.
Чудесна юность, славно Ячить, пока ты молод, витязь,-
О дни в Дар-Асла, дни любви, вернитесь, возвратитесь!
Пусть жизнь твою продлит Аллах,– пока ты бодр и юн,
Немало в бусах и платках встречаешь гордых лун.
Вонзая острия ресниц, на стаи стрел похожи,
Их взоры ранят нам сердца, хоть и не ранят кожи.
Тягучими глотками пьют они из губ твоих,
И слаще фиников уста красавиц молодых.
Они стройны, нежней вина, но в них и сила скрыта:
Их своенравные сердца – из крепкого гранита.
А волны их волос черней вороньего крыла,
И ни морщинки на лице судьба не провела.
О, запах девичьих волос,– как бы в одном настое
В нем с маслом розовым слились и амбра и алоэ.
Улыбку дарит нам она прохладным тонким ртом,
И мускус локоны струят, играя с ветерком.
Давно, красавица, с тоской сдружила ты Ахмада,
С бессонницей – его глаза, а тело – с мукой ада.
Тебе – все естество мое, тебе – и сон и явь,
Твори, что хочешь: боль мою убавь или прибавь.
Не может не страдать герой, добычей став твоею:
Я – пленник локонов твоих и этой гибкой шеи.
Пить не грешно хмельную кровь из виноградных
Так напои того, кто в дар любовь тебе принес.
Явился я в расцвете сил – и все, чем я владею,
Всего себя отдам тебе, от страсти пламенея.
К сединам ранним приглядись, к слезам и к худобе:
Они – свидетели любви, моей любви к тебе.
Коль ты порадуешь меня хоть кратким единеньем,
Три дня отказа я снесу с безропотным терпеньем.
В цветущем Нахле жизнь моя сурова и мрачна,
Как в Иудее – жизнь Христа в былые времена.
Моя подушка – круп коня, зато крепка, упруга
Рубахой служащая мне отменная кольчуга.
Она красива и прочна, блестит, глаза слепит,
Как будто кольца сплел ее когда-то сам Давид.
Добьюсь ли превосходства я, склонившись перед властью
Судьбы, что за несчастьем шлет лишь новые несчастьж
Ищу я пищу и приют – от поисков устал,
Вздыхает грудь, суров мой путь, и краток мой привал.
Скитаюсь я из края в край, нужда меня изводит,
Склоняется моя звезда, но помыслы – восходят.
Быть может, уповаю я на то, чего достиг,-
Достиг по милости того, кто Славен и Велик.
Кто благороден, будет горд и в грубом одеянье,
Но мерзко видеть мервский шелк на подлой обезьяне.
Живи бесстрашно – иль умри, по жизнь отдай свою
Под шум знамен, с копьем в руке, честь обретя в бою.
Ведь лучше острого копья нет средства, что могло бы
Врага избавить от вражды, завистника – от злобы.
Но не живи, как те, что жизнь бесславную влачат,
Чью смерть живые не сочтут утратой из утрат.
Храни достоинство свое и в огненной геенне
И даже в сладостном раю гнушайся унижений.
Ждет гибель немощных душой, трусливые сердца -
Того, кому не разрубить и детского чепца.
Зато от гибели храпим бесстрашный, с духом львиным,
За честь готовый в спор вступить и с грозным властелином.
Не родом славиться – свой род прославить я стремлюсь,
Не предками – самим собой по праву я горжусь.
Хотя их добрые дела известны всем арабам:
Они спасали беглецов и помогали слабым.
Когда чему-то и дивлюсь, то удивленью тех,
Кто ясно видит, что душой вознесся выше всех.
Я – щедрости родной близнец, я – властелин созвучьям,
Отрава недругам, позор завистникам живучим.
И лишь в общине у себя,– Всевышний ей судья! -
Как Салих жил средь самудян, живу, отвержен, я.
* * *
Постойте, увидите ливень мой,– тучи уже собрались,
И не сомневайтесь: тому не бывать, чтоб эти слова не сбылись!
Ничтожества камни швыряют в меня – их камни, как вата, легки,
И, метясь в меня, лишь себя поразят лжецы и клеветники.
Не зная меня, не знают они, что суть им моя не видна,
Неведомо им, что ведома мне незнания их глубина,
Что я, даже всею землей овладев, сочту себя бедняком,
И, даже созвездия оседлав, сочту, что бреду пешком.
Для мыслей моих ничтожно легка любая высокая цель,
Для взоров моих ясна и близка любая из дальних земель.
Я был величавой, крепкой горой, но, видя повсюду гнет,
Почувствовал я, как в моей душе землетрясенье растет.
Тогда от гнева я задрожал, грозною думой объят,
Подобно верблюдицам, чьи бока при каждом звуке дрожат.
Но только опустится мрак ночной, искры от их копыт
Так ярко дорогу нам озарят, как факел не озарит.
На быстроногой верблюдице я – словно на гребне валов,
Меня устремляющих по морям, которым нет берегов.
Проносится весть обо мне быстрей, чем среди сплетниц – слух,
И, в тысячи жадных ушей превратись, страна затаила дух.
Кто ищет величья и славы такой, какую хочу обрести,
Уже не заботится, жизнь или смерть его ожидают в пути.
О нет, кроме гибели ваших душ не знаем мы цели иной,
А средство, чтоб цели этой достичь,– только клинок стальной.
Приходит меч,– и время душе расстаться с жильем земным,
Уходит меч,– и даже скупой не будет больше скупым.
Скудна будет жизнь, если гордость свою не утолю сполна,
Но скудной не станет она оттого, что пища моя скудна.

* * *
Абу Саид, упреки оставь,– ведь ты не из тех глупцов,
Кто заблужденья и ложь принять за истинное готов.
Правители сами закрылись от нас, их нрав уж давно таков,
Поставили стражу, чтоб нас не пускать за полог своих шатров.
Но бешеный бег арабских коней, разящая сталь клинков
И копий каленые острия сорвут перед нами покров!
* * *
Непрошеным гостем пришла седина, окрасила кудри до плеч,
Уж лучше бы сразу в багряный цвет их перекрасил меч.
Исчезни, сокройся, сгинь, белизна, белее которой нет,-
Безрадостней ночи для глаз моих этот печальный цвет.
Разлука с любимой – вот пища моя, тоскою мой дух томим,
Ребенком я был, когда полюбил, а к зрелости стал седым.
Я вижу чужого становья след – о ней расспросить хочу,
Увижу чужих, незнакомых дев – и сердцем кровоточу.
В тот день, навсегда расставаясь со мной, горько вздохнула она
О том, что душа нерушимо верна, а встреча – не суждена.
Слились наши губы,– и слезы мои стремились к ее слезам,
И, страх поборов, устами она припала к моим устам.
Сок жизни вкусил я из уст ее,– в нем столько живящих сил,
Что, если б на землю пролился он, мертвых бы воскресил!
Глазами газели глядела она, а пальцы, как стебельки,
Стирали струистой росы ручейки с ее побледневшей щеки.
Нo мне приговор выносить не спеши,– любимая, ты не права,
Дороже мне твой приговор, поверь, чем вся людская молва.
Ты страхом охвачена,– этот страх не в силах и я подавить,
Но боль я скрываю в своей душе, а ты не умеешь скрыть.
А если бы скрыла,– сгорела бы вмиг одежда твоей красоты,
В одежду отчаянья так же, как я, тотчас облеклась бы ты.
Пустыми надеждами тешить себя не стану я все равно,-
Уменье довольствоваться нуждой душе моей не дано.
Не жду, что страданья и беды решат меня стороной обойти,
Пока я твердостью дум своих не прегражу им пути.
Жестокие ночи кляни,– в нищету меня повергли они,
Прости же оставшегося ни с чем, безвинного не кляни.
Достойных искал я среди людей, а только овец нашел,
О щедрости слышал много речей, но только слова обрел.
Таких я увидел, что честью бедны, зато богатством горды,-
Не нажили столько чести они, сколько я нажил нужды.
Я дольше любого терпенья терпел, теперь устремляюсь в бой,
И знайте: сравниться с боем моим не сможет бой никакой.
Когда над равнинами в полный рост выпрямится война,
Коней заставлю я побледнеть – так будет она страшна.
Удары посыплются скоро на них,– и, криками оглушены,
Как в буйном безумии, задрожат и захрапят скакуны.
Жестоко изранены будут они, их участь невесела -
Как будто стебли горькой травы опутают их удила.
Сегодня любой обнаженный меч ждет, что ему передам
Державу, отданную во власть наемникам и рабам.
Считает излишними старец-меч пять ежедневных молитв:
Готов далее в храме он кровь пролить, жаждет великих битв.
В разгаре сраженья этим мечом вражеских львов бодни,
Не меч отпрянет от их брони – сами отпрянут они.
О молниях в небе заставит забыть молния в длани моей,
И долго пропитанной кровью земле не нужно будет дождей.
Черпни из источников смерти, душа, к цели себя направь,
А овцам и страусам – жалким сердцам– источники страха оставь.
И если в сраженье тебя не пущу с копьем, на лихом коне,
Отваги и славы братом родным больше не зваться мне!
В дни, когда голодно воронье и яростна жажда клинка,
Тому ли царить, кто лишь мяса кусок, что ждет топора мясника?
Такой, и во сне меня увидав, от страха уже не уснет,
А если за воду примет меня, охотней от жажды умрет.
Назавтра встретиться предстоит отточенному мечу
С владыками теми, чью ложь и спесь давно усмирить хочу.
Смирятся они,– тогда ни к чему карающий блеск мечей,
А не смирятся,– так мало мечей для этих упрямых шей!
* * *
До каких я великих высот возношусь
И кого из владык я теперь устрашусь,
Если всё на земле, если всё в небесах -
Все, что создал Аллах и не создал Аллах,
Для моих устремлений – ничтожней, бедней,
Чем любой волосок на макушке моей!
* * *
Абу Абдалла Муаз, ведомо ли тебе,
Место какое займу в близящейся борьбе?
Ты о великом сказал,– ради него и борюсь,
Ради него в бою гибели не побоюсь.
Разве такой, как я, станет покорно страдать
Иль устрашится лицо смерти своей увидать?
Если б явиться ко мне Время само могло,
Меч раскроил бы мой в гневе его чело.
Нет, не достичь ночам темных желаний своих -
Жизни моей узду руки не схватят их.
Конница в тысячи глаз будет глядеть на меня,-
Ужасов ждите тогда во сне и при свете дня!
* * *
Кинжалы огня с моего языка срываются, как с кремня,
Приходит ко мне от разума то, чему не уйти из меня,-
Море! Бездонна его глубина, бьет за волной волна,
Всю Землю и Семь Небес затопи – не вычерпать их до дна.
Я сам приказываю себе,– и если пора придет
В жертву свое естество принести, такой, как я, принесет!
Вкусней, чем за старым вином с друзьями сидеть ввечеру,
Милей, чем ударами чаш обмениваться на пиру,
Ударами пик и мечей обмениваться в бою
И первым на вражий строй скакать в боевом строю.
В сраженье окончить жизнь – желанная цель моя,
Исполнить желанье души – не в этом ли смысл бытиж
Нo если охотно вино возьму я из чьих-то рук,
Так только из рук твоих, Абу Дабис – мой друг.
* * *
Того, кто вам будет служить, о львы Фарадиса, скажите,-
Не станете вы унижать, своим уваженьем почтите?
Вперед ли, назад ли гляжу – везде ожидаю несчастий:
Воров и врагов я боюсь, боюсь ваших гибельных пастей.
Не лучше ль в союз нам вступить, не сходны ли наши желанья,-
Ведь знаю немало путей, где можно сыскать пропитанье.
Со мной бы вам славно жилось: могли б вы питаться повсюду
И тем, что добудете вы, и тем, что для вас я добуду.
* * *
О сердце, которое не веселит чаша с хмельною влагой,
О жизнь, что подобна скудным дарам, поданным жалким скрягой!
О век, о ничтожные люди его – презренные, мелкие души,
Хотя иногда и сопутствуют им огромные, важные туши.
Но знайте: я – не из их числа, хотя среди них и живу я,-
Не так ли земля среди грубых камней россыпь таит золотую.
На глупых кроликов погляди, которых зовут царями:
Раскрыты глаза у них широко, по снят они целыми днями.
А смерть разрушает тучную плоть – бренные их жилища,
Хоть нет у таких иного врага, кроме их жирной пищи.
Взгляните на конницу этих владык – сражения ей не знакомы,
Как будто копья ее бойцов сделаны из соломы.
Ты сам – свой единственный друг, а не тот, кого называешь другом,
Пускай он любезен, пускай на словах готов он к любым услугам.
Когда берутся закон блюсти без разума и без толку,
Не падает меч на шею того, кто меч точил втихомолку.
Подобное ищет подобья себе,– и, этот закон признавая,
Скажу я: таков этот мир, что ему подобней всего негодяи.
Когда бы возвысился тот, кто душой достиг высоты геройской,
Тогда опустилась бы мутная пыль, возвысилось храброе войско.
И если когда-нибудь пастырем стать достойному удалось бы,
Наверно, достойнее паствы самой пастыря не нашлось бы.
А прелесть красавиц – кто знает ее, тот скажет вместе со мною:
Свет, а внутри его темнота – вот что она такое!
Но если молодость нас пьянит, словно хмельная чаша,
А старость печали одни сулит, то жизнь – вот погибель наша!
Одним прощается скупость их, в других порицают скупость,
Одним прощается глупость их, в других обличают глупость.
Невольно сравниваю себя и тех, кто со мною рядом,-
Жить среди них такому, как я, становится сущим адом!
Что хочешь, увидишь на этой земле, – но после исканий бесплодных
Поймешь ты, чего не хватает ей: отважных и благородных.
Вот если бы отдали люди земле пороки и недостатки,
А взяли себе совершенство ее,– иные пришли бы порядки!
* * *
Это одна бесконечная ночь или все шесть – в одной?
Уж не до самого ль Судного дня протянется мрак ночной?
Восходят созвездия в этой тьме – как толпы прекрасных жен
С открытыми лицами, в черных платках, в час горестных похорон.
О том помышляю, чтоб смело в спор со смертью вступил мой меч,
Чтоб на длинношеих лихих скакунах конницу в бой увлечь,
Чтоб сотни хаттыйских каленых ник решимость моя вела -
Селенья, кочевья в крови потопить, испепелить дотла!
Доколе в бездеятельности жить, а втайне пылать огнем,
Доколе медлить и медлить мне – день упускать за днем?
Доколь от высоких дел отвлекать лучшие силы души,
На рынке, где старый хлам продают, сбывать стихи за гроши?
Ведь юность, когда миновала она, обратно уже не позвать,
И ни один из прожитых дней не возвратится вспять.
Когда предстает перед взором моим безжалостная седина,
Кажется мне, что ее белизна, как сумрак ночной, черна.
Я знаю: когда до предельной черты дойду в возрастанье своем,
Начнет убывать возрастанье мое с каждым прожитым днем.
Но разве я дальше жить соглашусь, приблизясь к твоим шатрам,
Пока за великую щедрость, эмир, хвалу тебе не воздам?
Всевышний да благословит тот путь, который к тебе привел,
Хотя и для лучших верблюдов он был мучителен и тяжел.
Покамест я к Ибн Ибрагиму спешил, верблюдица стала тоща -
Еды не осталось в ее горбе и для одного клеща.
Давно ль между нами пустыня была, огромна и горяча,-
Мой путь сократил ее до ширины перевязи от меча.
Мой путь удалил удаленность твою, чья близость была далека,
И близость приблизил, и стала теперь сама удаленность близка.
Едва я прибыл к тебе, эмир, возвысил ты жизнь мою,-
Меня усадил на Семи Небесах, как будто в земном раю,
И прежде чем я поклонился тебе, улыбкой меня озарил,
И прежде чем отойти ко сну, богато меня одарил.
Причины не ведаю, кто и в чем тебя упрекнуть бы мог,-
В своем благородстве ты сам для всех – словно живой упрек.
Блистая щедростью, тем, кто щедр, гордиться ты не даешь,-
Ведь после тебя уже никого щедрым не назовешь.
Как будто щедрость твоя – ислам, и чтоб правоверным быть,
Любою ценой не желаешь ты закон его преступить.
А как в сражении ты силен! Мгновенье – и враг сметен,
Как будто души людей – глаза, твой меч – их последний сон.
А наконечники копий своих из тяжких дум ты сковал -
Прямо в сердца проникают они, сражая врагов наповал.
В тот день своих боевых коней помчал в наступленье ты -
От скачки распутались гривы их, запутались их хвосты.
И с ними в Латтакью ты гибель принес тем, кто тебя хулил,
Кто помыслы Ада против тебя в сердце своем копил.
Два моря встретились в этот день – грозный из грозных дней:
С запада – море кипящих волн, с востока – море коней.
Реяли стяги на буйном ветру в руках твоих смельчаков,
И бушевали, слепили глаза волны стальных клинков.
Как диких верблюдов строптивый нрав – упрямство вражьих сердец,
Но самый лучший погонщик – меч, и ты их смирил наконец.
Сорвал ты одежды безумья с них, пресечь заблужденья смог,
В одежду покорности вражий стаи ты твердой рукой облек.
Но не добровольно решили они главенство свое уступить,
И не из любви поспешили они любовь к тебе изъявить,
И, не тщеславье свое обуздав, склонились они, сдались,
Не ради счастья тебе служить в покорности поклялись,-
Лишь страх пред тобою остановил их дерзостные мечи,
Он бурею стал – и рассеял их, как облако саранчи.
Раньше, чем смерть сокрушила врагов, ты страхом их сокрушил,
И раньше, чем их Воскресенье пришло, ты их воскресить решил.
Ты в ножны вложил беспощадный меч, расправы не учинил,
Смирились они, а не то бы врагов ты стер, как следы чернил.
Ведь самый грозный, но быстрый гнев, как бы он ни был силен
Будет наследственной добротой и мудростью побежден.
Но пусть не сумеют тебя обольстить их дружеские языки,-
Послушные вражеским, злым сердцам, от правды они далеки
Будь словно смерть,– не станет она плачущего щадить,
Когда к человеку решит прийти жажду свою утолить.
Рубец не срастется, если под ним здоровой основы нет,
И рана откроется все равно, пусть через много лет.
Ведь даже из самых твердых камней недолго воде потечь,
И даже из самых холодных кремней нетрудно огонь извлечь.
Трусливого недруга сон ночной навряд ли будет глубок,
Если охапку колючих ветвей подстелешь ему под бок.
Во сне он увидит в почках своих копья твоего острие,
И как не страшиться ему наяву увидеть твое копье!
Спросил ты, Абу-ль-Хусейн: а зачем я славил владык других?
Ведь даже припасов я не получил, когда уезжал от них.
Они-то думали, что про них хвалебную речь веду,
Но знай: воспевая достоинства их, тебя я имел в виду.
Твой стан послезавтра покину я – скитальца дорога ждет,
Но сердце мое от шатра твоего теперь далеко не уйдет.
Останусь влюбленным верным твоим, скитаясь в чужой дали,
Останусь счастливым гостем твоим в любом из краев земли.
* * *
О помыслах великих душ могу ли не скорбеть я?
Последнее, что помнит их,– ушедшие столетья.
Ведь люди при царях живут,– пока стоят у власти
Лишь инородцы да рабы, не знать арабам счастья.
Ни добродетелей у них, ни чести, ни познаний,
Ни верности, ни доброты, ни твердых обещаний.
В любом краю, где ни шагну, одно и то же встречу:
Везде пасет презренный раб отару человечью.
Давно ль о край его ногтей писец точил бы перья,
А ныне он на лучший шелк глядит с высокомерьем.
Я на завистников смотрю, как на ничтожных тварей,
Но признаю, что я для них подобен грозной каре.
Как не завидовать тому, кто высится горою
Над человеческой толпой, над каждой головою!
Вернейший из его друзей пред ним благоговеет,
Храбрейший, видя меч его, сражаться не посмеет.
Пускай завистливой молвы ничем не остановишь,
Я – человек, и честь моя – дороже всех сокровищ.
Богатство для скупых – беда. Не зрит их разум слабый!
Таких скорбей и нищета в их дом не принесла бы!
Ведь не богатство служит им, они богатству служат,
И время рану исцелит, а подлость – обнаружит.
* * *
Гордиться по праву может лишь тот, кого не сгибает гнет,
Или же тот, кто, не ведая сна, с гнетом борьбу ведет.
То не решимость, если в душе нет силы на смелый шаг,
То не раздумье, если ему путь преграждает мрак.
Жить в униженье, покорно глядеть в лицо источнику зла -
Вот пища, что изнуряет дух и иссушает тела.
Низок смирившийся с этой судьбой, подл, кто завидует ей,
В жизни бывает такая жизнь, что смерти любой страшней.
Благоразумием прикрывать бессилье и страх души -
Такие уловки только для тех, в ком чести нет, хороши.
Низких людей и унизить легко, сердцам их неведом стыд,-
Мертвому телу уже ничто боли не причинит.
Нет, не под силу нынешним дням стать не под силу мне,
Каждый меня благородным сочтет, кто сам благороден вполне.
Так величава моя душа, что я – под ее стопой,
Подняться же до моей стопы не в силах весь род людской.
Стану ли, друг, наслаждаться я на груде горящих углей,
Стану ли, друг, домогаться я цепей для души моей -
Вместо того, чтобы блеском мечей рассеять угрюмый мрак,
Воспламенить и Хиджаз и Неджд, всю Сирию, весь Ирак!
* * *
То воля Рахмана: владеть и господствовать буду,
Но где ни явлюсь я – завистников слышу повсюду.
Как смеют себя курейшитами звать святотатцы -
Могли б и евреями и христианами зваться!
И как они только из пыли ничтожной возникли?
Как власти добились и цели далекой достигли?
Когда же появится тот, кто рассудит по чести:
Насытит мякиною их, отберет их поместья,
Кто в грозном огне их рога переплавит в оковы
И ноги скует,– чтоб уже не возвысились снова?
Вы лжете! Давно ль вы Аббасу потомками стали?
Ведь помнится, люди еще обезьян не рождали.
Ужель никому не поверим – ни бесам, ни людям,
А верить лишь вашим обманам и россказням будем?
Мой слух оскорблен Абу-ль-Фадля постыдною речью -
Презренному недругу этой касыдой отвечу.
Хотя он ни гнева, ни даже насмешки не стоит,
Но вижу, что разум ничтожного не успокоит.
* * *
Кто всех превосходит, в того наш век безжалостно мечет стрелы,
А мыслей лишенный – лишен и забот,– такие останутся целы.
Увы, мы в такое время живем, что всех уравнять бы хотело,
И пагубней это для гордой души, чем злейший недуг для тела.
Я в нынешней жалкой породе людей горько разочарован,-
Нe спрашивай «кто?», узнавая о них: ведь разум им не дарован.
Нет края, куда я приехать бы мог, опасности не подвергаясь:
Повсюду от злобы кипят сердца, везде на вражду натыкаюсь.
Сегодня любой из властителей их, каких я немало видел,
Достойней удара по голове, чем богомерзкий идол.
Но многое я соглашусь простить, за что их ругал, а в придачу
Себя принужден я ругать за то, что время на ругань трачу.
Ведь тонкие знания для дурака, погрязшего в чревоугодье,
Как для безголового ишака – узорчатые поводья.
Бывал я и с теми, что к скудной земле пригвождены нуждою,-
Обуты они только в липкую грязь, одеты в тряпье гнилое.
Бывал с разорителями пустынь,– они голодны и нищи,
Готовы и яйца ящериц есть, считая их лакомой пищей.
Украдкою выведать, кто я такой, немало людей хотело,
Но правду скрывал я, чтоб мимо меня стрела подозренья летела.
Не раз и глупцом притворялся я, в беседу с глупцами вступая,
А иначе мне бы наградой была лишь злоба да брань тупая.
Коверкал слова, чтоб они не смогли мой род опознать при встрече,
Хоть было и невмоготу сносить их грубое просторечье.
Любую невзгоду способны смягчить терпенье и неустрашимость,
А грубых поступков следы стереть сумеет моя решимость.
Спасется, кто смело навстречу идет опасностям и потерям,
Погибнет, кто силы свои связал трусостью и маловерьем.
Богатство одежды не тешит тех, чью душу поработили,-
Красивому савану рад ли мертвец в темной своей могиле?
Как велико и прекрасно то, чего домогаюсь страстно! -
Судьбу за медлительность я кляну – ждать не хочу напрасно.
Хоть кое-кого и восславил я, хоть я и спокоен с виду,
Но время придет – я еще им сложу из грозных коней касыду.
Разящие рифмы в пыли загремят, обученные сражаться,-
От этих стихов головам врагов на шеях не удержаться!
B бою я укрытий не признаю – бросаюсь в гущу сраженья,
Меня к примирению не склонят обманы и оболыценья.
Свой лагерь в пустыне расположу, под зноем степных полудней,
И будет усобица все страшней, а ярость – все безрассудней.
По предков святые заветы живут! И счастлив я, не лицемеря,
Судье аль-Хасиби хвалу воздать за верность Закону и Вере.
Храня добродетели, над страной простерлась его опека,
Огец для сирот он, источник добра для каждого человека.
Премудрый судья, если спутать в одно два самых неясных дела,
Способен – как воду и молоко – их разделить умело.
Как юноша, свеж он, заря далека его многодумной ночи,
Он долго дремать не дает глазам, разврата и знать не хочет.
Он пьет, чтобы жажду слегка утолить, но чтоб не разбухло тело,
А ест, чтобы силы в нем поддержать, по лишь бы оно не толстело.
Открыто ли, тайно ли – правду одну искренне говорящий,
И даже порой ради правды святой себе самому вредящий,
Смелей, чем любые из древних судей, свой приговор выносящий,
Глупца защищающий от хитреца – таков ты, судья настоящий!
Деянья твои – родословье твое. Когда б о прославленном предке
Ты нам не сказал: «Аль-Хасиби – мой дед»,– узнали б мы корень по ветке.
Ты – туча огромная, льющая дождь, и сын ты огромной тучи,
И внук ты, и правнук огромных туч,– таков этот род могучий.
Поводья великих наук держа, начала времен с концами
Впервые связали твои отцы,– гордись же такими отцами!
Как будто задолго они родились до дня своего рожденья,
А их разуменье раньше пришло, чем может прийти разуменье.
Когда ж горделиво против врагов шли они в час тревожный,
Деяния добрые были для них крепких щитов надежней!
О наш аль-Хасиби, при виде тебя и женщины и мужчины
Сияют от радости и на лбах разглаживаются морщины.
А щедрость твоя! Словно весь народ, что жил и бедно и угрюмо,
Из рук твоих черпает ныне дары от Йемена и до Рума.
В тебе все достоинства тучи есть – нет лишь потоков грязных,
В тебе все могущества моря есть – нет лишь ветров ненастных.
В тебе и величье и сила льва – нет только мерзкой злобы,
В тебе не найдем мы только того, что запятпать могло бы.
С тех пор как вступил в Антиохию ты, мир и покой воцарились,
Как будто, забыв о жестокой вражде, кровинки помирились.
С тех пор как по этим холмам ты прошел, не видно на склонах растений,
Так часто стал благодарный люд, молясь, преклонять колени.
Товары исчезли, базары пусты, не стало былых ремесел,-
Твоими дарами кормясь, народ торговлю и труд забросил.
Но щедрость твоя – это щедрость тех, кто жизни превратность знает,
Воздержанность тех, кто земную юдоль отчизной своей не считает.
Не помнит такого величия мир, не помнит подобных деяний,
Да и красноречья такого нет средь всех людских дарований.
Так шествуй и правь! Почитают тебя! Ты словно гора – громаден.
Аллах да воздаст по заслугам тебе, блистающий духом Хадын!
* * *
Я с конницей вражьей, чей вождь – Судьба, упорно веду сраженье
Один,– но нет, я не так сказал: со мною – мое терпенье.
Я грозен и смел, но бесстрашней меня моя же неуязвимость,
Упрямей и тверже день ото дня сокрытая в ней решимость.
С невзгодами так расправляюсь я, что, брошены мной во прахе,
Они вопрошают: то смерть умерла иль страх отступает в страхе?
Бурливым потоком бросаюсь в бой, как будто две жизни имею
Иль знаю, что жизнь у меня одна, но люто враждую с нею.
Душе своей развернуться дай, пока еще не улетела,-
Недолго соседями в доме одном будут душа и тело.
Не думай, что слава – лишь мех с вином, веселый пир да певичка,
Слава – клинок, невиданный бой, с врагом смертельная стычка.
Слава – властителям шеи рубить, чтобы тяжелой тучей
Вставала до неба черпая пыль за ратью твоей могучей,
Чтоб в мире оставил ты гул такой, катящийся над степями,
Как если бы уши зажал человек обеими пятернями.
Когда превосходства не бережешь, дары у ничтожных просить,
Тогда превосходство тому отдаешь, кому благодарность приносишь.
А тот, что годами копил и копил, стараясь собрать состоянье,
Подобен тому, кто себе самому всю жизнь давал подаянье.
Для всех притеснителей быстрый, лихой копь у меня найдется -
С горящей ненавистью в груди витязь на нем несется.
И там, где вина не захочется им, без жалости и прощенья
Он чашу им даст на конце копья – смертельную чашу мщенья.
О, сколько гор, перейденных мной, горою меня признали,
И сколько вод, переплытых мной, морем меня назвали.
И сколько бескрайних равнин я прошел,– перечислять не буду,-
Где были холмы подобны седлу, а голая степь – верблюду.
И чудилось часто, что с нами в путь отправились степи и горы,
Что мы на поверхности шара – и вдаль уходят от нас просторы.
О, сколько раз мы палящий день с ночью соединяли:
В багряных одеждах – закатных лучах были степные дали.
И сколько раз мы густую ночь с рассветом соединяли:
В зеленых одеждах был край земли – в утреннем покрывале.
* * *
Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он – радость для смельчака.
Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки.
А если захочешь ты распознать его настоящий цвет,
Волна переливов обманет глаза, как будто смеясь в ответ.
Oн тонок и длинен, изящен и строг, он – гордость моих очей,
Он светится радугой, он блестит, струящийся, как ручей,
В воде закалились его края и стали алмазно тверды,
Но стойкой была середина меча – воздерживалась от воды.
Ремень, что его с той поры носил, истерся – пора чинить,
Но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить.
Так быстро он рубит, что ие запятнать его закаленную гладь,
Как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать.
О ты, вкруг меня разгоняющий тьму, опора моя в бою,
Услада моя, мой весенний сад,– тебе я хвалу пою.
О йеменский мой, ты так дорог мне, что, если б я только мог,
Надежными ножнами для тебя сделал бы свой зрачок.
Мой яростный блеск, когда ты блестишь, это – мои дела,
Мой радостный звон, когда ты звенишь, это – моя хвала.
Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове тебя, чтоб рубить шеи и пояса.
Живой, я живые тела крушу, стальной, ты крушишь металл,
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал.
Когда после скачки молнией ты в Неджде начнешь блистать,
Народы живительного дождя будут в Хиджазе ждать.
* * *
Когда ты рискуешь жизнью своей ради желанной чести,
Ничем довольствоваться не смей, что было бы ниже созвездий.
Пойми: ради малого ты умрешь иль ради великого дела -
Рано иль поздно смерть все равно пожрет это бренное тело.
Будут рыдать о моем коне, о резвом моем жеребенке
Мечи боевые, чьи слезы – кровь, а лезвия злы и тонки.
Окрепли в пламени их клинки из заповедной стали:
Как девы – в роскоши, так в огне красой они заблистали.
Они безупречными вышли из рук своих мастеров неустанных,
А руки умельцев, что создали их, были в порезах, в ранах.
Считает трус, что бессилье его и есть настоящий разум,
Но эту уловку бесчестной души честный увидит сразу.
Прекрасно бесстрашие, если им могучий боец украшен,
Но ничего прекраснее нет, если мудрец бесстрашен.
Много таких, кто на здравую речь яростно возражает:
Непониманье – их вечный недуг – любую мысль искажает.
Однако разумный, в чьи уши войдут ошибочные сужденья,
В меру ума и познании своих увидит их заблужденья.
* * *
Оплакиваем мертвых мы: нет, не по доброй воле
Мир покидает человек, не ради лучшей доли.
И если поразмыслишь ты над своевольем рока,
Поймешь, что вид убийства – смерть, но более жестока.
Любовь красавицы сулит одно лишь униженье,
Дитя родное нам дает всего лишь утешенье.
Отцовства сладость я познал и сам во дни былые,-
И все, что говорю, поверь, постиг я не впервые.
Не смогут времена вместить все, что про них я знаю,
И чтобы это записать, жизнь коротка земная.
Да, слишком много у судьбы и лжи и вероломства,
Чтоб ей надежды доверять и чтоб желать потомства.
* * *
В начале касыды любовный запев считают у нас законом,-
Ужели любой, кто слагает стихи, обязан быть и влюбленным?
Но Иби Абдаллах достоин любви, ему – мое восхищенье,
Для всех славословий имя его – начало и завершенье.
Красавиц поклонником был и я, пока не узрел величья,-
И как они мелки в сравненье с ним, впервые сумел постичь я.
Судьбу встречает лицом к лицу прославленный Меч Державы,
Бесстрашно пронзает ей грудь клинком и рубит ее суставы.
Даже над солнцем в зените власть имеет его повеленье,
И даже восхода полной луны прекрасней его появленье.
Враги, словно ставленники его, в своих владениях правят:
Захочет – позволит он ими владеть, захочет – отдать заставит.
Нет у него посланий иных, кроме клинков закаленных,
И нет у него посланцев иных, кроме отрядов конных.
Любой, чья рука способна рубить, его снисхожденья просит,
Любой, чьи уста способны хвалить, ему благодарность приносит.
Без имени этого нет речей ни с одного минбара,
Как нет и дирхема ни одного и ни одного динара.
Он рубит и там, где стало тесно между двумя клинками,
Он видит и там, где стало темно между двумя смельчаками.
С летучими звездами в быстроте поспорят в часы ночные
Бегучие звезды – его скакуны, чалые и вороные.
Они ступаю тупо трупам тех, кого не носили в седлах:
По грудам врагов, по обломкам пик – остаткам от полчищ подлых.
С волками бегут по степям они, плывут по волнам с китами,
С газелями прячутся в рощах они, парят над горой с орлами.
Если иной, чтоб украсить себя, копье покупает на рынке,
То наш властелин – чтоб его сломать о грудь коня в поединке.
Звездой благородства отмечен лоб, высокий и величавый,
Всегда: в дни мира, войны, молитв, раздумья, веселья, славы.
Предскажет удачу ему и тот, кто не изучал звездочетства,
И даже не любящие его признают за ним превосходство.
Спасти от времени и судьбы лишь ты, наш защитник, в силах,
И думаю, станут Ад и Джурхум просить, чтобы ты воскресил их.
Будь проклят этот ненастный вихрь,– с чего он сюда явился?
Будь славен доблестный наш поток, куда бы он ни стремился!
Решив помешать нам, сперва о тебе спросили бы ливень и ветер,-
Тогда бы достойно о нашем вожде зазубренный меч ответил.
Не ведало облако, встретив тебя буйным дождем и ветром,
Что встретилось с облаком славным оно – более грозным и щедрым.
Дождем оросило одежду оно, что кровью не раз орошалась,
Коснулось лица, которого сталь в сраженьях не раз касалась.
Оно от Алеппо шло за тобой, как ученик послушный,
Чтоб истинной щедрости у тебя учиться, великодушный.
Могилу, что с конницей ты посетил, в тот день и оно посетило,
И горе, что ты глубоко ощутил, в тот день и его охватило.
Ты войско выстроить приказал,– и вот оно ждет, волнуясь,
На всадника с прядью из-под чалмы – вождя своего – любуясь.
Как волны морские, бурлят ряды пеших бойцов, а сзади
Вздымается конный сплоченный строй, подобно горной громаде.
А двинется войско – волнистую степь оно под собой расправит,
Холмы, разбросанные вокруг, стройной грядой расставит.
И каждый шрам на лбу храбреца подобен отчетливой строчке:
Мечом начертаны письмена, копьем поставлены точки.
Простер из-под мощной кольчуги лев две лапы – руки громадных,
А из-под шлема – как две змеи – сверканье глаз беспощадных.
Прекрасны у конницы скакуны, по и остальное не хуже:
Знамена и кличи, доспехи ее, отравленное оружье.
Так в долгих боях обучилась она, что, перед строем стоя,
Подашь ей знак с одного крыла – поймет и крыло другое.
Как будто наитие ведомо ей: не нужно ни зова, ни крика -
Мгновенно, без слов понимает она, что хочет ее владыка.
Мы справа оставили Майафаркин, услышав твое приказанье,
Но можно подумать: щадим его из жалости и состраданья.
А если б решили на город налечь громадой своей тяжеленной,
Узналось бы сразу, с какой стороны слабей городские стены.
Что ни наездник – поджарый храбрец верхом на поджарой кобыле,
Такой поджарой, как будто ее лишь кровью да мясом кормили.
Приказано всем перед боем надеть одежду из крепкой стали:
Не только воины – каждый конь в кольчуге и покрывале.
И это – не потому, что жизнь отдать они копьям скупятся,
А лишь потому, что от всякого зла разумней злом защищаться.
Напрасно считают, что одного с тобою происхожденья
Клинки индийских белых мечей,– нет большего заблужденья!
Когда произносим мы имя твое – надежное из надежных -
Чудится нам, что от гордых чувств клинки улыбаются в ножнах.
Мечом ты зовешься,– а кто из владык готов называться предметом,
Чье место – ниже его главы? Ты горд, но и мудр при этом.
Всю жизнь – любое мгновенье ее – ты против врагов обращаешь,
По воле своей наделяешь ты, по воле своей – лишаешь.
И если страшимся мы смерть принять, то лишь от твоей погони,
И если гордимся мы дар принять, то лишь из твоей ладони.
* * *
Благоуханье этих дней теперь надолго сохранится,
Пожар, пожравший стан врагов, для нас в куренья превратится.
Пусть будут девственницы спать отныне мирно и спокойно,
И пусть паломников в пути не ждут ни грабежи, ни войны.
И где бы ни были враги, пусть помнят о твоем величье,-
В твоих когтях, о грозный лев, им стать беспомощною дичью.
Я видел в час, когда войска построились перед сраженьем:
Ты был и без меча в руке спокойной силы воплощеньем.
Лик моря издали узнать нетрудно даже в час покоя,-
Так как же не узнать его, когда бушует вал прибоя!
В краю, который так велик, что и на лучшем иноходце
Его не пробуй пересечь – промежность о седло порвется,
Ты хочешь румского царя лишить и жизни и державы,
А будут защищать его одни мужицкие оравы.
Ужель смертельною борьбой нас испугают христиане?
Мы – звезды небывалых битв, они – лишь тусклое мерцанье.
Средь нас – непобедимый Меч! Не зря он носит это имя:
В походе он упорней всех, а в битве – всех неукротимей.
Мы просим небеса сберечь его от сглаза и раненья,
Слились в один немолчный гул людей бесчисленных моленья.
Услышав грозный приговор, что вынесли мечи и пики,
Решится ль выйти румский царь навстречу нашему владыке?
Решится,– близ Саманду мы сразимся с войском нечестивым,
А не решится,– встречу с ним устроим мы перед Проливом.
* * *
Увы, потеплело сердце твое ко многим сердцам холодным,
К тем, чей недуг – в здоровье моем, к завистливым, неблагородным.
Зачем же любовь и тоску скрывать, что тело мое иссушают,
Если к владыке свою любовь народы провозглашают?
Мы этой любовью объединены и ждем, как благодеянья,
Что каждый в меру своей любви получит и воздаянье.
К тебе я прибыл, когда мечи индийские были в ножнах,
Взирал на тебя, когда их клинки купались в крови безбожных.
Я видел: ты – лучшее на земле из божьих творений славных,
А лучшее в лучшем – твой мудрый дух, себе не имеющий равных.
Ты в бой устремился, и бегство врагов победу твою означало,
Но все-таки тем, что враги ушли, ты был огорчен сначала.
Удары твои заменил им страх пред силой твоей геройской,
И то, что над ними страх совершил, не совершит и войско.
Нo ты почитаешь долгом своим то, что другим не под силу:
Нe скрыться врагам ни в степи, ни в горах,– ты им уготовил могилу.
Ужель всякий раз, налетев на врагов, в постыдный бег обратив их,
Твой дух устремляет в погоню тебя за полчищем нечестивых?
Тебе – наносить пораженье врагам в каждой смертельной схватке,
А им – принимать жестокий позор, бежать от тебя в беспорядке.
Но ведь для тебя в походе любом победа сладка тогда лишь,
Когда остриями своих клинков ты кудри врагов ужалишь.
О справедливейший,– кроме меня, ко всем на земле справедливый! -
Наш спор – о тебе: ты ответчик в нем, но и судья правдивый.
На нас прозорливый взгляд устремить прошу своего эмира,
Чтоб ложь от истины отличить, зловредный отек – от жира.
Зачем человеку даны глаза? Не сам ли себя он обманет,
Если и к свету и к темноте он безучастным станет?
Я – тот, чьи творенья стали видны даже лишенным зренья,
Тот, чьи слова пробудили слух даже в глухих от рожденья.
Легко чудеса этих слов я творю, о них ничуть не заботясь,
А люди хватают их, спорят, бегут, за каждой строкой охотясь.
Невежда в неведенье будет сперва, усмешке моей поверя,
Пока не почувствует лапы и пасть неумолимого зверя.
Увидев львиных клыков оскал, не думай, что видишь улыбку,
Иначе поплатишься головой за гибельную ошибку.
Решившие жизнь у меня отнять скорее погибнут сами,-
На верном коне в безопасности я, словно в священном храме.
Любых врагов на таком коне смогу всегда побороть я,
Он сделает все, что прикажут ему мои стремена и поводья.
Передние ноги его в прыжке на ногу одну похожи,
И задние ноги его на лету в одну сливаются тоже.
Не раз я скакал с боевым мечом между двумя войсками -
Там, где сшибаются волны смертей, где ярость звенит клинками.
Не раз я скитался с диким зверьем в степях, где не встретишь селенья,
А взгорья и скалы, дивясь на меня, молчали от изумленья.
Ночь, конница, степи знают меня, знают и честь и отвага,
Знают удары копья и меча, и мой калам, и бумага.
О тот, с кем разлука так тяжела! Все, что дано нам судьбою,
Сразу утратит и цену и смысл после разлуки с тобою.
Никто бы, наверное, больше, чем мы, не был тобой почитаем,
Когда бы ты те же чувства питал, какие к тебе питаем!
Но если завистников злобный крик стал для тебя приятным,
Раны, которые ты нанесешь, боли не причинят нам.
Меж нами – о, если б ты это ценил! – знакомства давние узы,
А ведь знакомство для тех, кто мудр, прочней, чем иные союзы.
Напрасно пороки во мне искать – старания эти излишни,
Того, что творишь ты, не смогут принять ни честь твоя, ни всевышний.
Любой порок и любой обман чужды моему благородству,
Я чист, как Плеяды,– а звезд не достичь ни старости, ни уродству.
О, если бы туча, что жизнь мою лишь молниями поражает,
На тех эти молнии перенесла, кого дождем орошает!
Вижу: такая далекая даль к себе мою душу тянет,
Что, много дней добираясь к ней, и лучший верблюд устанет.
Когда мы оставим справа Думейр и выедем на равнину,
Быть может, и затоскует тот, кого навсегда покину.
Когда оставляешь тех, кто бы мог предотвратить расставанье,
Словно не ты уезжаешь от них, а их отправляешь в скитанье.
О, нет страшнее такой страны, где друга душа не знает,
И нет страшнее такой казны, что чистую честь пятнает.
А самое гнусное, что я обрел, что хуже любого урона,-
Добыча, которую вместе с орлом будет клевать и ворона.
Как может стихи слагать этот сброд, что возле тебя пасется!
Глядишь – не поймешь, кто такие они: арабы иль инородцы?
Пусть горьким покажется мой укор, но это любовь упрекает,
Блестит жемчугами его узор, но это слова сверкают.
* * *
Нам смолоду радости жизни даны, и сладость их слишком желанна,
Не могут наскучить они – и всегда кончаются слишком нежданно.
А если согбенный старик и кряхтит, и жалуется то и дело,
Поверьте, не жизнь надоела ему, а дряхлость уже надоела.
Здоровье и юность – орудья твои, по недолговечно их чудо,-
Когда же от нас отвернутся они, нам сразу приходится худо.
Расщедрится жизнь, а потом отберет, что было подарено ею,-
О, если б подобная щедрость ее была хоть немного скупее!
О, если бы не были слезы и скорбь ушедшего счастья наследьем,
А друг, уходя, не бросал бы тебя с отчаяньем – другом последним!
Возлюбленна жизнь, но и лжива и зла: напрасны любые моленья-
Не сдержит своих обещаний она и не завершит единенья.
Пусть все наши горести – из-за нее, но с нею страшимся разлуки:
Уходит она, лишь с трудом разорвав ее обхватившие руки.
Подобна лукавой красавице жизнь, ее вероломна природа,
Не зря ей, наверное, имя дано, как женщине,– женского рода.
* * *
Тебе потому лишь являю довольство, что скрытое скрыть хочу,
А как я тобой и собой недоволен – об этом пока молчу.
Такая мерзость, бесчестье, лживость впервые предстали мне!
Живым человеком ты мне явился иль чудишься в страшном сне?
Решил ты при виде моих улыбок, что полон я новых надежд,
А я лишь смеюсь над былой надеждой, презреннейший из невежд.
В своем тупоумье ты даже не знаешь, и сам-то на что похож:
Не знаешь, по-прежнему ли ты черен иль вправду стал белокож.
Забавно мне стало, когда я поближе ступни твои разглядел:
Увидел я вместо ступней копыта, когда ты босой сидел.
Раздвоены пятки твои – похожи на пару ослиных копыт,
К тому же сверкаешь ты весь – как маслом, потом густым покрыт.
Когда б не толпа твоих приближенных, я вместо пустых похвал
Стихами, кипящими скрытой насмешкой, хвалу бы тебе воздал.
Напрасно ты радовался, безмозглый, что славлю тебя при всех,-
Ведь даже в прочитанных мною строчках таился жестокий смех.
В то время, как ты никакого блага от слов моих не имел,
Я рад, что хоть губы твои верблюжьи как следует рассмотрел.
Таких, как ты, из краев заморских надо бы доставлять,
Чтоб успокаивать плачущих женщин – диковиной забавлять!
* * *
В чем утешенье мне найти? Ведь нет ни родины, ни дома,
Ни чаши на пиру друзей, с кем много лет душа знакома.
От века нашего хочу,– пока мой век еще не прожит,-
Чтоб он туда меня вознес, куда подняться сам не сможет.
Не будь рабом пустых забот, встречай судьбу легко и смело,
Пока с душой в пути земном еще не разлучилось тело.
Ведь радость не продлит того, чем счастлив ты бывал когда-то,
Как и печаль не воскресит поры, ушедшей без возврата.
Незнанье жизни – вот беда для всех, кто смолоду полюбит:
Их, не познавших этот мир, своею ложью он погубит.
От слез тускнеют их глаза, по в заблуждении великом
Они за мерзостью бегут, прельстясь ее лукавым ликом.
Ступайте, убирайтесь прочь – не на коне, так на верблюде,
Разлука с вами – мой приют, меня измучившие люди.
Я в ваших паланкинах был,– вы мне тогда не знали цену,
Когда же от тоски умру, найти не сможете замену.
О тот, чей слух был поражен моей безвременной кончиной,-
Конечно, каждый должен стать известья скорбного причиной,
Уже не раз я был убит,– так разгласить молва спешила,-
Но вновь вставал я, и куда девались саван и могила?
Пусть этих мнимых похорон бывали даже очевидцы,-
Еще меня не схоронив, пришлось им с жизнью распроститься.
Нет, не всего достичь дано, чего желаем безрассудно:
Как часто ветр приносит то, чего совсем не хочет судно!
Увидел я, что близ тебя честнейший честь свою погубит:
Недобры пастбища твои – хорошим молоко не будет.
Тому, кого приблизил ты, одна награда – злость и скука,
Тому, кто полюбил тебя, один удел – беда и мука.
Ты гневаешься на того, кто твой подарок принимает,
И он то похвалам твоим, то оскорблениям внимает, к
Разлука разделила нас пустыней дикой и безлюдной,
Где лгут и зрение и слух, где лучшим из верблюдов трудно.
Шагая через эту степь, их ноги будут в кровь избиты,
И взмолятся суставы их, чтоб зря не мучились копыта.
Благоразумье признаю, когда в нем гордость и правдивость,
Благоразумья не хочу, когда в нем прячется трусливость.
Не стану жить на деньги тех, чья длань скупа и неопрятна,
Не стану наслаждаться тем, что на душе оставит пятна.
Сперва ночами я не спал – так тосковал с тобой в разлуке,
Потом спокойней, тверже стал,– вернулся сон, утихли муки.
Но если от любви к тебе едва я не погиб сначала,
Решенье край покинуть твой мою решимость означало.
Уж все попоны конь сносил с тех пор, как нас Фустат приветил,
Не раз и сбрую он сменил с тех пор, как нас владыка встретил.
Великодушный Абу-ль-Миск, кому мы честно присягнули
И в чьих щедротах весь Йемен и Красный Мудар потонули,-
Хоть он сдержал еще не все из благосклонных обещаний,
Но не сдержать моих надежд, моих упорных увещаний.
Он – верный, ясно видит он, что не умею лицемерить,
И все же преданность мою желает до конца проверить.
* * *
Шагали люди и до нас дорогой, что зовется – Время,
Лежало тяжко и на них судьбы мучительное бремя.
Они вкушали горечь дней – тревоги, бедствия, печали,
Хотя и радости порой кого-нибудь да посещали.
Какое бы из светлых дел ночь совершить ни захотела,
Хоть чем-нибудь да омрачит она свое благое дело.
Таков наш век,– однако нам, как видно, бедствий не хватает,
И произволу злой судьбы кто как умеет – помогает.
Едва заметим мы, что жизнь взрастила деревце прямое,
К нему сейчас же поспешим приладить острие стальное.
Но ведь желанья наших душ настолько мелки, преходящи,
Что нужно ль, споря из-за них, друг друга истреблять все чаще?
И все ж гордиться мы должны, встречая смерть в пылу сраженья:
Хоть гибель и не весела, зато избегнешь униженья.
Вот если б все до одного бессмертными живые стали,
Того, кто осторожней всех, мы самым смелым бы считали.
Но ведь от смерти не уйти и хватит всем камней могильных,
А потому трусливым быть – удел лишь подлых да бессильных.
Душа не дрогнет перед тем, что ей не раз уже встречалось,-
Пугает душу только то, чего ни разу не случалось.
* * *
Напрасно того упрекаете вы, кто выше любого упрека:
Его деянья – превыше слов, а слово – верней зарока.
Оставьте в пустыне меня одного на месте былого привала,
Оставьте в полдень мое лицо без всякого покрывала,-
Любая невзгода мне принесет не муку – отдохновенье,
В пути повстречать людское жилье – вот для меня мученье!
Верблюдиц измученных скорбный взгляд – мой взгляд, когда сомневаюсь,
Верблюдиц израненных тихий плач – мой плач, когда я терзаюсь.
Я сам источник иду искать, и мне провожатых не надо -
Достаточно молний мне в облаках да прозорливого взгляда.
Мой бог и мой меч – защита моя, что крепче любого гранита,
Если единственному нужна какая-нибудь защита.
Когда же запас мой дорожный скудней, чем мозг у страуса, станет,
То и тогда под кровлю скупца никто меня не заманит.
Но если привязанность между людьми стала привычной ложью,
Тогда на улыбку и я готов улыбкой ответить тоже.
Стал сомневаться я даже в тех, с кем дружен был эти годы:
Ведь даже лучшие – тоже часть подлой людской породы.
Разумные ценят отвагу и честь, искренность и безгрешность,
Невежды ценят не суть людей, а лишь показную внешность.
Я даже родного брата готов тварью считать негодной,
Если души не увижу в нем отважной и благородной.
Величием предков горжусь и я, своим благородством известных,
Хоть ныне и попрана слава отцов делами сынов бесчестных.
Но не соглашусь, чтобы доблесть моя,– как это бывает нередко,-
Была приписана лишь тому, что внук я достойного предка.
Дивлюсь я на тех, чьи мечи крепки, чья кровь не остыла в жилах,
А сами, подобно тупым клинкам, цель поразить не в силах.
Дивлюсь и на тех, кто, вступить решив на путь великих деяний,
Коней и верблюдов не гонит в поход, не рвется на поле брани.
Постыдней на свете нет ничего бессилья и неуменья
Достойное дело свое довести до полного завершенья.
Спокойно в Египте живу – на жизнь взираю, как посторонний:
Давно ни за кем в погоню не мчусь, нет и за мной погони.
И только с болезнью из года в год встречаться мне надоело:
Постель проклинают мои бока, вконец истомилось тело.
Как мало друзей навещает меня, как сердце болит жестоко,
Повсюду завистники, труден путь, и цель еще так далеко.
Все тело ноет, нет силы встать, не пил я, а будто пьяный,
И каждый вечер с тоскою жду гостьи моей незваной.
А посетительница моя – постылая лихорадка -
Словно стыдится: лишь по ночам приходит ко мне украдкой.
Кладу ей подушки, стелю ей постель, боясь ее ласк докучных,
Но хочет она лишь со мной ночевать – в костях моих злополучных.
Но трудно в коже моей вдвоем вмещаться нам поневоле:
Все тело мое распирает она десятками разных болей.
Когда ж расстаемся, в густом поту лежу я без сил, без движенья,
Как будто мы с ней предавались греху до полного изнеможенья.
И кажется: утренние лучи ее прогоняют насильно,-
Слезы ее в четыре ручья текут и текут обильно.
Конечно, влечения страстного к ней не чувствую никакого,
Но как истомленный любовник, жду: придет ли под вечер снова?
Верна обещанью, приходит она,– но нет ничего страшнее
Подобной верности: всякий раз мученья приходят с нею.
О дочь судьбины! Вокруг меня все беды – твои сестрицы,
Так как же смогла ты, болезнь моя, сквозь их толчею пробиться
Ты хочешь израненного добить,– ведь нет у души и тела
Места живого, где меч не рубил и где не вонзались стрелы.
О, если бы знать: этот злой недуг сумею ли побороть я
И сможет ли снова моя рука крепко сжимать поводья?
Смогу ли жажду я утолить давних моих стремлений
На легком танцующем скакуне с уздою в горячей пене?
Быть может, мучительный этот жар развею в дальних походах:
Пусть меч и седло исцелят меня – не этот постылый отдых.
Где б ни теснила меня судьба, я прочь вырывался оттуда,
Как вышибает пробку вино, чтоб вырваться из сосуда.
Вот так покидал я друзей не раз, даже не распростившись,
Вот так оставлял полюбившийся край, даже не поклонившись.
Мой врач говорит: «Ты что-нибудь съел, желудок твой не в порядке,
Как видно, в питье или пище твоей – источник злой лихорадки».
Не в силах понять медицина его, что я – словно конь горячий,
Который от долгой сытной пастьбы станет слабее клячи.
Я – конь, что привык с храбрецами скакать, земли почти не касаясь,
Из облака в облако пыли густой, из битвы в битву бросаясь.
И вот прекратилась бурная жизнь: сняли узду и сбрую,
И конь занедужил лишь оттого, что дни уходят впустую.
Но пусть я от этих мук ослабел – терпенье не ослабело,
И пусть источник сил оскудел – решимость не оскудела.
Я выжить хочу, от недуга спастись, хоть и не спасусь от судьбины,
И если избегну кончины одной, то лишь для другой кончины.
Живи, наслаждайся явью и сном, но только не тешься мечтою,
Что ждет тебя безмятежный сон под пыльной могильной плитою.
Нет, смерть – не бодрствованье, не сон, а третье из состояний,
И смысл его не похож на смысл ни снов твоих, ни деяний.
* * *
Доколе мы будем во мраке ночном со звездами вдаль стремиться?
Ведь нет ни копыт, ни ступней у звезд – легко им по небу катиться.
Наверно, и веки у звезд не болят, бессонница им не знакома,
А путник не спит, ночуя в степи, вдали от родного дома.
Солнце загаром лица чернит моих провожатых смелых,
Но не очернить ни правды моей, ни этих кудрей поседелых.
А ведь одинаково стали б черны и правда наша и лица,
Если бы за справедливостью нам к судьям земным обратиться.
Я не жесток, но верблюдиц бью,– хочу, чтоб они умчали
Тело мое – от жестоких мук, сердце – от злой печали.
Их ноги передние я подгонял задними их ногами,
А из Фустата на быстрых конях погоня спешила за нами.
Неслись меж Аламом и Джаушем мы, летящей стрелы быстрее,
А вражьи кони мчались вослед, как страусы, вытянув шеи.
Гоним верблюдиц мы, за спиной недругов злобных чуя,-
Спорят сейчас удила их коней и наших верблюдов сбруя.
Бесстрашные витязи скачут со мной,– тревогам походов дальних
Рады их души, как игроки – падению стрел гадальных.
А стоит чалмы запыленные снять воинам закаленным -
Дивишься их черным, курчавым чалмам, природою сотворенным.
Блистают белые их клинки: сражают, кого ни встречают,
Врагов на верблюдах, врагов на конях в постыдный бег обращают.
Чего никакому копью не достать, копье их достать сумеет,
И все-таки им ие достичь того, что мыслями их владеет.
В бою беспощадны, свирепы они, как во времена Джахилийи,
Но дух, как в Священные Месяцы, чист, безгрешны сердца молодые.
Они обучили копья свои, вовек не владевшие речью,
Вторить пронзительным крикам птиц, клюющих плоть человечью.
Верблюдицы мчатся, их губы белы, их ноги в рубцах кровавых,
Одежды же всадников зелены от скачки в высоких травах.
Стегаем верблюдиц мы, в тяжком пути мучимся с ними вместе -
От свежих источников, сытных трав стремимся к источникам чести.
Но где их найдем? Лишь одна душа нам путь указать могла бы -
Та, по которой мы все скорбим – арабы и не арабы.
Нет в мире другого Абу Шуджи, и не к кому нам стремиться,-
Ему ни один из людей на земле в преемники не годится.
Величье, которому мы средь живых подобья не находили,
Стало подобьем всех мертвецов, покоящихся в могиле.
И вот я в пути – словно друга ищу и словно в утрату не верю,
И мир увеличить уже ничем не сможет мою потерю.
По-прежнему заставляю я верблюдов смеяться сердито
При виде тех, к кому по пути они натрудили копыта.
От идола к идолу путь я держу,– но идол хотя бы безгрешен,
А кто же из идолов этих живых в деяньях дурных не замешан?
Но вот возвращаюсь, и верный калам твердить начинает упрямо:
«Слава мечу, нет славы перу! – слышу я голос калама.-
Сначала, что надо, мечом напиши, а после строчи, что угодно,-
А если ты этого не поймешь, пройдет твоя жизнь бесплодно!»
Ты правду сказало, мое перо, приемлю твое наставленье,
Мечам мы как слуги, и взяться за меч – лишь в этом мое исцеленье.
Тому же, кто верит, что. прав своих и без меча добьется,
На каждый вопрос, «сумел ли достичь?», ответить лишь «нет» придется.
Решил кое-кто, что бессилье меня с властителями сближает,
Ведь близость с великими мира сего всегда подозренья рождает.
Как нам справедливости недостает и как глубоки заблужденья,-
Они разделяют даже людей единого происхожденья!
Уж если и приходить к царям, то не сгибаясь в поклоне -
Врываться к ним с мечом боевым, словно приросшим к ладони.
И пусть он будет нз тех мечей, что смело выносят решенья
И смертельном споре того, кто мстит, с тем, кто страшится мщенья.
Мы их рукояти от власти владык старались сберечь недаром,-
Нe назовешь ни один их удар бесцельным иль подлым ударом.
Взирай без волненья на все, чей вид душе доставляет мученье,
Ведь что бы ни видел твой глаз наяву – не более чем сновиденье.
Нe жалуйся людям на беды свои,– раненых жалкие стоны
Лишь со злорадством будут встречать коршуны и вороны.
С людьми настороженным будь,– скрывай, что душу твою тревожит,
Пусть рот улыбающийся никогда тебя обольстить не сможет.
Исчезла верность,– кругом обман, все обещанья ложны,
Ушла правдивость,– а без нее и клятвы теперь невозможны.
Преславен Создатель души моей! Но как ей считать наслажденьем
То, что любая душа сочтет лишь безысходным мученьем.
Дивится судьба, как я стойко сношу все горести и невзгоды
И как не разрушилось тело мое за эти жестокие годы.
А время идет, иссякает мой срок,– о, если б от зол каждодневных
В другую общину мне уйти – в любую из общин древних!
Пока были молоды времена, радость вкусить успели
Прадеды наши,– а мы пришли, когда времена одряхлели.

* * *
Любому из нас неизбежно придется на тесное ложе лечь,
Где с боку на бок не повернуться и не расправить плеч.
На ложе таком обо всем мы забудем, чем жизнь волновала нас:
Забудем и юности пылкую радость, и смерти тоскливый час.
Мы – дети мертвых. Так почему же боимся мертвыми стать?
И почему неизбежную чашу гнушаемся мы принять?
Зачем, завершая свой путь, скупимся времени мы вернуть
То, что из рук его получили, когда отправлялись в путь?
Из воздуха времени – наши души, из праха времени – плоть.
Безжалостна смерть, и ее в поединке не смог никто побороть.
Когда б хоть на миг подумал влюбленный, какой конец предрешен
Той красоте, что его пленила,– не стал бы влюбляться он!
Вот если бы люди не видели сами, как солнце встает поутру,
Тогда сомневаться еще могли бы, что солнце зайдет ввечеру.
Как умер безвестный пастух, умевший только стеречь овец,
Так и со всей своей медициной умер Гален-мудрец.
Быть может, пастух даже больше прожил, чем многие из мудрецов,
И большего благополучья добиться сумел для своих птенцов.
Любому из смертных предел положен – отважен он или труслив,
Был он при жизни слишком воинствен иль слишком миролюбив.
А жизнь коротка, и заветной цели достичь не сумеет тот,
Чье сердце от страха дрожит при мысли, что смерть его стережет.
* * *
Куда спешишь ты, о великий князь?
Ты – грозный ливень, мы – сухие травы.
Как женщину, тебя хранит судьба.
Приблизиться к тебе никто не вправе.
Ты ж рвешься ввысь, в миру и на войне
Охвачен жаждой почестей и славы.
О, если б мог я стать твоим конем
Иль, как шатер, укрыть тебя в дубраве!
Перед тобой широкая стезя
Для громких дел и славных испытаний.
Великий духом жертвует собой
На поприще возвышенных исканий.
Привык я ждать, но там, где нет тебя,
Невыносима горечь ожиданий.
Даруй мне жизнь – немилость зла, как смерть.
Даруй мне свет, о солнца яркий пламень!
Приди ж скорей, о тот, чей гордый взгляд
Рождает в войске бурю ликований,
Кто в битве сердцем холоден, как лед,
Как будто смерть нема на поле брани,
Чей меч сметает полчища врагов,
Мешая в кучу кости с черепами.
Пределы, где бывал ты, бережет
Всесильная судьба от поруганий.
Там радость ярким золотом цветет.
Там туча льет вином, а не дождями.
Ты беспределен в подвигах своих,
И в щедрости тебе никто не равен.
Ты в дружбе – умиленье для друзей,
Ты в битве неотступен и всеславен.
Ты князь сердец, надежда для людей,
О Сейф ад-Дауля – меч, рассекший камень.
Могущество твое не одолеть,
Любви к тебе не выразить словами.
* * *
Разве в мире не осталось друга,
Что б помог избавиться от грусти?
Разве в мире не осталось места,
Где живут в согласии и дружбе?
Разве свет и мгла, позор и слава,
Честь и подлость – все смешалось в кучу?
Новая ль болезнь открылась людям?
Старым ли недугом мир измучен?
На земле Египта, где свободный
Одинок и сир, лишен приюта,
Восседает ворон в окруженье
Стаи сов, подмявших стаю уток.
Я читал хвалу ему. Приятно
Называть скопца великим мужем.
Говоря шакалу: «Ты проклятый!» -
Я б обидел собственные уши.
Потому уместны ли упреки?
Там, где слабость, жди напасть любую.
На кого пенять тому, кто молча
Проглотил обиду,– на судьбу ли?