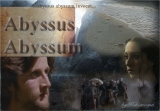
Текст книги "Abyssus abyssum (СИ)"
Автор книги: Кшиарвенн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
– Откуда ты можешь это знать? – почти прорычал Чезаре. – Он делился со мной под большим секретом своими идеями, хотел написать “De Principatibus”, “О княжествах”
– Он назовет его “Государь”(2), – ответила Нати. Она вдруг вспомнила почти дословно лекцию по политологии. – Назовет в честь… и в память вашего высочества.
Рука, стискивавшая ее горло, разжалась.
– В память? В память… И когда это будет? – спросил Чезаре одними губами. И Нати поняла, что имеет он в виду совсем не дату издания “Государя”.
– Не знаю, – честно призналась она. – Мы не изучали историю настолько подробно, чтобы заучивать даты таких… – она спохватилась, что это прозвучит грубо и пренебрежительно, – даты таких далеких времен.
– Далеких времен? – усмехнулся Чезаре. Он отпустил ее и, как ни в чем не бывало, улегся на кушетку, вытянув ноги и закинув руки за голову. – И когда же ты все это изучала?
– В тысяча девятьсот шестьдесят третьем году, – пробормотала Нати. Улыбка Чезаре стала шире.
– Стало быть, до времен, когда женщины будут изучать римское право, я все-таки не доживу, – с преувеличенным облегчением сказал он. – И на том спасибо.
– У нас женщин на курсе… не было. – Наконец она сказал это. И рассказала об еще одной стороне своей раздвоенности. Самой глубокой.
Лицо Чезаре вытянулось, он приподнялся было, и Нати снова испугалась за свою жизнь. Но что-то мешало ей вскочить с кушетки и попытаться спастись бегством. Однако Борджиа снова лег все в той же расслабленной позе.
– Чудны дела твои, Господи, – произнес он. – Так вот отчего ты так жестоко мучала моего бедного Хуанито. Он-то весь извелся от тоски по тебе.
Нати, не зная, как ответить на это, пожала плечами.
– Но скажи, – продолжал допытываться Борджиа, – неужели ты ни разу не испытала какой-то душевной привязанности – хоть к мужчине, хоть к женщине? Или в твоем мире это не принято?
– Нет, почему же… – начала Нати, и умолкла, вспомнив Нативидад Рамирес с антропологического, ту Нативидад, лицо которой теперь было ее лицом. А затем вспомнилась еще одна деталь – та книга, которую Рамирес читала у окна закусочной, в то утро… Эта же книга потом лежала на столе аудитории перед нею. И обложка книги предстала перед Нати как наяву – Рафаэль Сабатини “Жизнь Чезаре Борджиа”.
– Впрочем, это неважно, – Эль Валентино потянулся и снова закрыл глаза. И добавил: – Приятель капитана, которому тот уделил кусочек граната, также занедужил. Но гораздо легче, так что, наверное, выберется.
Свечи в канделябре догорали, три из пяти уже погасли, а оставшиеся потрескивали и вспыхивали, тени от них метались по невысокому потолку. А Хуанито, очевидно, боялся войти.
– “Ищи, кому выгодно”, – повторил Чезаре слова Нати. – Я ранил графского сына. Я с небольшим отрядом вытеснил Бомона из Лерина и разбил потом его войско. У него осталась одна Вьяна. Я отвоевал для короля его королевство. Почти отвоевал. “Кому выгодно”. “Сui prodest”.
Нати молчала, чувствуя, что он и сам знает ответ. Слуга, принесший гранаты, не мог быть простым наемным убийцей с улицы.
– Я хорошо запомнила лицо того, кто принес это блюдо, – робко проговорила Нати.
– Это плохо, – пробормотал Чезаре, не открывая глаз.
Снаружи послышался звук рожка, тихая, нежная мелодия, которой она еще не слышала. Впрочем, Лисенок почти никогда не повторялся. “Сплю-ю-ю, сплю-ю-ю, сплю-ю-ю”, – заунывно раздавалось откуда-то из сада, вплеталось в мелодию, словно стенающая душа, которая обитала в старой части дворца, также покинула свое убежище и вышла послушать голос рожка. И догорающие свечи потрескивали, вторя успокаивающему ласковому напеву.
Чезаре, казалось, уснул. Нати, не решаясь просто встать и выйти, продолжала сидеть на кушетке. А мелодия все летела, и Нати смотрела в лицо уснувшего человека, и на полутемной террасе это лицо показалось ей средоточием света.
***
Он сидел перед Чезаре в своем белом затканном золотом парчовом одеянии. Сидел неподвижно. Как и всегда во время конклавов. Как скала. Сидел и слушал, и безмолвно требовал “Говори!” Точно слова сына были способны хоть на короткое время уберечь от неведомого ужаса того места, где сейчас пребывала его душа.
– Я не перестаю спрашивать себя, – медленно говорил Чезаре, – если бы не был убит Хуан – остался бы я кардиналом? Если бы жив был Педро-Луис и занимал сейчас место Гонсалво Кордобы – обеспечил бы он мне беспрепятственный проход в Романью? Если бы Лукреция и я удостоверили нашу любовь…
– “Если бы, если бы”, – отрубил вдруг сидящий. – Это игра для философов и схоластов. Когда-то я сказал, что в твоих глазах нет страха. Теперь я вижу его. Ты одарен богато – умен, умеешь привлечь к себе, доблестен. Но все это перекрывается одним твоим пороком – гордыней.
– Гордостью! Разве гордость моя – больше, чем у других? Нет. Я достиг большего, и гордость моя оправдана! – Чезаре бросился к отцу, но тот возвышался над ним, как неприступная гора.
– Твоя гордыня – величайший грех перед Господом, – слова отца были словно камни, они били по плечам, давили своей тяжестью.
– Я не верю в Бога! – исступленно воскликнул Чезаре.
– Тогда это величайший грех перед теми, кого ты любишь. И кто любит тебя.
Ты всегда точно знал, куда ударить больнее, отец. И бил – без жалости и капли сострадания.
– И то, что случилось с тобой – возможно, это воля Универсума, возжаждавшего воздаяния.
Ты всегда знал, куда ударить… Чтобы выбить слезы… чтобы убить надежду.
– Годость – мой щит. Без нее мне не выжить, – Чезаре ощутил, как непрошенные слезы подкатили к глазам.
– Ты сможешь, – отец ронял слова все так же тяжело. Тем же голосом, каким обрекал на смерть. – Но ты должен отделить бренное от бесконечного.
– Но как??? – Нет, он не допустит слез! Только не перед отцом! Какие бы адские бездны ни говорили сейчас устами того.
– Ты должен принять то, что тебе никогда не править Романьей. Никогда не вернуться в Рим. И никогда не увидеть Лукреции.
Слеза все же обожгла его. Одна, но жгучая, как серный огнь преисподней.
– Возвращайся в ад!!!
***
Нати и не заметила, как заснула. Вопль Чезаре буквально сбросил ее с кушетки, инстинктивно она отползла и прижалась к стене.
– Возвращайся в ад!! – ревел Чезаре. Меч в его руках разрубил воздух с сокрушительной яростью.
– Ваше высочество! – раздался голос Хуанито. Неведомо как могло бы все повернуться, если бы юноша не преодолел страха перед своим грозным господином.
Слуга пытался казаться спокойным.
– Я нужен вам, ваше высочество? – повторил он вопрос. Ровным и почтительным тоном.
Борджиа медленно подошел к низкому столику на террасе. Нати не видно было, что он делает. Но вот он повернулся, держа в руках маленький деревянный сундучок. И только сейчас, видно, вспомнил о Нати.
– Ступай в спальню, – не терпящим возражений тоном сказал он. И Нати, едва переставляя ставшие ватными ноги, вышла с террасы и, миновав маленький внутренний покой, вошла в темную спальню.
– Хуанито, чего ты хочешь для себя? – донеслось до нее прежде, чем она закрыла за собою дверь спальни.
Страха не было, было какое-то оцепенение, когда она ощупью разделась и в одной нижней сорочке залезла на широкое ложе. Ложе казалось необжитым и холодным. “Его светлость допоздна засиживается на террасе, и почивать иной раз там ложится, прямо в гамаке”, – сказал как-то Хуанито.
Ей казалось, прошла целая вечность, пока открылась дверь, высокий силуэт мелькнул на мгновение на фоне полуосвещенного соседнего покоя, и снова наступила темнота.
– Не бойся, я не причиню тебе обиды, – услышала она шепот. – Хотел отдать эту ночь и это ложе Хуанито, но тот, бедняга, никак не наберется храбрости, – Эль Валентино тихонько засмеялся. Нати слышала шорох одежды, потом покрывало рядом с нею приподнялось и Чезаре улегся с нею рядом. Он казался ледяной статуей, и Нати вдруг захотелось обнять его – хотя бы чтоб согреть. Но она не решалась даже пошевелиться. Только слушала тихое, легкое дыхание человека рядом с собой.
– Никогда не спал с мужчиной в женском теле. – Кажется, ему удалось уяснить для себя все непонятности относительно природы ее тела и души, подумала Нати. Хоть кому-то это ясно, и то хлеб. Очевидно, Чезаре пришел в хорошее, или, по крайней мере, ровное расположение духа.
– А как в вашем мире относятся к мужчинам, которые любят мужчин? – вдруг спросил он.
– Это… позорно, – едва выдавила из себя Нати. Чезаре засмеялся.
– Ты наверняка испытывал что-то подобное, – его рука скользнула под ее шею и с неожиданной нежностью притянула к себе. – А может, испытываешь?
Нати замотала головой. Нет, никогда, никогда ее… его не тянуло к мужчинам. Никогда… раньше.
– Неужели вы, люди будущего, такие трусы? Если бы я возжелал мужчину… – Чезаре придвинулся еще ближе, обхватил ее обеими руками, и колено его скользнуло между ног Нати, раздвигая их. Очень хотелось сейчас ответить на его объятия, прижаться к нему, но Нати вдруг живо вспомнила жесткую руку на своем горле. Впрочем, разве спасет ее эта пассивность, если мужчина, домогающийся ее сейчас, решит с нею разделаться?
– Если бы я возжелал мужчину, – продолжал Чезаре, – не сомневайся, я бы взял его. Соблазном или… – Нати ощутила, как горячие уверенные пальцы ворвались в ее лоно, уже ставшее предательски влажным.
– Будь со мной эту ночь, – прошептал Чезаре и приник к ее губам. Он целовал ее жадно, временами прикусывая то нижнюю, то верхнюю губу, его дыхание пахло травами, будто он только что жевал шалфей или что-то вроде, и Нати ответила на его поцелуй почти со стоном, обнимая, натягивая его на себя. Неважно, кто он, неважно кто она… “Будь со мной…” Как будто она имела власть отказаться… Как будто она отказалась бы, даже имея такую власть…
– С тобой нет боли… – выдохнул Чезаре, овладевая ею.
И в их стонах Нати почудилась та же мелодия, что доносилась на террасу. А когда они, утомленные, засыпали, она вдруг заметила, что на указательном пальце Чезаре нет перстня с головой быка, с которым он не расставался со времени прибытия в Олите.
…К утру капитан кавалерии, по словам лекаря, “отошел ко Господу, претерпев страшные телесные муки, включая кровавый понос и истечение крови из горла”.
А Нати и Лисенок с рассветом выехали из Олите, сопровождаемые Хуанито. И, переночевав в той же хижине козопасов, возле которой боролся с Чезаре несчастный Джермо, попетляв по узкой тропинке между скалистых отрогов, уже на следующее утро они подъезжали к Матамороса. Нати не знала, о чем говорил Хуанито с доном Иньиго, но подозревала, что на сей счет он получил строгие инструкции от своего патрона.
– Как ты думаешь, что все это может значить? – спросила Нати Лисенка. Тот состроил уже знакомую ей постную мордочку и возвел очи горе.
– Един Господь ведает сие, – протянул он, подражая слышанному ими в Олите гнусавому монаху. Потом уже обычным голосом добавил: – Сдается, Эль Валентино собирается изменить историю.
– Какую историю? – удивилась Нати. Но появление хозяина и Хуанито прервало их.
– Ну что ж… – прощаясь, Хуанито чувствовал себя очень неловко, – если на то будет Божья воля – еще свидимся.
Нати стало грустно. Каким-то шестым чувством она понимала, что вряд ли они увидятся с Хуанито. Как и, возможно, с тем человеком, в объятиях которого она провела прошлую ночь.
Две недели спустя – Матамороса, Наварра
– Долина эта благословенна Господом, – говорил дон Иньиго. – Она прогревается солнцем, а отроги защищают ее от ветра. К несчастью, этот поганец иной раз отыскивает лазейки – так ведь? – укоризренно стучал он по подоконнику. И Нати казалось, что ветер откликается покаянным воем – мол, что поделать, куда велели, туда и лечу.
– Ну да я на него зла не держу. А ведь тут земля самая благословенная, да!
Под эту воркотню Нати засыпала – спали они с Лисенком на соломенных тюфяках в одной комнатушке на нижнем этаже. Хозяин всегда самолично проверял, закрыт ли засов входной двери, и с зажженной свечой и словами про благословенную землю шествовал к себе.
Работникам сеньор Иньиго теперь отказал – сказал, что у Нати и Лисенка руки легче и проворнее, чем у крестьян из деревеньки в пяти милях отсюда.
– На сбор найму, а так – нечего этих невеж кормить.
Лисенок, который бегал в деревеньку за хлебом и сыром, приносил новости – войска короля Наварры под командой Чезаре Борджиа осадили Вьяну, последний оплот графа де Бомона.
Наступил март.
Комментарий к Глава 8, в которой говорится о лозах и гранатах, а затем наступает март
(1) – “тот сделал, кому это выгодно” (лат.)
(2) – в оригинале трактат Макиавелли называется “Il Principe”, то есть “Принц”
========== Глава 9, в которой начинают учиться, поддаются безумию и исчезают в дождливой ночи ==========
Мы с тобою, досточтимый слушатель мой, оставили замок Арнольфини как раз тогда, когда подле него неведомо кем были разведены три огромных костра, введшие в заблуждение Мартина Бланко.
Однако для того, чтобы рассказать о последовавших за тем событиях, нам придется вернуться назад. И увидеть, как Агнесс подлила полученную от колдуньи Хосефы воду в скляночке в кувшин с разведенным вином, предназначенным для ее свекрови, для Кристабель де Марино… то есть, конечно же, Кристабель Арнольфини.
Однако это коварное деяние не укрылось от глаз верной Анхелы, для которой приказ сеньора Мартина неусыпно и неустанно беречь донью Кристабель был столь же священен, как и закон Господень. Таким образом, неся кувшин, служанка будто бы нечаянно споткнулась на лестнице и разлила все, до донышка. Бормоча извинения, низко кланяясь прибежавшим на грохот Стефано и начальнику стражи, она собирала осколки, потом споро вытерла лужи.
Агнесс едва сдержалась, чтобы не выбранить Анхелу последними словами. Однако случившегося не воротишь. И если бы Агнесс верила хоть немного в судьбу или в удачу-неудачу, она могла бы счесть таковое происшествие рукою одной из этих двух. Но Агнесс не верила ни в удачу, ни в судьбу.
Злость, ненависть, ревность – все смешалось в душе Агнесс, когда узнала она о беременности Кристабель. И переждав несколько дождливых и холодных дней, дождавшись, когда муж вместе с отрядом отбыл к основным силам графа де Бомона, она снова отправилась в домик Хосефы.
***
Охватившая Бьянку внезапная и беспощадно сильная любовь не оставляла места ни для трезвого размышления, ни для иных чувств. И обучение у Хосефы представилось ей одной из ступеней в достижении того, чего она теперь жаждала.
Хосефа словно и не замечала внезапного помутнения рассудка своей помощницы. Все чаще она доверяла Бьянке приготовление различных составов, все более погружала ее в знание о законах и свойствах трав, о том, в какие дни набирают они силы, а в какие утрачивают. Все больше узнавала Бьянка о том, как судить о предстоящих событиях по полетам черных дроздов и голубей.
– Посмотри на этого человека, – иной раз говорила донья Хосефа, когда они с Бьянкой выходили вдвоем на окрестные пустоши и видели гонящего свое убогое стадо пастуха. И Бьянка по едва заметным зверьим теням, роящимся вокруг бредущего человека в грубом плаще и войлочной шляпе, училась угадывать его потаенные мысли и судьбу. И точно так же, по-особому, она теперь смотрела на людей в деревеньке. Тени вокруг людей почти никогда не были человеческими – обычно Бьянка видела овечьи и козьи головы, очертания жабьих пучеглазых морд, иной раз мелькали вытянутые пасти хищников или загнутые орлиные клювы. И только у некоторых, у очень немногих, в мешанине зверьих очертаний проглядывал человеческий силуэт.
И все чаще Хосефа оставляла Бьянку одну. Одна была Бьянка и тогда, когда в дверь хибарки постучались. Хосефа не стучалась, она входила сразу, неуловимо быстро преодолевая порог. Сейчас же стук был излишне громким, и Бьянка почуяла за этой громкостью и гонор, и страх, и отчаяние, и ненависть.
Вошедшую даму она узнала сразу. Сразу же увидела парящего над ее плечом черного голубя, и вспомнила, как ехали рядом эта дама и та, которая завладела сейчас всеми помыслами Бьянки. Они были как гусыня и лебедь – птицы одной породы и даже одного цвета, однако никто не спутал бы их.
“Тебе пора научиться управляться с человеческими страстями”, – сказала накануне Хосефа. Ненависть пришедшей была страстью. И чувство, с которым Бьянка думала о той, которая стала предметом этой ненависти, также было страстью.
Пока дама, то и дело взъяряясь, требовала саму Хосефу, у Бьянки сложился довольно стройный план. Она заверила даму, что донья Хосефа оставила ей подробнейшие указания, что бруха(1) провидела сегодняшний приход заказчицы. Уверенность, с которой Бьянка полезла в дебри горшочков и склянок, которыми были уставлены полки, должно быть, убедила посетительницу. Она примолкла. Бьянка спиной ощущала напряженное внимание, с которым дама следила за ее поисками. Ветер, налетевший на хибарку, распахнул окно и взметнул темный плащ посетительницы, сдернул с нее капюшон, разметал мелко вьющиеся рыжевато-золотистые волосы.
– Вам придется вернуться завтра, – вытащив одну из склянок, проговорила Бьянка. – Составу нужно побыть в связи с тем, на кого направлено его действие.
Посетительница, торопливо натягивавшая капюшон, замерла.
– Конечно, как я могла забыть? – она пошарила под плащом и извлекла крошечный узелочек. – Вот.
Бьянка едва удержалась от того, чтобы коснуться губами тоненькой, как новорожденный месяц, светлой прядки, которая открылась в узелке. Руки ее затряслись так сильно, что она принуждена была отложить узелок на стол.
Дама всего этого не заметила – она снова рылась в складках плаща. Наконец, оттуда появился туго набитый кожаный кошель.
Бьянка, почти не задумываясь, положила руку на кошель, и ей показалось, что ладонь вобрала все те чувства, с которыми этот кошель наполняли.
– Донья Хосефа не велела брать награды прежде дела, – пробормотала она, отталкивая кошель. И дама впервые взглянула на нее одобрительно.
– Ты начинаешь учиться, – кивнула Хосефа, когда по возвращении Бьянка рассказала ей все.
На следующий день вернувшаяся дама получила склянку с прозрачной жидкостью, за что Бьянке был отдан тот самый кошель. Увозя склянку, дама не знала, конечно, что после ее ухода вчера Бьянка внимательно осмотрела деревянную подпору, возле которой стояла дама, когда налетел ветер. Несколько длинных золотисто-рыжих волосков застряли в грубой древесине…
– Волосок притянет голову, – заметила Хосефа. И повторила: – Ты начинаешь учиться. Это хорошо.
***
Агнесс ждала, что злотворность зелья проявится уже на следующий день, хотя сама ставила условием неспешность воздействия яда, так, чтобы ни у кого не закралось подозрения. И все же она проснулась с тайной мечтой услышать крики, беготню в коридорах замка, увидеть, как мечутся служанки с окровавленными простынями, и узнать, что ее юная свекровь скинула ребенка. Так оно всегда бывает, досточтимый слушатель, – желания опережают разум.
Но утро пришло как обычно, без беготни и окровавленных тряпок – разве что в густо-пурпурном вине, поданном за завтраком, Агнесс почудились какие-то словно бы маленькие белые рыбешки. Но стоило ей всмотреться в рубиновые переливы, как примстившиеся рыбешки прямо на глазах растворились.
Завтрак тоже прошел так же, как проходил обычно. Однако, споласкивая руки в лимонной воде, Агнесс вдруг увидела тянущуюся к ней из таза для умывания маленькую красную ручку, будто вовсе лишенную кожи. На крик ее сбежались едва ли не все обитатели замка, но ручка к тому времени исчезла, а Агнесс удалось взять себя в руки и уверить домочадцев, что ей что-то почудилось.
Однако это было лишь началом. В то время, как у стен почти беззащитного замка Азуэло появились неизвестные люди, разложившие три больших костра и после того молча исчезнувшие, донья Агнесс Арнольфини все менее и менее могла сопротивляться приступам безумия, охватывавшим ее. То ей чудился детский плач, то ей виделся ребенок, ее собственный ребенок, с пухленькими щечками и золотистыми кудряшками. А то вдруг она видела отвратительные гниющие останки, и крошечный череп катился, окровавленный, к ее ногам…
***
Тебе не составит труда, терпеливый слушатель мой, понять, в сколь сильной ярости был граф де Бомон, когда Мартин прибыл во Вьяну. Ничего не желал граф знать о причинах внезапного отбытия его с поля боя. Лишь в одном сделал он поблажку капитану Бланко – не велел повесить его немедленно, что было проделано с несчастным Пепито, а лишь отдал распоряжение бросить Мартина в каземат Вьянского замка до того часа, пока у него дойдут руки судить капитана по всей строгости.
Мартин догадывался, что немалую долю в графскую милость внес де Бомон-младший. Хотя старый граф и полслова не проронил про спасение сына, за которое он еще совсем недавно так горячо благодарил своего капитана. Он ведь теперь идальго, подумал Мартин, оказавшись в темной камере. Он дворянин милостью короля, его даже не имеют права повесить.
В каземате время текло медленно. Раз в день ему приносили поесть, но стражник, видно, получил строгий приказ держать рот на замке, потому что на вопросы Мартина он только свирепо мотал головой и выкатывал глаза. И Мартину ничего не оставалось, как вспоминать. Когда-то, еще мальчишкой впервые попав в тюремное подземелье, Мартин положил себе за правило – когда несвободен, надо вспоминать одно дурное. Так станешь злее. Так скорее освободишься. И вот теперь память послушно подбрасывала одно “дурное” за другим – вспоминался Саммер и то, как он однажды вспорол брюхо какому-то толстяку и мыл руки в его крови. Где же это было? Города и военные кампании сливались, и Мартин порой не мог отличить одну от другой.
Да, Саммер любил кровь. А вот Карстанс был тихий и добрый малый, мухи не обидит – если в его руках не было меча, конечно. Карстанса подняли на копья в Монтеверде. Он, кажется, и сам до конца в это не поверил – Мартин помнил то удивленное выражение, которое застыло на лице Карстанса, когда сразу три копья пробили его грудь.
Лежа на соломенном тюфяке, Мартин страницу за страницей вспоминал все дурное, что случалось с ним. Обманы. Кровь. И снова обманы, и снова кровь… Мартин вспоминал и чувствовал, как знакомая живительная злость наполняет жилы.
Что-то изменилось в один день. Мартин почувствовал это по тому, как почти уважительно поставил перед ним миску с едой стражник, как бережно положил краюху и поставил кувшин с водой. Стражник был незнакомый.
– Ты… того, ешь… – голос у солдата оказался сиплый, будто у него было постоянно застужено горло. – Ешь и радуйся, что тут, а не там.
И постепенно Мартин вытащил из солдата все новости. А новости оказались не слишком радостными – войска короля Наварры осадили Вьяну. Все было так, как говорил ему Борджиа.
В городе начался город, а за королевскими войсками пришли обозы с мукой, с солониной в бочках, с овощами, с маслом и вином. Изголодавшиеся жители, прежде считавшие себя подданными Фердинанда Арагонского, который стоял за графом де Бомоном, порешили сдаться и пойти под руку Иоанна Наваррского. Не сдалась только цитадель. И Мартин понял, что сидеть ему осталось недолго.
Так оно и случилось. Через два дня в каземат вошел сам де Бомон-младший. Графский сын все еще не мог орудовать мечом с той же легкостью и искусством, как раньше – левая рука его еще не обрела былой подвижности, – да и выглядел не лучшим образом.
– Вы свободны, дон Мартин, – молодой граф говорил, точно каждое слово отрывал от себя с мясом. – Прошу простить, что не явился раньше.
– Я готов служить вашему сиятельству, – слегка поклонился Мартин. Граф устало кивнул.
– Пойдемте. По дороге я расскажу вам о настоящем положении дел.
Положение и вправду оказалось неважным. Жители не просто сдали Вьяну, но и помешали гарнизону замка забрать в цитадель достаточно провизии.
– Нам грозит смерть от голода, если прежде нас не перебьют, – говорил молодой граф. – Герцог де Лара уехал, обещал привести отряды из Кастилии, но…
Он красноречиво пожал плечами. Герцог де Лара – набитый дерьмом индюк, подумал Мартин.
– Этого негодяя Борджиа и его орду в городе встречали с цветами, – ярость на миг прорвалась в том, как де Бомон выплюнул эти слова. – Столько солдат сбежало, те, что из местных. За пару подвод с мукой продали честь!
Что за честь, коль нечего есть, подумал Мартин. Его сиятельство, поди, и не знает, каково оно.
А графский сын продолжал рассказывать – о том, как его отец ездил в Лерин на встречу с королем и его грозным командующим, как отца едва не схватили там же за измену. Как король грозил судить и казнить мятежного графа.
– Я видел глаза этого Борджиа, – изменившимся внезапно голосом сказал де Бомон-младший. – Вчера. Они подъехали к воротам цитадели…
Лицо графского сына потемнело.
– Он даже не надел шлем, так и подъехал с непокрытой головой. Я сказал ему, что знаю, кто он таков и обо всех его деяниях. И сказал, что он превосходит легенды о себе.
Это может быть, подумал Мартин. Но вряд ли Чезаре Борджиа поверил в вашу искренность, ваше сиятельство.
– Он улыбнулся и сказал “Да гори они в аду, эти легенды!” И в глазах его я увидел ад… – медленно роняя слова, продолжал молодой граф. Потом поднял голову и прямо взглянул на Мартина. – Нам не выжить, Бланко. Еды у нас осталось всего на неделю, да и то на полуголодном пайке. А если через пару дней он подтащит сюда всю артиллерию, нам и вовсе конец.
Они вышли во двор цитадели. Всюду заметна была та особая нервная и мелкая суета, с какой люди делают заведомо безнадежные дела. Небо заволокло тучами и, хотя солнце едва перевалило за полдень, на Вьяну наползал сумрак.
– Насколько сильно вы желаете выжить, ваше сиятельство?
Молодой граф поднял голову, и в черных глазах его загорелась такая жажда жизни, какую Мартин видел раньше разве что у лошадей, которых собирались добить. Люди скорее других тварей Господних смиряются с тем, что им суждено помереть.
– К вечеру будет гроза, – бросил Мартин, и де Бомон-младший недоумевающе взглянул на него.
Они обошли цитадель, уже оцепленную наваррцами; даже издали было видно, где на постах стоят наемные ландскнехты, а где – пехотинцы из местных. Наемники привычно обустраивались на месте с таким расчетом, чтобы можно было защититься от уж слишком досаждающей непогоды и при этом не оставить поста. Обойти этих будет почти невозможно.
А вот и местные. Их чертов Борджиа поставил у самых крутых скатов холма, которые верхами не пройдешь. Эти вахлаки пойдут искать укрытия, едва дождик перерастет в что-то посерьезнее.
– Мне кажется, я знаю, что делать, – сказал Мартин.
План был готов к вечеру. Старый граф в совете участия не принимал – вернувшись из Лерина, где его едва не схватили, он словно бы утратил и разум, и веру в себя. Он проводил теперь время в отрешенном одиночестве, оставив все дела на сына. Однако советники, которым тоже должно было не поздоровиться, если Иоанн Наваррский до них доберется, возмутились дерзости Мартина.
– Вылазка… ночью! Немыслимо! – пробормотал в бороду один.
– Мыслимо – для того, кто решил сбежать, – напрямик заявил второй.
– У меня есть более оснований оставаться верным его сиятельству, нежели у вас, – бросил Мартин второму из говоривших.
– Замолчите, оба! – крикнул де Бомон-младший – как раз тогда, когда второй советник с исказившимся злобой лицом уже, казалось, готов был кинуться на Мартина. Советник был на полголовы ниже капитана, так что Мартин глядел на него с невозмутимостью першерона, которого облаивает маленькая собачка.
– Я одобряю идею капитана Бланко, – сказал молодой граф, когда все немного успокоились. – Добраться до Логроньо пешком, выйдя из замка под покровом ночи – согласен, план выглядит безумным. Но если уж выбирать между ним и смертью, то я согласен и на безумие.
Уже после совета, оставшись с Мартином наедине, де Бомон-младший долго молчал, разглядывая разложенные на столе бумаги, и, наконец, проговорил вполголоса:
– Отец рассказал, что в королевском лагере один из наших солдат, бывших с ним, случайно услышал, как этот Борджиа говорил по-каталански одному из своих людей: “Теперь, когда их лучший капитан казнен, Вьяне не устоять”. Они думали, что вы казнены. Поэтому я безоговорочно верю вам.
Поэтому вы и не должны верить мне, едва не вырвалось у Мартина. Он со всей ясностью понимал сейчас – такой человек, как Чезаре Борджиа, никогда не станет просто делиться досужими мыслями. Он будет говорить только то, что сочтет полезным, и только там, где это услышат уши тех, кому должно услышать.
К ночи пошел сильный дождь, как и говорил Мартин. Все, кто собирался уходить, разбились на небольшие отряды и приготовились.
Ночью дождь перерос в грозу, молния раздирала угольно-черное небо, и Мартину казалось, что гроза преследовала именно их. С Вьянского холма они спустились без приключений, и двинулись к долине Эбро. Идти под проливным дождем по размокшей низине, поросшей кустами и редкими деревьями, было тяжело, солдаты едва вытаскивали ноги из грязи. Однако никто не жаловался – каждый рад был убраться подальше из той смертельной ловушки, которой оказалась Вьяна. Все хотят жить, думал Мартин. Все. Он брел во главе их маленького отряда, все более отрываясь от более слабых и усталых солдат. И при каждом размете молнии ему казалось, что перед ним открывается окно в башне замка Азуэло, светлое и теплое. Окно, за которым ждет женщина с его ребенком во чреве.
И неожиданно сквозь шум дождя и чавканье грязи под ногами прорвался стремительно приближающийся топот копыт…
Мартин бросился вперед, прекрасно понимая, что уйти от конных отряду не удастся. Пропади оно пропадом, думал он на бегу – у него нет причин жертвовать собой за Бомонов. Он затеряется в этом редколесье. Дождаться рассвета, а там повернуть на север – к предгорьям. К Азуэло.
Азуэло! Он остановился на бегу – кем он будет в Азуэло? Снова беглый наемник, бросивший хозяина? Представил, как заявится туда – вымокший и грязный, как последний бродяга. Мартин на мгновение прикрыл глаза. Довольно! Он не для того поднимался, чтобы падать снова.
Глубоко вздохнув, Мартин повернулся и, вытащив меч, побежал назад – туда, где сейчас должен был идти бой. Уж одного-то верхового он сумеет прихватить, ему только и нужно, что добыть коня.
Однако боя не было. Уже не было. Выбежав на залитую дождем прогалину, Мартин в участившихся сполохах молний увидел с десяток мертвых тел графских пехотинцев, увидел, как у кустов бьется в агонии лошадь, а чуть поодаль двое графских солдат стаскивают одежду с упавшего. Солдаты деловито стянули с лежавшего неподвижно человека рубаху, один из них торопливо скомкал ее и сунул за пазуху.
– Штаны тебе, рубаху мне…
– И нагрудник мне. С тебя и сапог да шлема хватит, жадюга.








