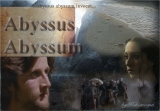
Текст книги "Abyssus abyssum (СИ)"
Автор книги: Кшиарвенн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Рука, на которой покоится сейчас его голова, не мраморная. Она тепла.
– Ведь вы тоже почему-то отправили меня и Лисенка в Матамороса, а не приказали убить…
Он?.. Это правда, он хотел подготовить себе укрытие, лисью нору с двумя ходами. Но отчего он отправил туда их?
– Нативидад…
– Да?..
– Ты видела их? Ты видела… мою дочь? Какая она? – Это было уже почти неважным. Это относилось к “было”. Но все же он не мог не спросить.
Целая вечность, прежде чем она ответила.
– Она очень милая малышка. Красивая. Очень похожа на вас.
Комментарий к Глава 13, в которой служат поминальную мессу
(1) – Услышь моление мое,
К Тебе возвращается всякая плоть
http://pleer.com/tracks/337211pXK
(2) – День гнева, тот день
Превратит мир в пепел
http://pleer.com/tracks/33720ySrS
(3) – Посрамив нечестивых,
Пламени предав их адскому
http://pleer.com/tracks/33716YEZX
========== Глава 14, в которой приходят с просьбой, падают с коня и решают искать добрых самаритян ==========
Вожжи не имеют свойства прирастать к рукам. Их следует держать, и держать крепко. И невероятно, адски сложно держать их, если сама цель, ради которой ты отправился в путь, начинает тускнеть, размывается, как размываются очертания в юной утренней дымке. Если через тебя, в самом или самой тебе прорастает нечто, исключающее цель твоего путешествия. И тогда остается либо повернуть назад, либо бросить вожжи и…
Надеюсь, любезный слушатель, ты простишь мне это отступление? Что, право, за интерес рассказывать, если не можешь и на миг отойти в сторону, чтобы поделиться неожиданно пришедшей мыслью?
Впрочем мысль о вожжах пришла мне, скромному повествователю, в связи с доньей Кристабель Арнольфини, которая сегодня пребывает в замке Азуэло одна – если, конечно, не считать верной Анхелы, замкового капеллана и… да всех остальных слуг. И если не считать того крошечного существа, которое еще только начинает быть.
Теплый ласковый апрель летел к концу, на смену ему шел жаркий май, запускающий лето, как запускают в оросительные каналы воду. Лето бежало по каналам, близилось, оживляло и торопило, оставляя позади гремящие птичьи песни и готовя мир к материнству. Весна – зарождение, лето – рост.
И ощущая этот неудержимо счастливый рост в своем чреве – всею собой, через череду утренних нездоровий, через тошноту и случающиеся приступы головокружения, – Кристабель по временам чувствовала себя почти предательницей. Каждый день спокойной жизни Лаццаро Арнольфини был предательством в отношении матери. Она должна, должна, должна снова загореться той сухой, как выжженный солнцем песок, ненавистью, которую впитала, слушая безумные слова, плач и проклятия матери, видя, как прекрасная женщина, иногда так явно и больно прорывающаяся сквозь сумасшествие, снова и снова превращается в жалкое полуживотное, умеющее только плакать и выть.
И все же Кристабель все менее ощущала в себе силы мстить. Росшее в ней дитя, которого она уже любила всем сердцем, всем собой отрицало необходимость этой мести
Происходило странное – Кристабель почти перестала вспоминать мать в этом горестном состоянии помраченного рассудка; вместо этого приходили совсем другие воспоминания. О том, как она жила маленькой в отцовском доме, как просыпалась каждое утро под ликующий перезвон солнечных лучей и пение птиц. Как каждый день был открытием – мелодии, которые мама играла на арфе, ручной ослик, который умел подавать переднюю ногу, старый пес Боско, служивший девочке охранником.
Они с Боско и старым слугой Фиделио неутомимо обследовали развалины замка, находившиеся в полумиле от их дома. И Фиделио рассказывал жутковатые предания о замурованном в подвалах замка несчастном чудовище, все несчастие его состояло в том, что оно было столь безобразно, что не решалось показаться даже самому Солнцу. Потому оно добровольно согласилось на вечное заточение в вечном мраке.
После этих рассказов сердечко Кристабель захлестывала такая острая жалость к чудовищу, что она перед сном даже включала его в ежевечернюю молитву. “Спаси и помилуй, Господи, отца моего и мать мою, и всех сродников и близких, и несчастное создание из Санта-Леандра…”
И были мамины глаза и руки – вот она вышивает по тонкому венецианскому полотну цвета свежего молока, вышивает тонкой иголкой, такой тонкой, что иголка вместе с шелковой нитью кажутся солнечным лучиком. Мама вышивает солнечными нитями по белизне полотна. И конечно, вышивает для отца. Для кого еще можно вышивать солнцем?
И отец, разумеется, отец. Темноволосый и темноглазый, с чеканным профилем античных статуй. Темноволосый и темноглазый – и все же сейчас Кристабель думала, что у них с Мартином было много общего. Прямота клинка во взгляде.
Как, когда их с Мартином союз ненависти перерос в нечто совсем иное? И перерос ли? Можно ли приручить волка, заставить спать у камина и сторожить дом? Чушь! Невозможно. Но все чаще Кристабель ловила себя на мысли, что ей очень хотелось бы такого же чистого и простого счастья, какое было у ее матери с отцом – до всего того ужаса, что начался с визита знатного сеньора Арнольфини в не слишком богатый дом Бриана де Марино.
Прошлое почти перестало заряжать ненавистью – оно заряжало теперь чем-то иным. И Кристабель говорила себе, что должна расправиться с Арнольфини если не ради матери, то ради Мартина и ради того, кто растет в ее чреве…. Отчего ради Мартина, она не могла сказать, но ощущалось это необыкновенно четко. И Кристабель боялась признаться даже самой себе, что ненависть к Агнесс – расчетливая ненависть, благодаря которой в Азуэло появился отец Франциск, – была рождена не только самим звучанием фамилии Арнольфини, но и ревностью.
Итак, Кристабель была одна, наедине с белоснежной тканью, по которой она вышивала шелком. В последние две недели она до странного пристрастилась к вышиванию, которым раньше занималась лишь по обязанности. Утреннее нездоровье посещало ее все реже, и Анхела обычным хмурым тоном, каким она сообщала даже о самых приятных вещах, говорила, что впереди самая чудесная пора.
Лаццаро Арнольфини уехал на охоту еще вчера. Мартин и Джан-Томмазо с утра отбыли во Вьяну. И в отношении последнего это было бесспорно хорошо и удачно – слишком уж докучливым был острый взгляд и приторно-сладкие речи венецианца.
Сегодня было воскресенье, и после мессы делать Кристабель было совершенно нечего. День обещал быть тихим, словно в вышине неба над Азуэло раскрыл крылья могучий ангел.
– К вам какая-то девушка, госпожа, – Анхела появилась в дверях как всегда неслышно и с обычным угрюмым видом. Всегда готовая к защите.
– Проводи, – кивнула Кристабель. Просителей она принимала если не много, то достаточно – слухи о доброй и мудрой хозяйке Азуэло распространились по округе и селяне и селянки тянулись к ней за помощью. Кристабель принимала всех и всех выслушивала, но помогала с разбором.
Молодая белокурая девушка, крепкая и высокая, была ей незнакома. Но когда девушка, назвавшаяся Бьянкой, заговорила, Кристабель поняла, кто она такова.
Про васконку Хосефу, которую многие в округе считали колдуньей, она успела наслушаться довольно. Однако в смертях младенцев, недороде, худом молоке у коров и плохом приплоде у коз Хосефу не обвиняли. Больше говорили про ее власть над людскими душами и людскими влечениями.
Бьянка сказалась племянницей доньи Хосефы и начала жаловаться на неприязнь и притеснения, которые они с тетушкой терпят от деревенских жителей.
– Добрая госпожа, – говорила она глубоким грудным голосом, от которого, казалось Кристабель, сам воздух вздрагивал, – мы с тетушкой и к мессе ходим, и причастие принимаем – за что же нам такое бесчестье?
Кристабель казалось, что Бьянка, говоря, ходит по кругу – кружит, кружит, навеивая дремоту, и голос ее кажется все более низким… мужским. Вот ближе, ближе, она касается руками плеч Кристабели – невесомо и все же привязывая этим касанием к себе, притягивая. С мутной и тяжелой головой Кристабель подалась навстречу Бьянке, и губы коснувшиеся ее губ, не были губами женщины. И шла, струилась от Бьянки мужская притягательная сила – могучая, пьянящая, лишающая воли, превращающая волю в податливое тесто. Такая же сила шла от Мартина. Мартин! Едва имя Мартина – ее… соучастника, любовника…или все же возлюбленного? – возникло в сознании Кристабель, как кружение остановилось. И Бьянка снова стала просто деревенской девушкой, пришедшей к владетельной сеньоре с просьбой. И только на краешке сознания Кристабель была уверена – то, что это неведомое существо стало вновь Бьянкой, было лишь его, существа, доброй волей.
– Я все сделаю для вас, госпожа, – прошептала Бьянка. Она стояла в прежней почтительной позе у входа – как и тогда, когда только явилась. – Я все для вас сделаю.
И она вышла, и Кристабель так и не смогла понять, был ли тот поцелуй, или у нее просто закружилась голова вследствие ее положения. Только брошенные вскользь Анхелой слова про “васконскую ведьмачку” удостоверили Кристабель в том, что посетительница ее все же не привиделась.
***
Теперь следует рассказать, как Лаццаро Арнольфини ехал по леску севернее Азуэло, в предгорьях. Он ехал на своем сером как мышь мекленбуржце – чуть засекающемся, которого он давно уже собирался продать и купить испанского жеребца. Низкорослый лесок, где он обычно охотилсяя, оказался сейчас пуст и почти безмолвен – словно вся дичь по мановению палочки злой колдуньи вдруг исчезла. Охотникам встречались только мелкие птицы, да один раз тропку, по которой ехал Арнольфини, пересекла змея.
Собаки на сворках беспокойно ворчали и отказывались брать след, а пегая сучка, которую Арнольфини купил по цене лошади и считал своей главной охотничьей ценностью, временами задирала голову и протяжно поскуливала.
– Не будет дела, ваша милость, – к полудню даже у самых опытных доезжачих не осталось веры в успех.
– Надо было с соколами ехать, а не с этими шавками, – злобно рыкнул Арнольфини и едва удержался, чтобы огреть собак плетью.
Лошади беспокоились, и один из слуг сказал, что, возможно, тут появились волки, вот кони и харапудятся.
Серый волновался больше всех, прядал ушами, косил глазом и то и дело коротко ржал, вскидывая голову. Продам, в бешенстве подумал Арнольфини, сегодня же прикажу продать. Он со злостью пришпорил серого, посылая вперед, – мекленбуржец, отчаянно завизжав, крутанул головой, шарахнулся и Арнольфини вылетел из седла. Он почти не ушибся, упав на тропку, разве что голень распорол о какой-то грязный сук.
Пока слуги поднимали стонущего и бранящегося последними словами хозяина, на тропинке показалась женская фигурка. Женщина в белесом платке, закрывающем голову, суетливо подбежала к Арнольфини и его людям и заохала:
– Ах, беда-то какая, ах беда! Плохая это дорога, благородные господа, ох, какая плохая.
Слуги не успели ни спросить у женщины, кто она, ни возразить, как незнакомка захлопотала около Арнольфини, которого уложили у тропинки на плащ. Прикрикнула на одного из слуг, велев ему найти кусок полотна, отправила второго за водой к протекавшей неподалеку речушке. И все это время она продолжала причитать над нехорошестью дороги, над лукавостью “проклятой скотины”, как именовала она коня, взывала к святым угодникам и вообще всячески выражала свое сочувствие и участие. Потом она извлекла какую-то бутылочку, и продолжая охать и причитать, напитала ею поданный слугой лоскут полотна. Потом прижала к ране и с видом опытного лекаря обмотала шарфом одного из слуг.
– Держать надо завязанным, вот так, пока не затянется рана-то. Ах беда, вот беда так беда, – снова запричитала женщина. И слугам показалось, что вовсе не причитает она – а наоборот, зовет кличет беду на голову Лаццаро Арнольфини.
Далекий колокол донес свой чистый звон через предгорья, отразив его от серых камней и подкрасив эхом ущелий. Но на тропинке не было уже ни Арнольфини, ни его слуг, ни странной женщины. Лишь черный дрозд сидел на сухой ветке.
***
– Вы совершенно уверены, что не видели его, господин Бланко? – наконец Джан-Томмазо решился задать этот вопрос. Мартин ждал его весь день, но дождался только теперь, когда они, переночевав в трактире, возвращались из Вьяны в Азуэло.
Они пришли к собору заранее и особенно следили за теми, кто будет разглядывать прибывших Шарлотту и маленькую Луизу. Толпу возле собора Святой Марии Мартин осматривал довольно внимательно, но никого похожего на Чезаре Борджиа не заметил, поэтому отвечать было легко. Однако венецианец, его компаньон, теперь каждым своим словом подхлестывал в Мартине холодную ярость.
…– Вы слишком беспечны, Мартин, – фамильярно и наставительно произнес Джан-Томмазо, вытирая лезвие даги о платье упавшей девушки. Мартин ничего не успел сделать, даже не успел сообразить, как лучше вывернуться из этой передряги. Марта, эта добрая болтливая дуреха, которая некогда была при леди Кристабель и с которой он крутил шашни, конечно, ни в чем не была виновата. Разве в том, что неумеренно стреляла глазами на них с Джан-Томмазо. И от венецианца это не укрылось, да и сам Мартин забеспокоился – Марта могла его выдать. Он взглядом показал девушке на выход, и она просияла, прикрыла глаза в знак согласия.
Он только хотел ее припугнуть, говорил себе Мартин, припугнуть дуреху, чтобы язык за зубами держала – и сам себе не верил. Если бы не Джан-Томмазо, ему пришлось бы самому убить Марту. Убить ее, заставить заткнуться и никогда не вспоминать Мартина де Бланко, начальника охраны во Вьянской цитадели в бытность той штаб-квартирой графа де Бомона. Но самое ужасное – Мартин не знал, смог ли бы он сделать это. Что-то неотвратимо менялось в нем, и это что-то мешало так же просто и неотвратимо как раньше взмахнуть кинжалом и перехватить горло.
Разве он так уж подобрел, смягчился сердцем? Мартин рассмеялся бы в глаза тому, кто посмел бы сказать ему такое. Но вот теперь он ехал рядом с Джан-Томмазо и не мог не думать о вытаращившихся в последнем удивлении глазах Марты, о том, как тускнел огонек в этих глазах. Марта служила Кристабель…
– Тут дело нечисто, – говорил между тем Джан-Томмазо, – и нельзя сказать, что мы с вами потерпели неудачу. Если Борджиа не явился на собственные похороны…
– Я до конца не уверен в том, что Чезаре Борджиа все-таки жив, – лениво пробормотал Мартин. – Говорю же, мессер Карраччиоло, я сам видел, как солдаты…
– То-то и оно! – Впервые Мартин подумал, что этот итальянец вовсе не холодный ловкий интриган – он фанатик. Он одержим местью – местью Чезаре Борджиа. А Караччиоло продолжал: – В том-то и дело, сеньор де Бланко, что вовсе пока неясно, кого вы видели. Солдаты де Бомона, с которыми я беседовал…
Успел, подумал Мартин; пока сам де Бланко ездил по окрестным дворянчикам, Караччиоло поехал в Логроньо.
–…сказали, что человека, погнавшегося за ними в дождливую ненастную ночь, раздели догола, сорвав с него и одежду и доспехи. А тутошние солдаты говорят, что опознали его по нагруднику… Так кому же верить?
Мартин затаил дыхание, и ему стоило большого труда сохранить впечатление ровного делового интереса. “Кому верить…” Кому верить, мать его за ногу!
А Караччиоло продолжал говорить – о том, какие разные, взаимоисключающие слухи ходят про гибель Эль Валентино. То герцог якобы попал в засаду разбойников, то его встретил конный отряд и в жарком сражении загнал на берег Эбро, где и поднял на пики, то его раздели и потом, истекающий кровью, он был найден какими-то простолюдинами, которые отнесли его в свою хижину…
– Да не может такого быть! – не выдержал Мартин. – Вы, небось, здешних простолюдинов не видели – да они дальше своего брюха не смотрят, не то что голого да истекающего кровью к себе тащить. Притом, откуда им знать, кто таков Чезаре Борджиа?
Джан-Томмазо бросил на него долгий рассеянный взгляд, мысли его, казалось, были далеко отсюда. И Мартин сам почувствовал, что “Чезаре Борджиа” выговорилось у него совсем не так равнодушно и зло, как надо было.
– И все же, раз таковые слухи появились, то их тем более следует проверить – хотя бы потому, что они появились вопреки всякой вероятности, – гнул свое венецианец.
– Не думаете ли вы, сеньор Караччиоло, что я прибыл сюда, чтобы проверять домыслы? – Вот теперь голос Мартина звучал как надо – высокомерно и холодно.
– Вы не хуже меня знаете, сеньор де Бланко, что в Кастилии до сих пор не утихли попытки восстановить власть номинальной королевы, Хуаны, – отозвался Джан-Томмазо. – Граф Бенавенте и его присные вроде дона Хайме Саласара, те самые, что помогли Эль Валентино бежать из Ла-Мота, до сих пор не успокоились. И не исключено, что именно сейчас под твердыню власти его величества Фердинанда роют подкоп и набивают его порохом – порохом по имени Чезаре Борджиа.
– Хорошо – и что же вы советуете делать? – нетерпеливо бросил Мартин.
– Я предлагаю обследовать все поселения в окрестностях Вьяны – особенно к северу. Как я успел узнать, там предгорья, есть очень глухие места. И как следует порасспрошать местных жителей – возможно, кто-то что-то видел.
– Ну что ж… – медленно, будто раздумывая, проговорил Мартин, у которого внутри все похолодело. – Думаю, это нужно сделать, и начнем прямо с послезавтрашнего дня – завтра наш добрый хозяин, ваш дядюшка, возвращается с охоты, нехорошо оставлять его одного в такой радостный день, – Мартин заставил себя улыбнуться. До среды он успеет съездить в Матамороса – и приберет за собой. Он не в таком положении, чтобы позволять себе подобную доброту, он был глуп, когда увозил этого Борджиа. Не в его положении быть добрым самаритянином. Ну что ж, теперь он исправит свою глупость. – Вы не против среды, сеньор Караччиоло?
– Ну что вы, – венецианец качнул своей бархатной шапочкой в знак согласия, – разумеется, среда – прекрасный день.
Однако, прибыв в Азуэло, они застали там сеньора Арнольфини, вернувшегося досрочно. Тот находился в постели – по словам слуг, их господин упал с лошади, вполне удачно, но ногу сильно поранил острым торчащим куском корня.
Сеньор Арнольфини был зол и раздражен, дичи они не привезли, да еще это падение. Он злобно ворчал на слуг, на жену, на осматривавшего рану коновала, единственного в замке, кто был сколь-нибудь сведущ во врачебном искусстве.
Если бы был сын, думал Арнольфини, если бы Стефано был сейчас здесь… И снова накатилась эта злость – на себя, на сына, на жизнь. Мутящая разум злость, отдающаяся дергающей болью во всем теле.
========== Глава 15, в которой умирают двое хитрецов, а остальных тянет в Матамороса ==========
Бывает ли что-то более непредсказуемое, чем погода? Тем более, досточтимый слушатель мой, погода весенняя. Сколь раз посреди мартовского солнечного дня налетает пронзительный холодный ветер, и март тут же становится ноябрем. Сколь раз апрельское горячее тепло сменяется покалывающей кожу прохладой, а в конце апреля-начале мая наступает время внезапных гроз и затяжных дождей с резким ветром, от которых деревья превращаются в неистовых ведьм, машущих космами в буйном ритуальном танце.
И дожди, говорю я тебе, бывают внезапны и непредсказуемы, превращая дороги с непролазную топь. Но дождь, упавший на Наварру в последние дни апреля, был странен даже для непредсказуемости погоды – словно кто-то подвесил большую тучу над землями от Логроньо до самых предгорий и сказал ей “Виси и лей!”
Нати даже казалось, что дождь охраняет их дом, как верный старый пес. Чезаре медленно приходил в себя после малярии – именно так определил его недуг многоопытный дон Иньиго. Но душевное здоровье его, кажется, серьезно пошатнулось – он был тих, по целым дням мог не говорить ни слова. Казалось, он погружается в пучину тишины. И это было страшно. Как-то раз Нати рассказала ему про хину, излечивающую от малярии – то немногое, что знала сама.
– Хинное дерево растет в Новом свете,.. Чезаре. – Он чуть заметно кивает, не то усваивая информацию, не то поощряя за наконец усвоенную манеру называть его без титулов.
– И как скоро оно прибудет в Европу?
– Я не знаю.
– Наверное, нескоро.
За окном монотонно шелестит дождь, серые тени ходят по бледному лицу, серо-голубые, светлые почти в белизну глаза, прежде светившиеся как у волка, сейчас почти в цвет тем самым серым теням.
– Возможно, мне стоит самому отправиться за море. – В этой фразе нет ни вопроса, ни утверждения, все слова – словно дети, оставленные без присмотра интонации и выражения.
***
“Люди знают меня лучше, чем я сам себя знаю. Например, все верят в то, что я убил Хуана. Нет, я его не убивал. Но все знают, что я мог бы это сделать. Если бы чуть больше поддался гневу. После этого людям было несложно поверить, что именно я убил Альфонсо ди Калабрио, второго мужа сестры.
Сейчас я думаю, что знал – все кончится плохо. Еще когда уезжал от Лукреции после ее свадьбы. Возможно, если бы я перекинул ее через седло и сбежал бы, и растворился бы где-нибудь в безвестности – возможно, тогда все было бы по-другому. Но тогда я малодушно выбрал славу.
А когда я достиг вершины, то понял, что не вижу смысла за нее цепляться”.
Его слушают. Слушают поглощенно, со вниманием – так, как слушают себя.
Из маленького окошка верхнего этажа, низкого, похожего на мансарду, едва можно разглядеть кусок двора и залитую дождем дорожку, убегающую к виноградникам. Дальше взор закрывает высокий одинокий тополь, его большие листья поникли – едва утихший сейчас ливень прибил их, они повисли, как мокрые тряпки. Из маленького окошка он видит Нати, разговаривающую с каким-то парнем. Его лица не видно из-под густой неопрятной шапки курчавых волос. Он что-то говорит, долго и убедительно, Нати на миг отшатывается от какого-то его слова и начинает говорить сама – негромко, но наступая на парня, так, что тот пятится к дереву.
Парень приходит и на второй день, и на третий. Он ничего не спрашивает Нати о ее посетителе. Это не интересно. Это всего лишь еще одно обстоятельство. Как дождь, как возвращающийся то и дело стихающими, спадающими волнами жар.
***
Встречи в маленькой деревенской харчевне, где на верхнем этаже непременно имеется две-три комнатки для ночлега, встречи случайных прохожих, из которых вырастают потом диковинные события, и ветвятся, и вьются, заполняют собой повествования – такие встречи, говорю я, примета старых добрых романов о приключениях, где герой то крадется со свечой по темному коридору, то скачет при свете факелов сквозь темный лес. В таких романах подобные встречи в харчевнях уместны и нужны. Но что же я могу поделать, досточтимый слушатель мой, если и в нашей истории имела место подобная встреча?..
Возомнивший себя хитрецом дворянин и плутоватый наваррский селянин, отслуживший солдатом и управляющийся с алебардой едва ли не лучше, нежели с мотыгой, столкнулись в маленькой деревенской харчевне. Первого, – ты ведь не слишком удивишься, внимательный слушатель, если я скажу тебе, что это был Джан-Томмазо Караччиоло? – загнал туда поднявшийся ливень, второй же, – а им был так же знакомый тебе Густаво, – приходил сюда ежевечерне пропустить кружку гретого вина, который жуликоватый хозяин хоть и разбавлял, зато не жалел туда меда с собственной пасеки.
Между хитрецом и плутом завязался разговор – сперва ничего не значащий, как капли дождя за окном, а после переползший на военную службу, на последние события в Наварре и на то, чем все это может кончиться. Не следует думать, что венецианец и васконец говорили как равные, о нет – Густаво прекрасно знал свое место. Но тем не менее разговор вышел небесполезный для обоих.
– А не пойти ли тебе ко мне служить, добрейший Густаво? – Караччиоло, сказав это, выжидательно вытянул голову. – Человек ты холостой и свободный, и голова у тебя на плечах имеется. Кроме того, теперь тебе и заняться нечем.
Густаво из разговора раскумекал, что венецианец не просто так оказался в деревеньке, и решил согласиться для виду, чтоб посмотреть, что из этого выйдет.
– Что ж, это можно, ваша милость, коли в плате столкуемся.
Прошло еще некоторое время, и хозяин заправил светильники, и дождь не прекращался. Новоиспеченные хозяин со слугой переместились в одну из тех самых комнаток на второй этаж. И тут Караччиоло заговорил о предмете своего интересе. Густаво, с лицом сонным, полным тупого крестьянского равнодушия, с каким люди слушают то, что их не особо занимает, слушал об охоте, которую открыл этот человек. Однако равнодушие это было ложным, притворным – редко когда Густаво проявлял столько острого внимания.
– Я, сеньор, хоть и служил в войске короля Наварры, Эль Валентино никогда не видел, – отвечая на немой вопрос нового хозяина, сказал Густаво. – Другое дело мой приятель…
– И не надо видеть, – ответил Караччиоло. – И не надо тебе его видеть, добрейший Густаво. Что лица – это рagliacci, маски. У меня есть более надежный способ узнать того, кто мне нужен. И вот тогда… – он прикрыл глаза, – я буду удовлетворен. И пополню мошну – свою, да и твою заодно.
И Караччиоло, на которого вино с медом также оказало действие, рассказал о ране, которую получил в бою Борджиа. Правый бок подмышкой, ребра. А Густаво живо вспомнил, как болезненно поморщился оборванец, которого Нати подсаживала на мула, когда она подтолкнула его в бок. Правый бок.
– Как вы можете быть уверены, ваша милость, что он жив? – решился он спросить.
– Слишком все неясно с его смертью. Такие просто не уходят. Я это знаю. Я чую, что он жив, – пробормотал венецианец. По его красивому лицу пробежала судорога. – Такие люди, как заноза – вонзится и болит… болит годами.
– Больно тонко это для меня, ваша милость, – зевнул Густаво. Караччиоло издал жесткий смешок.
– С тебя довольно будет знать, что этот негодяй жестоко оскорбил жену моего брата, и я поклялся, что он за то заплатит. Наш спор закончится смертью – его или моей. И вознаграждение от его святейшества и от короля Арагонского тоже на дороге не валяется. Да и делить его… – венецианец замолчал. – Давай-ка спать. Утром, даст Господь, дождь утихнет, тогда проедемся по округе. Где-то тут его прячут, чует мое сердце. От берега Эбро, леса, про который солдаты мне говорили, только сюда доехать можно настолько быстро, чтоб не помер раненый. И дорога оттуда хоть узка, но проезжа.
Было уже около полуночи, когда господин Караччиоло изволил лечь почивать. Клопов в маленькой комнатушке было не слишком, а самая малость – в самый раз, чтобы и спать спокойно, и чувствовать себя живым. Нехорошо, когда клопов совсем нет, говорила покойная матушка. Коли уж и клоп в доме жить не хочет, чего человеку в нем делать.
Густаво лежал, прислушиваясь к дыханию спящего человека. Где-то мышь грызла сухую корку, шелестел дождь, уже едва слышно. Густаво прикрыл глаза и ему причудился тонкий ровный звук, будто жалоба или порвалась струна и все продолжает звучать. Тонкий с переливами, звук этот был едва слышен и призрачен, так что Густаво верил и не верил своим ушам. В этом звуке вдруг стало переливаться шелестение – металлическое шелестение и позванивание монет, пересыпаемых из рук в руки. От монет шел жар, словно они были женщиной, и Густаво почувствовал, как этим жаром наливается его тело.
Густаво сбросил плащ, которым укрывался, и бесшумно поднялся. Тени скользили по потолку, по стенам, на столе в углу шипела и плакала, догорая, свеча – хозяин велел не тушить. Боится темноты его милость? Густаво встал во весь рост – венецианец раскинулся на постели, ссунувшись с подушки и чуть запрокинув голову, так, что открылось горло, дышал тяжело, подхрапывая. Губы его приоткрылись и все лицо оплыло – вино здешнего харчевника имело действие губительнейшее.
И снова раздался тот звук, снова монеты зазвенели, нежно и соблазняюще. Густаво вдруг показалось, что звон отдаляется, его отбирают. Отбирают, у него?
Ты ведь не слишком удивишься тому, что произошло далее, внимательный слушатель мой? Грубо и просто. Подушка, зажавшая нос и рот Караччиоло, забившиеся в удушье ноги. Шалишь, не вырвешься! Путь вниз по узкой темной лестнице с бесчувственным телом. Харчевнику заплачено вперед, думал Густаво. Он не в убытке.
Дождь уже закончился и в разрыве туч сочился свет полумесяца. Конь сеньора Караччиоло всхрапнул, приняв на себя двоих всадников. Густаво стоило труда усадить мертвеца перед собой – чтобы хозяин харчевник или его домашние, если видят это, думали, что мертвецки пьяного дворянина увозит в более безопасное место верный слуга. Увозит живым.
А завтра он пойдет к Нативидад для окончательного разговора. Нечего ей юлить и отговариваться лихорадкой, которой якобы болен этот родственник ее дядюшки. Понадоба будет – он, Густаво, и дядюшку прижмет, что ему. И звон будто тоже соглашался с Густаво, становился чище и нежнее.
Тонкий звон сопровождал Густаво всю дорогу до зловонного болотца, куда он, предварительно обыскав и сняв кошелек, сбросил тело злосчастного Караччиоло. Жив ли, нет – упал лицом вниз в болотную жижу. Лицо первым объедят слизни да болотные гады, так что никто не признает.
Густаво вывел коня на дорогу, взобрался в седло и поехал к сторону Матамороса. И весь путь его сопровождал тонкий и нежный серебристый звон монет.
***
“Мир – это стол со множеством поверхностей, которые лежат невидимо друг от друга. И живущие на каждой убеждены, что она единственная. Лишь очень немногие умеют сверлить в этой столешнице дырку”.
Когда в сказках герой приходит к ведьме, она непременно чует его, едва он переступает порог ее дома. Однако у нас нет ни героя, ни ведьмы. Рыжеватый парнишка с рожком никак не тянет на героя, а васконка без возраста, жилистая и в движениях текучая как вода, не слишком тянет на ведьму.
Но они чуют, чуют друг друга, как чуют соперники – сторожкие шакалы или ласки, пьющие горячую кровь. Охотничьи угодья оказались в опасной близости друг от друга, сползлись, как сползаются два кровавых пятна.
– Ты пришел, мальчик с серебряным рожком?
Хосефа говорит вполне обыденным тоном, будто раздумывает взять осла в хозяйство. Рожок – вот что приманило ее. Он и сам знал, что на рожок сползаются не только змеи.
– Ты ведь и сам знаешь, что по иному я до него не доберусь. Он прислал сюда этих девочек, а я отошлю их обратно. Чтоб они сделали то, что я им велю. А каков твой интерес во всем этом?
– Я просто люблю наблюдать за людьми, – кошачья короткая улыбка, вспыхивают оттенком не то каленого ореха, не то болотной тины широко расставленные глаза. Непонятные глаза. Даже Хосефа не может выдержать его взгляда.
– Наблюдать и ничего не предпринимать?
– Да, – Лисенок касается кончиками пальцев стола, у которого сидит Хосефа. Стол стар и поверхлость его лоснится от тысяч пальцев, касавшихся его, но под пальцами Лисенка он вздрагивает от удовольствия, будто живое существо.








