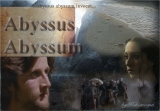
Текст книги "Abyssus abyssum (СИ)"
Автор книги: Кшиарвенн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Однако по пути мадонна Доротея была похищена. Долгое время о ней не было ни слуху, ни духу, однако два года спустя кузен Джованни прослышал, что она скрывается в одном из монастырей. Скрывается, подумайте, от собственного супруга!
Все это время монна Доротея пробыла любовницей Эль Валентино, рассказывал далее Караччиоло. Тот передал ее потом испанскому капитану, с которым плутовка крутила шашни еще в Урбино. Однако капитана убили, и лишь это вынудило прелестницу уйти в монастырь.
– Монну Доротею вернули законному супругу, однако сердце бедняжки было разбито этим негодным Борджиа, – Джан-Томмазо заскрежетал зубами – ярость, прорвавшаяся сквозь все сорок луковых одежек коварства, была неподдельной, и Мартин спросил себя, не положил ли еще прежде сам Караччиоло глаз на жену кузена. – Она прожила в браке всего два года и умерла. Умерла родами, – добавил Джан-Томмазо – слишком поспешно, чтобы в это можно было поверить.
– Веский повод для мести, – кивнул Мартин. – Однако для меня гораздо более веский повод – семь тысяч дукатов, которые, как я слышал, его святейшество назначил в награду.
Мартин блефовал. Он и понятия не имел, какую сумму и кто именно обещал Караччиоло. Десять тысяч дукатов – сумма, которую папа предлагал за голову Эль Валентино сразу после того побега из Кастильи. Сейчас же, по разумению Мартина, сумма должна быть ниже – все-таки все считали Борджиа мертвым, а обещать десять тысяч за мертвеца казалось несколько расточительным.
– Ваших – три тысячи, – коротко ответил венецианец. – Неплохо как для цены за мертвеца?
“Неужели есть еще такие милосердные охотники?” – прозвучал в ушах Мартина голос Кристабель.
– Неплохо, – кивнул бывший наемник. – Половина вперед.
– Согласен, – кивнул Джан-Томмазо.
Я забочусь лишь о себе. И о ней. Это чертов Борджиа может броситься во Вьяну – как в ту треклятую ночь бросился за нами в погоню. Очертя голову. А потом вряд ли ему достанет стойкости не проговориться о человеке, вытащившем его из того побоища. И тогда прости-прощай все планы. А вот ты… Ты мне здорово мешаешь, парень, подумал Мартин, смотря на венецианца с довольной улыбкой. Ты, итальяшка, мне мешаешь больше, чем Чезаре Борджиа. Так что я уж, знаешь ли, присмотрю за тобой…
– Тогда рад буду помочь вам, сеньор Караччиоло.
Комментарий к Глава 12, в которой говорится о королях, розах, крысах и волках в винограднике
(1) – Королевский Алькасар в Мадриде – несохранившееся здание, в котором долгое время находилась резиденция испанских монархов. На его месте сейчас располагается Паласио Реаль де Мадрид.
(2) – дворяне I класса имели право как обращаться к королю, так и слушать его речь, не снимая шляпу; дворяне II класса могли говорить с королём, будучи в шляпе, но когда король говорил с ними, обязаны были её снимать; и, наконец, дворяне III класса имели право как обращаться к королю, так и слушать его только с непокрытой головой
(3) – из песен вагантов
(4) – гончая или борзая собака
========== Глава 13, в которой служат поминальную мессу ==========
Не все, досточтимый слушатель, безрассудные поступки совершаются в час душевного помрачения – некоторые, напротив, совершаются в час такой поражающей ясности сознания, что почти лишаются причин именоваться безрассудными. Хотя ограниченный повседневной рутиной, взнузданный удилами пользы рассудок упорно считает их таковыми – ибо они, как кажется, идут во вред совершающему.
Таким образом появление одинокого всадника на дороге ко Вьяне может быть отнесено к таковым безрассудным поступкам. Человек в бедном потертом балахоне с капюшоном, покачивающийся на лопоухом гнедом муле, держал веревочный повод недоуздка небрежно – можно сказать, почти не держал. Порой казалось, мул идет туда, куда хочется ему, а не всаднику, настолько свободно висели поводья. Однако мул шел по дороге и даже не пытался тянуться к соблазнительным придорожным колючкам.
И для всадника кроме дороги также не существовало сейчас ничего – он взглядывал на поднимающееся из-за низких холмов по правую руку от него солнце, иной раз болезненно жмурился от слишком резкого для его глаз света. Тогда за закрытыми веками начинали ходить огненные круги, а голова делалась неправдоподобно легкой.
Когда солнце поднялось, а всадник проехал более половины пути, дорога перестала быть такой безлюдной – гнедого мула обгоняли всадники, один раз мимо прогрохотала повозка, доверху заваленная мешками и запряженная таким маленьким серым осликом, что мул не удержался и презрительно фыркнул. Но всадника его никакие проезжие не занимали.
Солнце било так, что даже капюшон не спасал его глаз. Всадник прикрывал веки и тогда видел все одно и то же – высокие светлые внутренние ребра собора в Блуа, профиль юной женщины рядом с собой, слышал плывущие над их головами “Kyrie eleison”; видел темный штоф брачного покоя и раскрывшиеся широко в первом познанном наслаждении глаза.
“Восемь раз? Восемь раз за ночь, дорогой мой? Да вы и в этом соревновании превзошли меня…”
В голове шумело, а на каждый шаг мула отчетливо отзывалась поджившая рана в боку. Ребра казались струнами, на которых играла боль – тенннь! Тенннь-теннь, всплеском виуэллы.
Девять из десяти прохожих и проезжих, что встречались всаднику на пути во Вьяну, назвали бы его безумцем, если бы узнали о его конечной цели. Если бы узнали его имя.
***
Нати устала. Только когда они выехали из Матамороса, она поняла, как сильно она устала за последние шесть-семь недель. Устала от возни по хозяйству, от ежедневности, обрушивающейся на нее авгиевыми конюшнями дел. Лисенок многое брал на себя, но каждодневная нескончаемость домашних дел убивала. Во время кочевой жизни было как-то легче.
Устала от крови и гноя, от стонов, от этих “вверх-вниз” – когда вот уже, кажется, перелом, и ослабевшее от боли, измученное каждодневными перевязками и лихорадкой человеческое существо начинает оживать, а потом наступает спад, и снова искусаны до черноты губы, так что во время перевязок приходится вкладывать ему в рот обернутую чистой тряпицей палочку.
Но более всего устала она бороться с раздвоенностью своего существа. Хрупкий паритет, который установился между двумя сторонами ее натуры, трещал сейчас по всем швам. Осколки памяти – здешней, памяти девушки-танцовщицы из восточной части Кастилии – все чаще пробивались наружу. В шелесте листьев ей часто чудились злобные шепотки – “марранос”. Возникало носатое лицо, обросшее полуседой бородой, глаза в добрых морщинах смотрели беззащитно, как смотрят очень близорукие люди. Родное лицо, которое размывалось огнем большого костра.
И все меньше было воспоминаний о другом теле, о нуждах и желаниях того тела. Разве что сознание оставалось беспощадно рациональным и гладким, как глянцевитые листы бумаги далекого времени, которое еще не наступило. И так же беспощадно ее тянуло к человеку, которому никак не могла быть интересна какая-то уличная плясунья. Этот человек мог оценить только знания и разум, и лишь ее нездешнесть будоражила его любопытство.
Каждодневные сражения с собственным сознанием выматывали хуже всего. Разве что краткие отлучки в деревню давали возможность вздохнуть свободнее – и то не надолго: сосущее беспокойство не отпускало ее далеко от раненого. Да еще еженедельные обязательные посещения церкви – на этом настаивал дон Иньиго. Лисенка он, правда, почему-то к мессе ходить не заставлял, а вот Нати приходилось почти каждое воскресное утро проводить в маленькой деревенской церкви. Чезаре Борджиа – “Вито де Ла-Мота”, даже мысленно Нати всегда педантично поправляла себя, – наконец пошел на поправку, так что она могла отлучаться на более долгое время.
Как так получилось, что при выходе из церкви с нею завязали знакомства сразу двое молодых людей, Нати решительно не понимала. Держалась она всегда очень скромно, одевалась бедно (хотя дон Иньиго, со времени появления в Матамороса раненого обращавшийся с нею с удивляющей Нати деликатностью и выдававший ее за свою племянницу, и настоял на покупке нового платья – специально для воскресений). Скорее всего, руку к знакомству приложил священник, который прилежно пас свое маленькое стадо. Для него появление двоих холостых парней – а молодые люди были солдатами, оставившими теперь службу у короля Наварры, – приравнивалось сразу и к потопу, и к засухе. Очевидно, добрый пастырь рассудил, что бедная девушка с отдаленного виноградника сможет как-то отвадить этих жеребчиков от более благонамеренного стада.
Итак, бывшие солдаты свели знакомство с бывшей уличной танцовщицей, думала Нати. Звучало, как начало пошлого рассказа. Однако Густаво и Кулачо (полное имя его было Николас) оказались вовсе не вечнопьяными грубиянами с единственной целью – залезть под юбку. Уж таких-то Нати навидалась. То ли они считали, что дон Иньиго не оставит “племянницу” в случае ее замужества, то ли кто-то внушил им эту мысль, но ухаживать за нею парни принялись всерьез. По словам Густаво, они с приятелем – оба были из одной деревни на севере Наварры, – решили не возвращаться домой, а осесть южнее.
А что, думала Нати, восседая на краю повозки – может, и не такая это плохая идея. Она посматривала на Густаво – более рассудительного и серьезного, – и думала, что заиметь такого спутника жизни в этом мире было бы не так уж скверно. И вот сегодня она приняла приглашение Густаво и Кулачо поехать во Вьяну на ярмарку. Для того, чтобы поездка не выглядела такой уж легкомысленной, они пригласили еще и Марту, разбитную вдовушку, которая также прибыла в деревню недавно. Она служила во Вьяне какое-то время – “прислуживала знатной девице”, как не без гордости сообщала Марта всем, кто желал слушать. С Нати Марта, правда, поделилась сердечной тайной – был у нее там капитан графской стражи. Об этом капитане Марта говорила с неприкрытой тоской, но подробностями, несмотря на болтливый нрав, не делилась. “Тебе не понять, – сказала она как-то. – Это как, знаешь, луну в пруду ловить. Думаешь, вот она, матушка, рядышком. Ан нет, не достать, хоть и близко – одна тина в руках”. В последнее время Нати все чаще припоминала эти слова Марты.
И вот они едут – едут веселиться. Хозяйственный Густаво нанял повозку и осла, туда уложили немного провизии, Марта уселась впереди вместе с Кулачо, а Нати с Густаво – сзади. Выехали они не слишком рано, но с таким расчетом, чтобы успеть поглазеть на долженствовавших прибыть во Вьяну короля, французскую графиню и прочих знатных людей. Лисенок остался в Матамороса, обещая приглядеть за Борджиа, который с утра взял Пепо и уехал прогуляться по окрестностям. “Приглядеть”, впрочем, сильно сказано, уж кто-кто, а Чезаре Борджиа всегда будет поступать лишь по собственному разумению.
***
“Ты нарцисс… – голос отца хлещет наотмашь, как пощечина. – Нарцисс, влюбленный лишь в свое отражение…”
В голове шумит все сильнее, воздух вокруг дышит пламенем. Его некому было остановить, когда утром он выезжал из Матамороса. Он сказал что проедется по окрестностям и скоро вернется. Ни Нативидад, ни Берт, которого она звала Лисенком, не стали его останавливать – хотя последний определенно не поверил этому “скоро”.
Мул под ним идет степенно, неторопливо, почти торжественно, и городские стены надвигаются на него как рок. Они будут там – во Вьяне, в соборе Святой Марии. Они будут там… Шарлотта и Луиза, его дочь. Которой он никогда не видел. Болтуна-француза, говорившего, что малютка родилась с уродливым пятном на лбу, нашли повешенным, с выколотыми глазами и отрезанным языком.
Небо, яркое и синее, еще не изнуренное жарой, как он. И все же безжалостное, как безжалостен и напоенный ароматом апельсинов, нарциссов и еще чего-то столь же свежего и живого весенний воздух. Небо покачивается и становится темнее, ýже – это город, это его стены обступили, сжали небо в своих тисках. “Вьяна – странное место, оно смиряет даже великих людей…” Он несколько раз с усилием зажмурил и разжмурил глаза, стараясь вернуть ясность восприятия. Зазнобило, несмотря на жару и накаленный воздух.
Небо, сжатое домами и стенами, качнулось, когда он сполз со спины мула, немедленно принявшегося выискивать что-то между булыжников мостовой, и сел у стены. Надо только немного передохнуть – дорога вымотала его. Надо только передохнуть…
Он не знал, сколько просидел под грязной стеной. Несколько раз мягкий замшевый храп мула тыкался в его щеку, но сил открыть глаза не хватало. Солнце уже поднялось и хлестало, не согревая, а опаляя.
“Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы…”
Он еще жив! И молнии, те самые молнии, что хлестали в дождливую ночь под Вьяной, не достали его. Он жив!..
“Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, – отвечает жгучее небо. – Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: “Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города её, пленников своих не отпускал домой?”
Разве он не отпускал пленников домой? Кроме тех негодяев кондотьеров – Орсини, Вителоццо, Фермо… Жара… Такая же была, когда они шли по земле неаполитанского королевства. И как потом гудели мухи над заваленным трупами римским цирком Капуи… мириады мух… Повелитель мух, Вельзевул – если это ты, твой час еще не настал…
Все больше мелькает мимо него ног, колес. Не надо смотреть. Надо лишь набраться сил – бродяга в обтрепанных лохмотьях, кто будет обращать сейчас на него внимание? Он должен увидеть их. Просто увидеть. Это нужно, это необходимо – отчего так, он не знал. Но осознавал эту необходимость с беспощадной ясностью.
Перед глазами из неясного марева сложилась мадридская площадь. Вот грузный человек с невероятно легкими движениями садится в карету – и падает под ударом кинжала безумца. Безумца, которого на короля Испании натравил он, Чезаре Борджиа. Удар вышел скользящим, безумца схватили, и хоть Чезаре прикончил его, вырвавшись неожиданно к державшим сумасшедшего солдатам, затеряться в толпе ему не удалось.
Если он сейчас обнаружит себя – не будет ли он выглядеть так же жалко, как тот сумасшедший? Или того хуже – как двенадцать лет назад, после возвращения в Рим из крепости Марино. Из ада, где навсегда осквернили его тело и душу. И снова послышался отвратительный смех Маркоантонио Колонны, и беспокойное ржание мула отдалось в ушах жутким предсмертным стоном заколотого Колонной его вороного Акция…
Озноб и слабость отпустили или воспоминание о Колонна придало сил – он встал, держась за стену, и, пошатываясь, двинулся к собору. Сегодня на заре, готовясь ехать, он казался себе полным сил, почти здоровым, но первые же полчаса дороги развеяли эту иллюзию как утренний туман. И эта мелодия… Почему так врезалась мелодия, которую играл сегодня утром этот вихрастый оболтус Лисенок – от этой мелодии сердце стиснула такая тоска, что даже свежий и пряный весенний рассвет потускнел и будто лишился красок. И он едва не отказался от мысли отправиться во Вьяну. Едва не… А потом вспомнил темные глаза маленького Джироламо – почему-то сейчас сын вспоминался таким, каким его привел Микелотто. Сколько же ему было? Полтора, около двух? Темные, как вишни, глазки смотрели с безграничным доверием, от которого становилось почти больно.
Возок прогрохотал по камням мостовой, и проплыл перед взглядом такой знакомый герб – золотые лилии на королевской лазури и красный бык Борджиа.
От колокола где-то там, в соборе отлетают осколки звуков, бьют, бьют, отдаваясь гулом в ставшей странно легкой голове – это полдень. Час шестый. И бьет, бьет солнце, врывается в трещину между стенами и валится всей жгучею массой прямо на него. И тысячи тысяч слов, вопросов и ответов прихлынули, затопили его, и ударил ветер. Казалось, ветер снес, сдул всю способность держать себя в руках.
Он задрожал, ощутив вдруг себя на краю бездны, борясь с нахлынувшим не вполне отчетливым, но сильным ощущением – проведена черта между “было” и “будет”, предстоит вступить в область, где нет ни “было”, ни “будет”, где царит вечное “есть”.
Солдаты оттеснили толпу, и он увидел только две фигурки в черном – высокую и маленькую, выскользнувшие из возка и прошедшие в собор. Шарлотту он узнал по той особой оленьей грации, которая отличала ее. Правда, сейчас движения ее были скованными, будто у сокола со спутанными ногами. Лица девочки разглядеть не смог – все расплылось и стало нечетким, как бывает, когда ныряешь с открытыми глазами.
***
На ярмарке Густаво купил Нати пару медовых лепешек и бусы из осколков горного хрусталя. Бусы выглядели бедненько, но отчего-то Нати необыкновенно растрогалась. Густаво осторожно обнял ее за талию, и она не особо возмутилась, ощутив его широкую ладонь у себя на бедре. Однако пристойность требовала опустить глаза, а потом выразительно взглянуть на Густаво – и ладонь сразу переместилась выше. Не самый худший вариант, думала Нати, прожевывая приторную, с запахом подгоревших орехов лепешку. Не самый худший, безусловно. Надежный, как вкус простого пресного хлеба.
К полудню они заняли очень хорошее место – повыше, так, чтобы можно было разглядеть всех знатных особ, прибывающих на торжественную заупокойную мессу. Что-то в глубине души Нати шептало о вопиющей несообразности этой мессы, служащейся по живому человеку, но ясное рациональное сознание уверяло, что все это пустяки, не стоящие внимания.
Проехал возок, окруженный солдатами в цветах наваррского короля – красно-зелено-желтых. Нати хорошо помнила эти цвета еще по Олите – конечно, не обязательно Густаво об этом знать. Да и ей самой хорошо бы поскорее предать забвению все, бывшее в Олите. Джермо, Урзе и Бьянка, сгинувшие в застенках Супремы – при мысли об этом перед нею вставало то самое доброе морщинистое лицо, которое стирали языки пламени, и стискивало горло. Лицо ее отца. Стискивало как сильной рукой, как тогда стиснул страшный человек, по котором сегодня служат мессу. “Держал в руках и мир и войну” – донеслись из чрева собора слова короля – в собор пускали только дворян, простой люд солдаты оттесняли на улицу. Нати хорошо видела подъехавший последним возок с неизвестным ей гербом – она узнала только французские лилии.
– Госпожа Шарлотта… герцогиня Валентинуа… – зашептались вокруг.
Из возка вышли высокая дама в черном и девочка лет восьми, также в трауре. Перед собором дама откинула с лица темную вуаль. Лицо с тонкими чертами и плотно сжатые губами показалось Нати не слишком красивым – и она поймала себя на том, что почти обрадовалась этому своему впечатлению. Однако двигалась дама с удивительной грацией, будто плыла над землей. Девочка же, подумала Нати, ни в мать, ни в отца – она живо вспомнила лицо Чезаре. У девочки же был плоский лоб, глаза чуть навыкате и короткий приплюснутый нос. И большое винно-красного цвета родимое пятно на середине лба, которое не вполне скрывал даже темный головной плат.
“Exaudi orationem meam,
Ad te omnis caro veniet”(1)
– донеслось из собора стройное пение.
– Нехорошо. О таком нечестивце молиться в час шестый, когда должно вспоминаться о муках Господа нашего Иисуса Христа, – услышала Нати глуховатый осуждающий голос. Осуждающий, впрочем, походя, без сердца.
– Не нашего ума дело, – отозвался второй голос. – Поминают – значит, так надо.
На говоривших зашикали. Нати пыталась расслышать пение – пели в соборе чудесно, но наружу доносились лишь отдельные фразы. Помимо воли в ее сознании возникли пронизывающие тоской моцартовские пассажи – когда-то, в том “когда-то”, которое почти исчезло, любовь к подобной музыке приходилось скрывать в ее… в его кружке, как едва ли не постыдную странность.
“Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla”(2)
День гнева – так, кажется, это переводится. Для Борджиа это был, верно, и впрямь день гнева – Нати вспомнила израненное тело, каждый дюйм которого она успела изучить за полтора месяца, вспомнила обрывки фраз, стоны и проклятия, срывавшийся с его губ в бреду. Больше было проклятий. Только одно имя он произносил почти с благоговением – будто прибегая к нему, как к последнему утешению, когда уж совсем одолевала боль и не было никаких сил терпеть – “Лукреция”. “Лукреция!..” – вышептывали обметанные жаром искусанные губы. Так, наверное, вышептывают молитву. Но Нати не верила в богов и молиться не умела. В церкви во время мессы она старательно повторяла то, что делали все, на исповеди, предварительно все разузнав у Лисенка, заученно проборматывала “Простите меня, святой отец, ибо я согрешила” – не испытывая при этом почти ничего. Разве что легкий холодок порой пробегал по позвоночнику.
“Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis”(3)
На этом месте, кажется, Реквием Моцарта взрывался тромбонами и фаготами, и этим взрезающим грудную клетку прерывистым битом струнных, ударных и духовых; и мужские голоса обрушивали на внимающих сразу всю бездну божьего гнева. Здесь такого впечатления не достигалось, но все равно Нати стало казаться, что струящиеся из открытого церковного портала голоса и звуки органа вспахивают ее существо, словно поле.
Дальше у Моцарта шла знаменитая “Лакримоза” – “слезовышибалка”, как сказал когда-то Лоуренс, когда их занесло на концерт университетского оркестра. Интересно, как оно будет здесь?
Но услышать “как оно здесь” Нати не пришлось – прямо за ухом послышался тяжелый вздох, ухо и затылок обдало струей горячего воздуха. Недовольно обернувшись, Нати увидела прямо за собой гнедую морду Пепо. Совершенно непонятно, как мулу удалось так деликатно раздвинуть народ и пробраться к ней, не вызвав ни у кого ругательств.
– Ишь, к хозяйке видать пришел, – одобрительно сказал сзади тот же глуховатый голос.
Забыв и о мессе, и о Моцарте, и даже о стоящем рядом Густаво, Нати встревоженно гладила мула, шаря глазами по толпе. Мул был один.
– Густаво, прости… я должна… – на ходу пробормотала она, берясь за недоуздок. Что-то говорил ей в спину Густаво, ему вторила Марта, но Нати почти не слышала их. Господи, да что же… да зачем же его сюда-то понесло, едва не вслух шептала она.
Пепо ожидаемо проявил способности собаки-сыщика – едва Нати взялась за его недоуздок, он мотнул головой и уверенно повел девушку сквозь толпу, к началу улочки. Там, у самого поворота, сжавшись в комок, сидел тот, кого отпевали сегодня во Вьянском соборе.
– Вставайте… – Нати принялась тормошить сидящего. Конечно, в этих отрепьях, босой, с коротко обкромсанными овечьими ножницами волосами, он вряд ли может быть узнан, но все же Нати едва удерживала дрожь, думая о последствиях его поступка.
– Ну же… – Ей удалось поднять его, но как теперь?
– Что, красавица, муженька-то развезло? – ударил по ушам голос. И тут же его накрыл возглас Густаво: – Вот ты где!
– Густаво, это дядюшкин родственник, с головой у него не все в порядке, – скороговоркой проговорила Нати. – Развезло дуралея, а скотина наша умная пришла меня на помощь звать. У, погибели на тебя нету! – с почти непритворным гневом крикнула она Чезаре.
Неизвестно, услышал он ее или нет, но лицо его приняло идиотское выражение, он хрипло пробормотал площадное ругательство и ухватился за луку седла. Густаво же продолжал допытываться, отчего раньше про этого родственника ни она, ни дядюшка не говорили.
– А ты много, что ль, с дядюшкой Иньиго говорил? – рассердилась Нати. – Думаешь, про такого родственника так уж приятно всем и каждому рассказать?
Кажется, это Густаво убедило. Он принялся помогать ей усадить Чезаре в седло. Только бы скорее подальше отсюда, думала Нати – не ровен час, все-таки узнают. Хоть бы глаза он не открывал, что ли…
– Давай-ка помогу до дому его довезти, – решительно сказал Густаво. Нати вздрогнула – только этого не хватало! К счастью, Кулаче тоже не слишком понравилась эта мысль – Густаво как раз накануне проспорил приятелю пару серебряных монет, и сегодня Кулаче надеялся погулять за чужой счет. Он с жаром заговорил о том, что дорога нынче хороша, а с такой умной скотиной Нативидад не пропадет.
– Сама справлюсь, гуляйте себе, – притворяясь рассерженной, сказала Нати, беря Пепо под уздцы.
***
Часто бывает, что взгляд человека врезается в память так, что уж никакими силами оттуда его не стереть. И самого-то человека можно не помнить, но взгляд его остается с тобой, и буде встречен, живо напоминает о том первом впечатлении, которое произвел.
Так вот, досточтимый слушатель, случилось и с Кулаче. Лишь на миг приоткрыл глаза оборванец, которого и не отличишь от десятков и сотен шатающихся по дорогам, и которых Кулаче удалось повидать довольно за его солдатское житье-бытье – и уже что-то знакомое всплыло в памяти. Но тут подошла Марта, заговорила, заболтала, и память, словно испугавшись ее болтовни, свернулась калачиком и затихла.
Хмурый Густаво, клявший на чем свет стоит и дядюшку Иньиго, и его родственника-дурака, и коварную Нативидад, пил кружку за кружкой в трактирчике, куда они забрели под вечер. Марта, также хорошо успевшая наклюкаться, визгливым голосом описывала увиденные на знатных дамах платья и все приставала к Кулаче, спрашивая, какое из них ему больше всего понравилось.
– А ведь ты должен был его видеть, – Густаво, задремавший было над кружкой, неожиданно проснулся.
– Кого? – в два голоса переспросили Марта и Кулаче.
– Кого-кого – Чезаре Борджиа, – плывущим от хмеля голосом отозвался Густаво. – Ты ж в том отряде был, что пошел под Вьяну.
– А как же! – самодовольно отозвался Кулаче. – Я-то с алебардой был, в ближнем к нему отряде. Ох, его милость Валентино – как он сходу Вьяну-то взял! И жители его встречали цветами – да и как иначе? В черном весь, лицо светлое – как есть гнев Господень. Бабы особенно любовали, – подмигнул он Марте. – И когда с графом вьянским у цитадели переговоры переговаривали – я там тоже был. Тот граф, помню, маленький, нос крючком, одно счастье – бородка коротко да ладно подстрижена. Но такой жук, хоть и нашему-то едва по плечо будет. А его милость Валентино с коня слез, значит, и такой походочкой, что твой кот перед тем, как на мышь-то прыгнуть, к нему подходит. Да, из себя красавец, волос темный, а глаза…
Он задумался – что-то вскинулось со дна памяти.
– А глаза-то точь-в-точь как у того, которого Нати домой забрала, – выпалил вдруг он. – Светлые, волчьи.
Марта прыснула. Густаво фыркнул в кружку, так что оттуда выхлюпнулось немного вина.
– Чего ржете? – прикрикнул на них Кулаче. – Я как есть говорю – похож. Как есть похож тот пьянчуга на Эль Валентино.
– Тишше, – шикнула Марта – на уж них начали оглядываться.
– М-да… – задумчиво протянул Густаво. – Кот перед мышью – а мыши-то его и загрызли.
– А ведь папа за его голову бо-ольшие деньги сулил, – шепотом проговорила Марта. – И король арагонский тоже от себя обещал…
Густаво при этих словах вздрогнул. Десять тысяч дукатов… Да даже если выплатили б в римских скудо – все равно гора деньжищ.
– Вот не вру, достоверно знаю – прибавку обе… – продолжала Марта – и вдруг замерла, вперив взгляд в двоих дворян, тянувших вино чуть поодаль. Люди, подумал Густаво, не слишком значительные – щеголек-молодчик в бархатной шапочке с плутовским взглядом да тертый калач, из северян, видно. Шевелюра светлая, глаза с неуютным прищуром. Однако же бабы таких любят – недаром Марта в стойку встала. Бедный Николас, пожалел приятеля Густаво, придется ему натерпеться с этой прошмандовкой.
– Закажи еще вина, – он швырнул Кулаче монетку и встал. Вот теперь в расчете – пусть дальше гуляют сами. Кулаче, видно, было уже все равно, куда направился дружок – он ворковал с Мартой, которая то и дело оборачивалась на дворян.
Сказанное Кулаче не давало ему покоя, Густаво припоминал оборванца, о котором так беспокоилась Нати – а лицо-то вполне благородное, только исхудал да глаза запали. Но как глаза-то он открыл – и правда, что твой волк. Волосы обкорнаны не по-благородному – но волосы что? Волосы отрастут. Дядюшка Нативидад, видать, и впрямь жук…
Десять тысяч дукатов… Он подумал о Нати, потом о родном селе, пропахшем овцами, навозом и кислым овечьим сыром. Нати что, она не помеха. Она девушка умная, и коль дядюшка ей голову задурил, так он, Густаво, ей голову раздурит.
Вот так, досточтимый слушатель, случайная мимолетная мысль становится повелительницей судеб. Брошенный взгляд, брошенные слова – и вот уже человек захвачен мыслью. Поистине, неизъяснимое чудо! И тем более страшно становится, когда таковая мимолетная мысль меняет судьбы.
Если бы Густаво не ушел из трактира, возможно, все повернулось бы иначе. А возможно и нет, кто знает…
Возможно, Марта не вышла бы наружу, оставив Кулаче внутри и отговорившись телесной надобностью. И тогда горло ее не было бы умело перехвачено одним коротким взмахом остро отточенной даги. И грязная вьянская мостовая не стала бы влажной от хлынувшей крови.
***
“Я тень…”
Он едва не упал на дорогу – снова ударил озноб, скрутил каждый мускул. Следующее, что он запомнил – его рвало, а чьи-то руки поддерживали его голову. “Отдохнем, – шептали ему. – Хорошо? Отдохнем и дальше поедем”.
“Я превратился в тень. Скажи, ты меня видишь? Видишь? Я тень. Сквозь меня проходит солнце. Меня не узнают те, кто знает. Кто я? Кто я???”
– Тише, тише, успокойся…
– Я – Че… – ладонь ложится на его губы, зажимает рот.
– Замолчи, замолчи… Бога ради, только замолчи.
Темноглазое узкое лицо – то самое, что прорывало пелену боли и бреда. На-ти-ви-дад… Неуклюжее имя какое…
– Ну же давай, выдай меня! – злобно шепчет в эту ладонь, едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться в нее зубами. – Тебе за это хорошо заплатят. Я таких как ты…
Что там она… он… она говорила – про будущее, про то, что…
– Трус! Ты и не была никогда мужчиной, ты лгал. Надо было придушить тебя еще тогда.
Тонкие руки дрожат, только с усилием подтягивают его куда-то… ее колени под его спиной, мягкое, животное, шерстяное у второго бока… Озноб уходит.
– Разве все встречавшиеся вам мужчины были храбрецами? – голос, чуть хрипловатый, дрожит – не то от обиды, не то от испуга. – И разве все женщины были трусихами?
– Законник, черт бы тебя подрал! Всегда найдешь, что сказать.
Откинуться, ощутить под щекой сгиб локтя, руку. Он что, лежит на ее коленях? Лежит, как…
Белые высокие стены мастерской привиделись ему, мастерской Микеланджело Буонаротти в Риме… И вот так же лежит, бессильно откинутая, мраморная голова на мраморных коленях. “Обычно я не подписываю своих работ. Но эту подпишу”, – сказал Микеланджело. Неужели?..
– Но ты снова врешь – ведь не боялась же ты меня, когда просила спасти того силача! И не боялась, когда не дала вышвырнуть меня, умирающего. Я слышал почти все…








