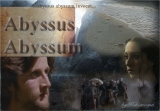
Текст книги "Abyssus abyssum (СИ)"
Автор книги: Кшиарвенн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
А кухарка, не будь глупа, возьми да и расскажи все языкатым и шумным как гусыни служанкам да стражникам, которые тоже болтать горазды. Так и поползли новости по замку Азуэло, и поползли скоро, как крысы бегут в своих тайных подземных ходах.
Страшно, страшно… Крысы ползут, бегают по телу холодными когтистыми лапками, хвосты голые волочат. Стягивают каждую мышцу, связывают каждую жилу, завязывают хитромудрым узлом, да еще скалятся в улыбке. И так скалятся, что сам Лаццаро Арнольфини не в силах не ответить им – сводит судорогой его лицо, сводит улыбкой, в которой никто бы не нашел веселья. Сводит каждую мышцу, стягивает каждую жилу, завязывает, скручивает, так что даже лежать больно, выгнуло хребет дугой, аркой над входом в ад. Гудит, гудит ад в ушах, звенят, звенят, накручиваясь на невидимые шпенечки, натягивающиеся мускулы. И не мутится в голове, и ничего-то не мутит разум, кроме тех мерзких крыс. Разве есть что-то ненастоящее вокруг? Вот и красавица Гаэтана ди Марино сидит рядом, смотрит так, как не смотрела никогда прежде… Разве это не ее глаза – зеленоватые, прозрачные как бериллы, как морские воды?
Сидит, и видно уже, что брюхата, носит во чреве его дитя. Дитя? Но ведь есть у нее дочь… есть… была… С трудом поворачивается голова, глаза живут словно отдельно от растянутого в улыбке рта, впиваются мучительно и злобно в женщину, сидящую чуть поодаль изголовья на стуле с высокой спинкой. Едва ворочается во рту язык, уже не в силах производить внятные звуки.
Любви… любви хотел он! Всего лишь любви, какой не в силах породить сам! Ей он позавидовал, увидев, как встречает его вассала, Бриана де Марино, молодая жена. Не красоты, не молодости – любви желалось ему. И разве не достойно жалости такое желание? Разве и твари, живущей в зловонной жиже, не может хотеться любви? Ее желается и ядовитейшей из жаб, той самой, чьи железы клали гнусные знахари папы Александра в тот смертный состав. Так неужели же Лаццаро Арнольфини, владетельный сеньор, не мог ее пожелать? Неужели?.. Ведь и сорняк, и трава мокрица тянется к солнцу.
Солнце… его свет теперь приносил мучения, глаза слезились. Даже голос лекаря, исправно навещавшего сеньора Арнольфини, стал казаться пыткой.
– …на третий, на седьмой или четырнадцатый день… – впивается в уши назойливый, как мушиное жужжание голос. – Прожив этот срок, больной может выздороветь…
Травы, отвары, пилюли из чемерицы и перца… Ложь, ложь, не помогут они! Снова взбрасывают Арнольфини судороги, скручивают, выгибают аркой над адскими вратами. А молодая женщина сидит… сидит… смотрит на него, и на лице ее Арнольфини не может прочесть ни любви, ни ненависти, ни страха, ни жалости. Ничего.
И в самом деле, досточтимый читатель мой, куда же делась та ненависть, что долгое время питала юную Кристабель де Марино, дочь славного рыцаря Бриана? Куда, спрошу я, скромный повествователь – ибо и сам не знаю ответа. Может, растворилась она в синем небе над Наваррой, разбелила его вместе с жарой и истаяла на летнем иберийском солнце.
Слуги шепчутся, что народ в окрестностях недоволен, что будто колдунья какая-то, что давно уже обреталась в этих краях, вконец замучила простой люд – что и молоко у коз горечью отдает, и поля с виноградниками тощи стали, а главное – змей да крыс расплодилось. И то удивительно, шептались люди, что твари эти испокон веков вместе жить не могут – ибо пожирает змея крысьих детенышей, вопьется жвалами в дрожащего голенького крысенка, обомрет тот, изогнется в муке, ротишко в писке раззявив, и обмякнет от яда. А тут смотри-ка – змеи да крысы вместе. И говорили люди, что слышится в окрестностях Азуэло, да и в деревне большой, да и в других ленных селениях тонкий далекий звук – будто где пастух на рожке играет. Только не играют пастухи ночью-то, где им. Спать надо ночью, спать – разве сова, головастая ночная птица не спит, головой ворочает и ворочает, глазища желтые таращит. Может, оттого и не спится ей, что видит скачущего в лунном свете чертенка-не чертенка, а все нечисть. Скачет да посвистывает, только вихры взлетают. Не иначе, колдуньиных рук дело.
Бурлит, бурлит народ, но в Логроньо, в трибунал святой инквизиции идти боится. И священник местный тоже боится – больно суров отец Франциск, суров как вервие на шее приговоренного к петле.
Слуги шепчутся – а Кристабель дела нет. У нее своя забота. В ночь, в ее спальне тихо-тихо льется речь, и слушает речь владетельницы замка Азуэло тот, кто пробил брешь в озере ее ненависти и спустил из него воду. Сам того не желая и не стремясь – ибо он умел ненавидеть еще получше Кристабель. Слушает он рассказ, как завороженный – о том, как жила девочка без отца и матери, о том, как потом девочка мать увидела, о том, как разожгла в себе костер ненависти.
– Я сделала почти все, что хотела… – и тут Кристабель отводит глаза. Виновато. Скорбно. Мартин понимает – она винит себя за счастье, которое поселилось в ней, в ее душе и чреве. Поселилось не благодаря ли мщению, всякий раз спрашивает себя Кристабель. Так разве не предательница она? Разве имеет право быть счастливой? Может, место ее навечно рядом с мужем, что бы с тем самым мужем ни случилось, может, это и есть плата, которую она должна заплатить за свершившуюся месть? Разве после всего, что она сделала, она может, имеет право быть счастливой? И Мартину становится страшно.
– Народ бунтует, – говорит он, наконец. – Слышно, колдунов жечь хотят. Знаешь, васконку Хосефу и ту девчонку, которую она у себя приютила. Говорят, девчонка эта сбежала от Святой инквизиции, но кто-то узнал ее.
Отвлечь. Чтоб перестала думать, чтобы взгляд, погасший было, ожил. Но Кристабель вдруг вспыхивает – розаном. Мартин и не знает, что она вспомнила, как пришла Бьянка к ней с просьбой, и как… Странно было, странно. И после того муж упал с коня и на сук напоролся, и слуги говорили, что вроде как была какая-то женщина, что тряпицей ему рану перевязала. Полно – не колдуньиных ли рук дело? Кристабель прижала обе руки к животу, будто защищая того, что обретался в ее чреве. А Мартин, внезапно испугавшись этого животного порыва самки защитить детеныша, вскочил.
– Нет… нет, ничего.
Она должна сама поехать туда! В деревню, к этим людям. Она должна остановить их. Она должна вернуть долг.
***
Мастер, укладывающий мозаику, должен уметь объединять разрозненные кусочки общей картинки лишь силою своего воображения – предсказывать, как расколется на кусочки большой пласт смальты, и сообразить, как надлежит уложить кусочки, чтобы они образовали картину. Угадывать картинку в неровных осколках расколотых смальтовых кусочков. Но ты, досточтимый слушатель мой, угадаешь ли в цветном кусочке будущую картину?
Для Чезаре было счастьем, что тело обретало постепенно былую силу и подвижность. Он способствовал этому всеми силами, упражняясь ранним утром, еще прежде рассвета. Каждый день, до изнеможения.
“Плуг”, защита; броском из “Плуга” – длинное острие, с шагом вперед. Меч взлетает и опускается, со свистом разрезая в куски по утреннему прохладный свежий воздух. Уже тянет виноградом – кисло, пряно.
Чезаре ощущал, что вместе с силой и подвижностью суставов он обретал целостность – словно укладывались в единую картину те самые частички мозаики. Пока далеко от полной ясности, лишь чувствовалось, чуялось, складывалось и сползалось.
Выпад, короткий шаг, укол. “Двурогая стойка”, бросок и разворот. Свистит распарываемый лезвием воздух.
Все было мозаикой – и долгий путь из Ла-Мота в Наварру под видом пилигримов, и происшествие в аббатстве святой Марии, и встреча с бродячими актерами, и битва под Лерином, и разговор с Мартином Бланко, и взятие Вьяны, и пребывание на краю гибели, и неожиданное спасение. И особняком в этом ряду стояло казалось бы ненужное и глупое путешествие во Вьяну к поминальной мессе.
…После того, как его армия была отброшена от Фаэнцы, Чезаре два дня пролежал в закрытом деревянном ящике с крышкой в форме острой вершины треугольника, скрестив руки на груди и закрыв глаза. Ни секретарь Агапито, ни слуги не посмели и пикнуть в возражение.
Сперва тьма и обступившая тишина лишила всех чувст, отрубила их, как отрубает секач хирурга больной орган. Однако боли не было, лишь ощущение освобождения. Тишина. Покой. Редкостный, никогда прежде ему не доступный, а потому скоро ставший пугать. Он, Чезаре, не привык к столь полновесному и всеобъемлющему безмолвию, которое скоро стало исподволь воздействовать на него, как воздействует даже самый свежий воздух на вино, превращая его в уксус. Он стал думать о прошедшей жизни, вспомнил предсказание стреги в Риме, данное в год избрания его отца папой. “Если бык не взойдет на престол – ты проживешь года Цезаря. Если же взойдет – вполовину менее”. Гай Юлий Цезарь прожил пятьдесят шесть лет. Ему самому в год взятия Фаэнцы сравнялось двадцать пять.
Темь и тишина вытесняли все мысли, и это было болезненным. Пугающим. Мучительным. Эта пустота должна была быть чем-то заполнена, и Чезаре заполнял ее нахлынувшей внезапно печалью, сожалениями и горечью. Неведомо откуда появилось все это, но волна горечи была высока, как морской прилив, и грозила поглотить его. Он недостоин, шептала чуткая тишина. Недостоин и никогда не был достоин.
Но одновременно с тем в нем росло осознание неправильности и слабости – нельзя было поддаваться этой горькой волне. И понемногу горечь ушла, оставив ощущение одиночества, силы, справедливости и чистоты. Чезаре тогда потерял счет времени и о том, что прошло два дня, узнал только от Агапито, который вместе с приехавшим как раз тогда Леонардо Да Винчи открыл крышку ящика.
Потом воспоминание об этом словно притупилось, осталось только ощущение. Силы. Хлещущего, как ветер на вершине холма, одиночества. Такого же, как нечто, прихлынувшее после поминальной мессы во Вьяне.
Во второй раз это было в Риме, когда он страдал от малярии и находился при смерти. Он тогда уже знал, что отец умер – и что власть уползает из рук, как скользкий змеиный хвост. Чезаре лежал, сжимая в горячей руке рукоять меча, и ощущал то самое хлещущее одиночество. Его затопляло, захлестывало, и тогда… Дальше случилось что-то важное, неизмеримо более важное, чем все, случившееся в ним после. А возможно, и более важное, чем случившееся прежде болезни. Но вспомнить, что именно это было, Чезаре никак не мог, как нельзя восстановить мозаичную картину, если нет камешков определенных цветов.
И во Вьяне, в роковую мартовскую ночь, холодную и дождливую, когда он лег подремать немного, перед ним снова мелькнул хвостик разгадки – на долю мгновения закрывший глаза киноварно-красный шелк, ослепительный, режущий белый свет, в пелене которого показались и пропали очертания морского берега, и донесло свежий горьковатый запах моря. А через миг его разбудили вестью, что осажденные ускользнули из кольца – и был оседланный вороной конь, и была бешеная скачка сквозь полыхающий молниями ливень, и черный мертвый лес, и бой, и боль, распоровшая бок. И дальнейшая встреча со смертью.
Отблескивает лезвие меча в утреннем свете. “Стойка быка”, “гневное острие”… укол и разворот. “Крыша” и сокрушающий удар сверху вниз – таким когда-то отсекалась голова быка…
***
Кто поднес огниво к стогу сена, кто высек искру – разве узнаешь? Искра – рыжая, словно лисья шкурка, бежит-бежит, по травиночкам, по сухим листочкам, по остреньким иголкам сушеной осоки, пырея, луговика и мятлика, по пахучему шалфею и высохшим листикам клевера, приносящего счастье. Бежит искра и пожирает все, без разбора.
Зашумело, зашуршало и побежал огонек к домику на отшибе деревни. К тому самому, куда стремились столь многие, скрывая лица, надеясь на помощь не то ведьмы, не то знахарки, не то… да нечистый ее побери, кто там она, эта Хосефа. Нечистый побери ее, а не нас – мы-то что, не мы служили черные мессы бородатому козлу, восседающему на троне, не мы умащались мазью с ядовитым аконитом и пахучей дурман-травой и вылетали через окно, направляясь на шабаш к далеким васконским горам. Не мы, а она, бруха Хосефа. А мы повинны лишь в слабости, яко слаб всякий человек. Повинны не слишком, а слегка, и исповедаем маленькие свои грешки добрым и милосердным святым отцам. А ведьма – ведьме все равно гореть. Рано или поздно.
И ведьмы это знают. Прознают звериным, птичьим – не человечьим – чутьем своим, и уходят. Не все, разумеется. Настоящие. Те, что умеют внимать тихому звону струн и видеть сияние огней на рогах Смерти, неотступно следующей за всяким человеком.
И Хосефа, досточтимый слушатель мой, знала об этом. И домик ее был уже пуст, когда собралось вокруг него человеческое… море? да какое море, помилуй! так, грязноватый серый прудик – селяне в блузах из небеленого полотна, сумрачные селянки с угрюмо выдвинутой вперед по гусиному шеей, привыкшей к поклонам. Где гордый заброс головы, где стать, о которой пишут досужие сочинители, когда восхваляют иберийскую землю? Нет ее, она столь же редка здесь, как и везде, и людская серая лужа на землях, по которым проходит тропа святого Иакова, ничем не отличается от таких же луж в Бургундии, Фрисландии или Пруссии.
Завился огонек, потек по стенкам вверх-вверх, зачернил злобно и пьяно беленые стены, взлетели над домиком огненные языки и прыснули из-под крыши перепуганные нетопыри и летучие мыши.
– Сбежали! – визгливо, по-поросячьи вскрикнул кто-то.
– Не иначе как на винодельню побежали! – густо бухнул чей-то бас.
– Догнать! Туда! Вот уж! Ааа! Ууу!! – понеслась впереди толпы разноголосица, спугивая галок и ворон, разгоняя из кустов малых птах. Да, терпеливый слушатель мой, селяне давно уж питали глухую скрытую неприязнь к дону Иньиго – за его нелюдимость, за привязанность к виноградникам (“Не колдун ли? Чего все возле лоз ходит – не иначе, слово какое знает? Сказывают, и с лозами он говорит, а станет ли добрый христианин говорить с бессловесной травой?”), а главным образом за бережливость, переходящую в скупость, с какой он подряжался и рассчитывался с наемными работниками.
***
– Они идут сюда, в Матамороса, – говорила Хосефа. С медленной улыбкой, раздвигающей ее морщинистые увядшие губы. Бьянка стояла рядом, и ее губы дрожали от страха – ожили воспоминания того бега через поля, когда она не видела ни света, ни тьмы, ни травы под ногами, ни неба над головой. Нати подошла к ней и обняла за плечи – жестом не слабости, жестом, каким в час жестоких испытаний ободряют друг друга сильные. Подошел Чезаре – его кожа блестела от пота после упражнений с мечом. Не глядя на собравшихся и пришедших, он деревянным ковшиком набрал в кадушке воды, облился и обтерся висящим у двери куском полотна.
– Они идут, – повторил Лисенок. В его голосе не было страха, и даже уловила Нати в его голосе оттенок удовольствия. – Они скоро будут здесь.
– Нам нужно уходить, – подал голос Чезаре. Первоначально поднявшееся в нем решение сейчас гасло и опадало. Нет никакого резона бороться за эту старую винодельню, это не замок, не земля, не честь. Нет никакого резона…
Лисенок, отошедший от дома и притулившийся в стороне у тополя, переводил взгляд с лица на лицо. Его словно бы не касалось происходящее.
– Они идут, их ведет ненависть, оборотная сторона страха, – Хосефа бросила быстрый взгляд на Бьянку. – Первого врага человека.
– Я хочу вернуться домой, – тихо проговорила Бьянка и взглянула на Нати.
– Хочешь вернуться? – насмешливо повторила Хосефа. Перед глазами Бьянки предстала Кристабель, прекрасная Кристабель, гордая и сияющая в своей прелести, казавшейся сродни ангельской. Но ее тут же заслонила стена огня, и Бьянка закрыла лицо в ужасе. Никто и ничто не стоило этого страха, никто и ничто.
Мимо них прошел дон Иньиго – в старом железном нагруднике, покрытом пятнышками ржавчины, а в паре мест проржавевшем до дырочек. В на поясе его был тяжелый двуручник, какие ковались в Пуатье лет пятьдесят назад.
– Старый дуралей, тебе надо бежать! – прорычал Чезаре. – Они сожгут тебя, вместе с твоими лозами и жалким домишком. Беги в Азуэло, к своему сеньору.
Это медленное, засасывающе вязкое действо – разговоры, смешные приготовления к обороне, страхи, высокопарные и пустые слова, – раздражали как раздражают назойливые комариные укусы в летний вечер. Вязко… медленно… тесно… жаляще, и зудение над ухом, будто настойчивый трезвон… Но старый идальго лишь скосил на него глаза и даже не повернул головы.
– Мой виноград, – бормотал он. – Как же мои лозы? Разве я могу бросить их, своих детей, слабенькие зеленые побеги, грона, ложащиеся в ладони, как груди любимой… – он пошел к коновязи, потом поволок куда-то к воротам винодельни бревно. – Я не могу бросить их.
– Я остаюсь, – тихо сказала Нати. И Чезаре словно молнией пронзило – резоны, причины, одна другой важнее. Нет причин важных и неважных, и если все в тебе велит встать – нет разницы, что за твоей спиной, Рим или жалкая винодельня в наваррских предгорьях. Нет разницы, что за твоей спиной, когда все в тебе властно требует встать и идти.
– Они пойдут по дороге, – проговорил Чезаре, припоминая местность. – Нам нужно встретить их там, где по обе стороны – их собственные поля…
Он осекся – что-то со стороны смотрело на его старания, на все его планы с незлой усмешкой, как на возню ребенка с песочным замком.
“…действовать, ничего не ожидая взамен. Действовать лишь потому, что не можешь не действовать”.
– Остаешься?! – прервал его мысли визг Бьянки. – В этой грязи и вони, в этом аду. Да еще женщиной!
– Остаюсь, – ответила Нати и посмотрела на Чезаре. – Я ведь обещала показать его милости Америку.
“Для воина все, что есть в мире явленном, является вызовом. Все происходящее является вызовом для воина”.
– Ты вызвал ее, – не спрашивая, а утверждая, сказала Хосефа, указав взглядом на Нати. – Ты вызвал ее и выбрал верно.
И последующий рассказ ее, рассказ о противостоянии двух могучих душ, противостоянии, где не было ни времени, ни расстояний, прошел через слух и сознание всех как утренний туман сквозь тонкие веточки – оставшись, зацепившись лишь в сознании тех, кто мог понять.
Карлос Аранья… старик с седыми до белизны волосами, костер… Все это промелькнуло в сознании Нати как тени.
“Но почему я… почему мы, именно мы?” – хотела спросить она, но споткнулась о бессмысленность этого вопроса.
– А я проиграла, – закончила Хосефа. – Пока… проиграла.
– Я хочу вернуться! – взвизгнула Бьянка. До ее слуха уже доносился приближающийся гул толпы и треск факелов в руках этой толпы.
– Тогда не медли, – прошептала Хосефа. Ее темные глаза раскрылись широко-широко, словно разверзлись две бездны, притягивающие другие бездны…
Как рассказать тебе, внимательный слушатель, о том, что произошло далее? Разумеется, скажешь ты, у четырех человек не хватит сил сдержать обезумевшую толпу, даже если один из них – прекрасный мечник.
– Солдаты бегают только вперед, – бормотал дон Иньиго. Его седые усы воинственно встопорщились, а в руке он сжимал старую алебарду. Двуручник Чезаре у него отобрал, рассудив, что против толпы от длинного меча в умелых руках толку будет поболее, чем от его собственного более легкого и узкого клинка. – А это место… недаром оно названо Матамороса, “мавроборец”.
– Чезаре, дай мне свой меч, – сказала Нати, не поворачиваясь к нему, не сводя глаз с темнеющей вдали и на дороге людской массы, прорежаемой сполохами и дымом факелов. И почти не удивилась, когда рукоять послушно легла в ее руку.
Но что это? Чезаре всмотрелся в остановившуюся толпу – четверо всадников возникли в ней, издали хорошо виден был белый конь и ярко алые одежды одного из них.
***
Ты, наверное, уже догадался, внимательный и разумный слушатель, кем были эти всадники, что остановили толпу? Конечно, это были сеньора Азуэло и ее верный Мартин. Да, теперь я скажу о них именно так.
Как вылитая на бурные воды ворвань, так и беспощадная пронзающая и властная ясность, исходящая от Кристабель, успокоили, утишили толпу.
– Я сеньора этих месте, и Матамороса – моя земля, – негромко говорила Кристабель, но слова ее долетали до каждого. – И благодарите Господа, что я не послала гонцов к королю с просьбой прислать солдат, и поставьте свечку Деве Марии, чтобы я не пожаловалась в трибунал святой инквизиции на то, что жителей деревни обуяло дьявольское искушение.
Толпа испуганно заперешептывалась. “Кто же знал… Да мы что – мы ничего, госпожа… Кто первый-то был, кто придумал?” Словно пенная пивная шапка, осела бешеная слепая ярость, гнавшая людей, запереглядывались – откуда взялась она, ярость, кто возжег огонечек? Несть ответа. И побрели люди по домам, потекли серые небеленого льна грязноватые ручьи по дороге, усмиренные и пристыженные, судя и рядя о том, кто же все-таки был зачинщиком. И горе было б зачинщику, если бы нашелся он.
***
Неподвижно стояли четверо – трое в ожидании, а четвертый… Четвертый усмехался, словно перед ним было презабавное зрелище. Он отошел к обочине, уселся на торчащий из земли полузаросший валун и приготовился внимать происходящему, будто был зрителем на представлении.
И когда подъехали всадники, четвертый не переменил своего положения любознательного наблюдателя. Ты ведь догадываешься, внимательный слушатель, что этим четвертым был никто иной как Лисенок.
Который и был тем самым огоньком, что зажег пламя. Который, по лисьей натуре своей, доставшейся ему от отца, любил играть в игры и наблюдать. Который решил поставить финальную точку в истории, сведя вместе тех, кто эту историю начал.
И вот встали друг перед другом двое – не друзья, не враги, не союзники, не побратимы. Просто люди, брошенные в котел истории и волей… судьбы или собственною свободной волей человеческих существ оказавший друг другу помощь.
– Что ты намерен теперь делать? – спрашивает Мартин. Отчетливо звучит в еще не накаленном жарой воздухе это свободное и равное “ты”.
– Отправлюсь в Новый свет, – пожимает плечами Чезаре, будто по-иному и быть не может. И берет за руку Нати. – Мне кажется, там много такого, что может быть интересным для меня.
========== Эпилог ==========
– Этим и кончилось?
– Этим и кончилось, отец.
Рыжий берет из рук сына дудочку и начинает наигрывать простенькую мелодию, под которую так славно пляшется вокруг майского шеста. Его, бога игры и тысяч ветвящихся тропок, не удивляет рассказ сына, лишь забавляет.
…Арнольфини умирал тяжело. Болезнь медленно стискивала его грудь, и все труднее было проталкивать в легкие крохотные глотки воздуха.
Слух же его мучительно обострился, он слышал, как ползают в своих сокрытых ходах древоточцы, ползают и грызут сухое дерево ложа и чернолаковых витых стоек балдахина, как рассыхаются половицы, как шелестит под едва слышными сквозняками ткань настенного гобелена. И он слышал, как чей-то голос тихо уговаривает его жену сказать ему обо всем. О том, что это она устроила приход доминиканца, подтолкнувшего Агнесс к гибели, что она не оттолкнула пасынка Стефано, хоть и знала гневливость и ревнивость своего супруга. Что она ни мгновения не была его супругой по-настоящему и носит во чреве не его ребенка. И что сундучок с драгоценностями, со всем состоянием семьи Арнольфини, буде и увезен Стефано, вовсе не был столь уж ценен, ибо его содержимое давно перекочевало благодаря верной Анхеле и Мартину в тайник, и было заменено медными монетами, которые лишь сверху прикрывал тонкий слой золотых.
– Я прощаю его, – слышит он в ответ – и думает, что эти слова порождены не истинным прощением, а лишь сознанием своего превосходства.
“Сам дьявол”, хочет прошептать Арнольфини, делает отчаянное последнее, смертное усилие – и застывает с широко раскрытыми глазами и застывшей на лице ужасной улыбкой.
– Ты теперь дворянин, Мартин, – говорит меж тем женщина, сжимая руку стоящего перед нею высокого светловолосого мужчины. – Я беру тебя на службу в качестве начальника охраны замка. А когда закончится траур, я возьму тебя в мужья, Мартин Бланко. Согласен ли ты взять меня в жены?
Уже не слышит Арнольфини слова согласия, не видит, как мужчина опускается на колени и приникает губами сперва ко лбу женщины, а потом к ее улыбающимся счастливо губам.
Его сиятельство граф де Бомон умер в Арагоне в следующем, 1508 году. И в том же году у новобрачной четы де Бланко родился сын, названный в святом крещении Валенсио. Никого не удивил такой выбор имени, ведь значение его “сильный, здоровый” – разве что замковый капеллан был несколько недоволен выбором, ибо, говорил он, негоже чтобы день почитания святого отстоял от дня рождения нареченного более чем на месяц. Но все, в том числе отец Франциско, который и совершал обряд святого крещения, сочли это ворчанием и забобонами не слишком образованного провинциального священника.
Скорое завоевание Наварры Фердинандом, королем Арагона и регентом Кастилии, упрочило положение дона де Бланко, ибо король был к нему милостив. Король, конечно, не знал, что в молитвах, которые даже бывший наемник иногда возносит искренне – в молитвах к своему покровителю святому Мартину дон де Бланко, идальго испанской короны просил спасти и сохранить некоего человека по имени Чезаре.
Король Иоанн Наваррский папской буллой 1512 года был отлучен от церкви до 1560 года как раскольник и схизматик, и вынужден был бежать от войск Фердинанда Испанского.
Стефано Арнольфини уехал в земли короля французского, долго скитался, пробавляясь работой подмастерья, и наконец встретился со своим кумиром Леонардо, который по милостивому приглашению его величества короля Франции Франциска с 1516 года поселился в Кло-Люсе, получив свободу грезить, мыслить и творить. Стефано стал его самым преданным и самым бездарным учеником.
Многие, досточтимый слушатель мой, расскажут тебе, что пестрый дудочник избавил Гаммельн от крыс и увел гаммельнских детей в воду в 1284 году. Бог с ними! Возможно, кто-то действительно уводил детей в 1284 году, я этого не знаю. А вот то, что сразу нескольких приговоренных к костру неведомый дудочник, рыжеватый и вихрастый, с плутовскими лисьими глазами, вывел из огня, а присутствовавшие при этом стражники и судьи принялись танцевать под его музыку – это я знаю. “И все это semper ludens”, – напевал он. А есть люди, что слышали и другие его песенки, например, такую:
Мне дорОга как невеста.
Слеплен из такого теста,
Что не нужно мне насеста,
Не сойти живым мне с места,
Если брошу я бродить.
Пылью кормят нас дороги,
Пусть до крови сбиты ноги -
Только черной смерти дроги
Увезут меня с дороги -
Побродягу,
Проходимца -
Как захочешь, называй.
Но свободный душою,
Я брожу
С жизнью доброй и злою
Я дружу
Позабыт, позаброшен,
В дом, незван и непрошен,
Прихожу.
Всюду я брожу.
Никто более не видел в земле сеньоров Арнольфини, в окрестных селах и городках ни Хосефы, ни Бьянки. Особенно упоминали Бьянку, которая была, как шептались люди, наполовину мужчиной, наполовину женщиной, что конечно же не могло быть ничем иным кроме как дьявольскими кознями.
Но и Бьянка исчезла.
И разве имеет к тому касательство разговор беловолосого старика и молодого антрополога из университета Лос-Анджелеса? Нет, конечно. Ведь все, что сказал старик после того, как на них с молодым человеком набросилась с визгливым лаем маленькая грязно-белая собачонка, было “Иногда собачка – не собачка. Иногда это мужчина… или женщина”.
И еще менее связано с этим то, что никто и никогда в Лос-Анджелесском университете не знал о студентке по имени Нативидад Рамирес. Ее не было в списках и никто никогда ее не видел. Ален же Шарп и Лоуренс Палмер пропали без вести, и никто так и не узнал, что с ними случилось.
***
“Мы способны на куда большее, чем просто тянуть лямку на отведенном нами пятачке земли. Такова наша природа. Природа людей. Лишь стоит избавиться от слабости считать, будто нам предначертано оставаться на отведенном судьбой пятачке и не стремиться ни к чему иному. Мы способны на многое…”
Сильная, привыкшая к мечу рука сжимает в горсти мокрый белый прибрежный песок, светлые глаза щурятся на склоняющееся за верхушки пальм солнце.
– Снова – в начале… – говорит он. И видит берег моря, и две идущие рядом, ближе, чем длина вытянутой руки, цепочки следов, уходящие вдаль по белому песку… Чьи это следы, откуда пришли и куда ушли оставившие их? Нет ответа у волн и у высоких, шумящих под морским бризом дерев. Пока… нет ответа.








