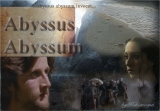
Текст книги "Abyssus abyssum (СИ)"
Автор книги: Кшиарвенн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Тихо шелестели апельсиновые деревья. Жесткие листочки стряхивали дождевую воду и весь сад был полон шорохом капелек и от этого монотонного шороха на душе делалось все безнадежнее и мрачнее. Чезаре стиснул рукоять кинжала, лезвие блеснуло в свете свечей. Один точный удар вот сюда, слева, под ребра – и… все. Они его не заполучат! Он больше никогда не окажется в неволе. Один удар…
И вдруг в шелест дождевых капель вплелись тихие звуки рожка. Рожок пел – не весело, не задорно, скорее задумчиво. И звук его был как дружеская беседа, как родное плечо, подставленное как раз тогда, когда уже нет сил идти. Как самый родной и нужный голос, окликающий тебя в чужом городе. Голос, полный любви и жажды жизни. Чезаре взглянул на кинжал, рукоять которого все еще сжимала его рука, и с усмешкой сунул его в ножны. Ты не мертв, пока не умер, сказала как-то Лукреция. Не мертв, пока не умер.
Комментарий к Глава 5, в которой происходят спектакль и суд, порой меняющиеся местами
(1) Верховный инквизиционный совет (Consejo de la Suprema Inquisición)
(2) игра слов: “Dominicanes” – “доминиканцы” и “Domini canes” – “псы господни”
========== Глава 6, в которой спокойствие усмиряет буйство ==========
Сколько необычного происходит в мире – не правда ли, терпеливый слушатель мой? Оглянись вокруг, и ты увидишь необычное в самом обыденном – в том, как ломает снежную корку остренький зеленый кинжал первоцвета, в том, как две галки дерутся за кусок требухи, а потом большая уступает меньшей, в том… Но довольно, довольно, уже вижу, как ты хмуришься и требуешь перейти к рассказу.
Необычным было то, что частый бредень, которым отцы инквизиторы вылавливали своих рыбок, на сей раз оказался дырявым. И скатившуюся с повозки и кинувшуюся в сторону Бьянку никто не бросился догонять. Впрочем, может, и бросились, однако догнать не смогли. Потом одни стражники рассказывали, что прямо на их пути возникли туманные клубы, в которых беглянка и затерялась, а другие говорили, что никакой белокурой девушки на повозке не было и вовсе.
А беглянка сперва неслась по виноградникам, по заросшим кустами пустошам, спотыкаясь, падая, потом, когда силы кончились, сбавила ход и пошла медленнее, тяжело дыша. Она гримасничала и говорила сама с собой, стараясь приглушить голос, но приглушить не получалось. Бьянке казалось, ноги вели ее сами – между рядов лишившихся листьев лоз, меж по-зимнему сухих и жестких кустов, по каким-то тропинкам, потом без них…
Так бывает в сказках, досточтимый слушатель, – ноги сами приносят к затерянному в глуши домику, а там… Да, все именно так, как ты и предполагаешь – там жилище колдуньи. О нет, у нее не было черного кота, выгибающего спину и по ночам обращающегося в чудовище. У нее не было совы, которая своим зловещим уханьем навевала бы страх и тоску на мирных поселян – да и мирных поселян-то вокруг не было. Потому что в тех сухих предгорьях, куда выбежала Бьянка, миновав виноградник, никогда не росло ничего полезного, сколько ни сажай, так что и поселянам там делать было нечего.
Да полно, спросишь ты, неужели вышедшая навстречу Бьянке крепкая ширококостная женщина и впрямь была колдуньей? Ну и что, что она открыла двери так, будто давно знала о том, что у нее будут гости, и даже знала, кто именно к ней придет? Ну и что, спросишь ты. Не знаю, не знаю. Спроси лучше тех удрученных своими тайнами, закутанных с ног до головы женщин, у которых их-под бедного плаща с капюшоном нет-нет да и выглядывает бархатный подол платья, а нижние рубашки – тонкого голландского полотна. Спроси мужчин, которые, заходя в бедную халупку, ниже надвигают на лицо шляпы. Впрочем, ни первые, ни вторые не решатся сказать тебе правду.
Беглянка успокаивается, берет протянутую ей кружку и делает огромный глоток. Пальцы едва слушаются ее, и Бьянке стоит больших усилий удержать кружку на весу. Она знает, что нужно бы поблагодарить хозяйку, но язык у нее словно прилип к гортани. Сама того не замечая, Бьянка несколько раз вздергивает подбородок – движением, обратным кивку.
– Тебя не поймают? – спрашивает она хозяйку, возвращая кружку. Та протягивает руку, и Бьянке на миг кажется, что кружка сама вплывает в коричневую заскорузлую ладонь. Но нет, нет, это просто движение женщины так плавно и неуловимо.
– Пока я того не захочу, – отвечает женщина. – Таких как я, могут поймать только если мы сами того пожелаем.
Спохватившись, Бьянка называет себя, и женщина кивает так, будто и имя, и все, что Бьянка говорит, было ей давным-давно известно.
– Ты, наверное, та знахарка, про которую тут все рассказывают.
Женщина чуть склоняет голову на бок, и Бьянке чудится, что она – птица. Небольшая черная птица, вроде дрозда. Но продолжается это лишь один миг, Бьянка дергается и смаргивает.
– Я Хосефа, – говорит женщина и снова чуть заметно склоняет голову. Губы ее растягиваются в полуулыбке, словно она готовится сказать невероятно смешную шутку. – И я – к твоим услугам.
– Ты разрешишь мне пожить у тебя немного? – нерешительно спрашивает Бьянка. Хосефа улыбается шире.
– Я – к твоим услугам, – повторяет она.
***
Всякий остроглазый наблюдатель, видевший Бьянку раньше, сразу заметил бы перемену в ее повадке. Но где, внимательный слушатель мой, где взяться такому остроглазому? Кому смотреть на то, как неуклюже вытирает Бьянка пол, когда помогает Хосефе, как неловка она в обращении с предметами – те словно нарочно выпрыгивают из ее пальцев. И походка у Бьянки стала чуть вразвалочку, и так ей с самой собой неуютно, будто она влезла в чужую одежду, скроенную и сшитую сильно не по размеру, и пытается ужиться в ней.
Так шли дни за днями, и дальний ветерок давно уже развеял запах гари от костра, на котором сожгли в Логроньо обвиненных в чернокнижии и признанных служителями сатаны. А у дверей хибарки Хосефы то и дело появлялись гости. Появилась и дама в алом бархатном платье, выглядывающем из-под темного плаща. Лицом посетительница походила на дорогую куклу (Бьянка тщетно старалась припомнить, где она могла видеть подобную); сходство дополняли светлые вьющиеся волосы, которые не желали лежать в приличествующей замужней даме прическе с сеткой, а выбивались во все стороны.
На время посещений Бьянка выходила из хибарки, вышла и сейчас – Хосефе стоило лишь взглянуть на нее, чтобы дать понять, что ее присутствие нежелательно. Ослушаться Хосефы Бьянке не приходило в голову, поэтому она просто выходила из хибарки и шла куда глаза глядят. И сейчас пошла к холму, и лошадь, на которой приезжала посетительница, не обращала на нее внимания.
– Она похожа на куклу, – сказала Бьянка, когда стук копыт лошади таинственной всадницы стих.
– Где ты могла видеть такую куклу? – тон Хосефы был мягок, но взгляд бил прямо в Бьянку как пучок ярких жгучих лучей. Сильный, ощупывающий, от которого не скрыться.
И, подхлестываемая этим взглядом, Бьянка начала рассказывать… Ох, если бы ее рассказ услышал кто-либо из трибунала святой инквизиции… да что там, если бы этот рассказ услышал любой честный христианин из числа жителей Наварры, графства Лерин или Арагона, рассказчице непременно пришлось бы повторить свои слова перед судьями в доминиканских облачениях. И вряд ли это повествование закончилось бы для нее благополучно.
Но Хосефа слушала ее почти равнодушно, занимаясь склянками и горшочками с различными мазями и снадобьями, которые занимали всю стену хибарки, громоздясь под самую крышу. Лишь изредка она направляла рассказ спокойными вопросами и замечаниями. И во время рассказа с Бьянки словно окончательно спадала шелуха – поза ее стала развязной, участились подергивания рук, и ноги то и дело принимались приплясывать будто под невидимую музыку. И все те повадки, которые отличали когда-то Лоуренса Палмера, студента из числа “сливок” университета, проявились сейчас стократ сильнее.
– Довольно, – оборвала Хосефа рассказ на самой середине слова. Она услышала достаточно. Хосефа продолжала переставлять горшочки и склянки. И чем дольше она этим занималась, тем более Бьянка становилась схожей с той, что помогала Джермо в силовых трюках. Она как будто вернулась в свою шкуру – это снова была обычная девушка, ну, быть может, только белокурые волосы и голубые глаза отличали ее от тех, что работают на виноградниках. Да вот еще резковатость и размашистость движений – такую, досточтимый слушатель мой, ты очень редко мог заметить у женщин иберийской земле, если бы попал в те края и в те времена.
– Ты – мужчина, – не спрашивая, а утверждая, сказала Хосефа. Любой, кто услышал бы ее, понял бы тотчас, что она лишь подтверждает нечто важное для себя. – И очень хочешь вернуться.
– Я очень хочу вернуться, – тихо повторила за ней Бьянка.
***
Отвлечемся на время, досточтимый слушатель мой, от Бьянки и знахарки. Что они нам, в самом деле! Давай-ка лучше поспешим вслед таинственной даме в плаще, которая скачет во весь опор – по дороге, петляющей между каменистых холмов, среди низкорослых деревьев, на север, к замку Азуэло – тому самому, что принадлежал когда-то родственникам покойной жены Лаццаро Арнольфини.
Твоя проницательность не подвела – это, конечно, была Агнесс. Нервное возбуждение, в котором она находилась, заставляла ее пришпоривать скакуна и нестись по не слишком ровной дороге, угрожая свернуть себе шею.
Что там опасность! В мешочке у пояса находилась скляночка, на которую Агнесс надеялась сейчас больше, чем на Пресвятую Деву Марию. Ее новоиспеченная свекровь вызывала у Агнесс чувство, близкое к тому, которое она испытывала когда-то к мерзкой Селин, маркитантке, любовнице Мартина, заявлявшей свои права на него.
Права – на что-то, принадлежащее Агнесс! Наверное, это и было главным. По какому праву какая-то святоша с вечно опущенными глазками должна стать выше ее по положению? Агнесс видела, как смотрел на нее Стефано. А уж о свекре и говорить не приходилось – едва Кристабель вошла в замковую церквушку, где должно было состояться венчание, Арнольфини стал схож одновременно с крестоносцем, который дошел до гроба Господня, и с алхимиком, в реторте которого блеснуло золото. И все это впечатление произвела бледная девица, одетая так скромно, будто она явилась на похороны, а не на собственное венчание.
Агнесс вновь подхлестнула коня. Что уж притворяться перед самой собой – даже это скромное платье светлого тяжелого бархата, с воротом под горло, по испанской моде, которую Агнесс не выносила, чудо как шло Кристабель. Она казалась хрупкой в тяжелом одеянии, и мужчинам, небось, хотелось защитить и оберечь ее. Агнесс даже пожалела, что надела на венчание синевато-лиловое венецианское шелковое платье (продававший ткань купец сказал о ней – “цвета вечереющего неба”), и к нему распашную бархатную гамурру. Она выглядела роскошнее невесты, но капеллан, осуществлявший обряд, взглянул на нее с осуждением, а на Кристабель напротив, с отеческой нежностью. И его взгляд заметили все, даже Стефано.
Подъезжая, Агнесс увидела, как из калитки в воротах замка вышли пожилой крестьянин с крестьянкой, одетые, видно, во все лучшее, что нашлось. Выходя, они несколько раз поклонились стражнику, который собирался было закрыть за ними калитку, да увидел молодую госпожу и поторопился распахнуть большую створку.
– Истинно, добрая, ангельская душа, – расслышала Агнесс, въезжая в арку. Она знала, что и крестьяне, и стражник говорят о Кристабель – к той часто приходили разные несчастненькие, видать, она прикормила их еще во Вьяне, – но провожают взглядом ее, Агнесс. Осуждающим взглядом. Чем только думает молодой господин Арнольфини, отпуская жену одну скакать по окрестностям в такое неспокойное время, шептались слуги. И пусть в одиночку Агнесс выезжала всего второй раз, пересудов после ее прогулок было предостаточно.
– Ты как раз к ужину, милая Агнесс, – кажется, святоша Кристабель и вправду была рада ей. Она сидела у окна небольшого зала, где обычно накрывали стол для повседневных трапез. Агнесс каждый раз ожидала увидеть в руках Кристабель вышивание или молитвенник, и каждый раз с удивлением замечала, что та не вышивает, не читает, не занята никаким другим обыкновенным досугом. Просто сидит и смотрит в окно.
– Я прикажу накрывать на стол, – полувопросительно взглянула на нее Кристабель. Агнесс едва удержалась от недовольной гримасы – такое постное личико! И все же эта робкая улыбка в уголках губ и взгляд больших серо-зеленых глаз обладали какой-то странной властью. Неприязнь Агнесс истаивала под взглядом Кристабель, как редкий в этих местах снег под солнцем.
– Пошли свою камеристку, – с озорной улыбкой ответила Агнесс. – А мы с тобой посумерничаем. Что ты все в окно смотришь?
– Просто. Привыкла. А что видела сегодня ты?
Это был почти ритуальный обмен фразами, ставший за то короткое время, какое Кристабель жила в Азуэло, обыкновенным, действовал на Агнесс как масло на бурное море. Она начинала рассказывать об увиденном, болтала обо всем и всякий раз ловила себя на том, что о такой подруге, как Кристабель – спокойной и умеющей слушать, – она могла только мечтать. И в монастыре, где воспитывалась, и потом.
Как так получается, что она то ненавидит Кристабель, то желает видеть ее своей подругой, в который раз спросила себя Агнесс. Голос Анхелы, подошедшей сообщить о том, что ужин ждет их, и шаги спускавшихся в залу мужа и свекра не дали ей углубиться в эту задачку.
– А хочешь, поедем завтра кататься вместе? – неожиданно для себя спросила она.
– Я… так плохо езжу верхом. А ты любишь пускаться вскачь, – Кристабель, казалось, сама сожалела о своем отказе. И в другое время Агнесс бы и не подумала настаивать. Пусть бы ездила и дальше со своей сушеной треской Анхелой. Но сегодняшнее взвинченное настроение сделало свое дело.
– Какие пустяки! – махнула она рукой. – Ты возмешь мою Диану, она смирна и умница. С нами поедут слуги. И даю слово, я не стану спешить.
– Твою Диану? – почти прошептала Кристабель. – И не спеша?
– Значит, решено, – Агнесс сжала ее руку.
***
Никогда нельзя предугадать, как поведут себя змеи, если забираешься в змеиное гнездо. Бросятся ли на тебя и станут вонзать в испуганную плоть свои ядовитые клыки. Или холоднокровные твари возжелают твоего тепла. Или окажутся вовсе не змеями.
Подобное “хорошо среди худа” только расхолаживает, не правда ли? Нет, нельзя принимать слова Агнесс за читую монету. Никак нельзя. “По части того, чтобы использовать других к своей пользе Агнесс нет равных”, – предупреждал ее Мартин.
Мартин… Он делал все, чтобы помочь ей, ее месть стала и его местью. И он же не давал ей привыкнуть к “хорошо среди худа”. Это тоже словечко Мартина, которое Кристабель и сама не заметила, как запомнила. Хорошо среди худа, объяснял Мартин, это когда ты сам себя убеждаешь, что и в настоящем не слишком приятном положении есть свои приятности. Сперва Кристабель не могла понять, как это, но потом вспомнила слова матери, которые та выкрикивала, биясь о узкое жесткое ложе, – “цепи носят в виде браслетов”. Если бы Кристабель было в замке Азуэло труднее, ей было бы легче. Да, досточтимый слушатель, именно так: если бы ее окружили те злобные враги, которых она ожидала, о мести которым она думала – ей было бы легче. Ненавидеть. Думать о мести. Задумывать эту месть.
Но в замке Арнольфини большинство отнеслось к ней если не с теплотой, то с должным уважением. Она читала это в глазах слуг, начальника стражи, в глазах венчавшего ее с Лаццаро Арнольфини старенького капеллана. И Стефано, сын старшего Арнольфини, приветствовал ее вполне благожелательно и обещал почитать, как супругу своего отца. Кристабель не смогла сразу запомнить его лица – был он каким-то почти безликим. Однако Стефано завел с ней почтительный и умный разговор, и к концу свадебного пира Кристабель даже могла поверить в его обещание.
Супруга Стефано, если и не была рада появлению новой свекрови, то, как показалось Кристабель, не выказала и вражды. Бросала исподтишка внимательные взгляды на лицо и платье, но и только.
И даже сам Лаццаро Арнольфини, которого Кристабель считала исчадием ада, сперва показался ей совсем не страшным, когда стоял у алтаря, ожидая ее.
“Самоубийцы отправляются в ад – я бы предпочла ад, чем восемь лет, проведенных с этим человеком”. Это она слышала из уст матери – искусанных, почерневших после истерического припадка, во время которого монахиням приходилось удерживать ее силой, не давая метаться. И Кристабель, вспомнив это, стиснула руку ведшего ее к алтарю Мартина Бланко. На ее стороне сейчас только этот человек. Ей показалось, что он чуть повернул голову в ее сторону, и его рука дрогнула.
– Перед Богом и людьми…
В свои пятьдесят три Лаццаро Арнольфини сохранил почти все зубы, и седые волнистые волосы были почти так же густы, как в молодости.
– Если кто-либо из присутствующих знает причину, по которой этот мужчина и эта женщина не могут вступить в брак – пусть скажет сейчас или молчит вовеки…
“Пресвятая Богородица да сохранит вас, донья Кристабель!” – ее верная Тереза осталась во Вьяне. Когда Кристабель уезжала, матрона крестила ее на прощанье, и по ее покрытым красными прожилочками щекам текли ручьи слез. Нет, богобоязненная донья Тереза ей не нужна. И веселая болтушка Марта ей также не нужна. При ней теперь Анхела, приведенная откуда-то Мартином, сутуловатая немолодая женщина, с большими руками и черными как смоль блестящими волосами. “Она будет вашим ангелом-хранителем”, – сказал Мартин. Тогда она впервые увидела, как он улыбается.
– Объявляю вас мужем и женой…
Свадебный пир был скромным и недолгим. Разве что священник, мэтр де Фурнье да приглашенный в виде исключения Иньиго де Мендоса, разорившийся идальго, на последние деньги арендовавший у Арнольфини маленький виноградник, пытались поддерживать какое-никакое веселье. Недолго за столом сидели, скоро гости разошлись по отведенным им покоям.
– Я помогу вам, госпожа, – проведя Кристабель в спальню, которую она сама вызвалась подготовить, сказала Анхела. В спальне витал аромат каких-то курений – легкий и нежный, навевающий покой и сонливость. Но тон у Анхелы был такой решительный, будто ей предстояло сражение. Она помогла Кристабель раздеться, облачиться в тонкую ночную сорочку сборчатого хлопка. Затем принесла кувшин вина – высокий, тонкогорлый, мавританской работы, – и два хрустальных бокала.
– Любимое вино сеньора Арнольфини, – с нажимом сказала Анхела. И, когда дверь открылась, пропуская новобрачного мужа, повторила почтительно, низко поклонившись: – Сеньор. Повар сказал мне, это ваше любимое вино.
– Из бочки с отметкой? – спросил Арнольфини. На кувшин он, правда, не смотрел – он во все глаза смотрел на сжавшуюся на краю ложа Кристабель.
– Да, сеньор, – тем же журчащим голосом продолжила Анхела. – Прикажете вина, сеньор?
– Наливай и убирайся, – пробормотал Лаццаро. Не глядя, протянул руку и одним глотком опрокинул в себя налитый дополна бокал. Кристабель стало страшно – его жадный взгляд ощупывал ее плечи и руки, и она, сама того не заметив, скрестила руки на груди, пытаясь прикрыться.
– Убирайся! – рявкнул Арнольфини на замешкавшуюся Анхелу. И когда та скрылась за дверью, поспешно стал раздеваться.
Кристабель знала, что должно произойти затем. Но в тот миг, когда Арнольфини навалился на нее, когда его руки заелозили по ее телу, она не смогла сдержать вскрик – ей вдруг отчетливо представилось, как в такую же спальню втолкнули ее мать, еще не отошедшую от смерти мужа, залитую слезами. И как этот же человек жадно сдирал с нее вдовье покрывало, срывал платье, не обращая внимания на мольбы и крики. И вот эти же пальцы забирались между ног отчаянно отбивающейся женщины, а полуседая душная борода затыкала рот. Несмотря на кулаки, бьющие в его грудь, несмотря на отчаянные попытки вырваться, несмотря на слезы и мольбы… Мужские пальцы выкручивают соски, и она задыхается от тяжести чужого тела…
– Госпожа… донья Кристабель… – чьи-то руки вытаскивают ее из-под ставшего расслабленно-неподъемным тела Арнольфини. Его рука соскальзывает на простыню и остается лежать там, как брошенная вещь.
– Простите меня… – голос Анхелы срывается, – прошу вас, сеньор де Бланко, простите… Вы были правы, надо было все сыпать. Я думала, он сперва выпьет, потом поговорит с молодой… Не сразу чтоб мордой в подушку и храпеть.
– Больше не думай! – знакомый яростный шепот. – Я ж сказал – этому зверю только волю дай.
Мартин. Он оттаскивает Арнольфини на другой край кровати, рубашка новобрачного полуразорвана, штаны валяются на полу. И Кристабель отрешенно смотрит на медленно теряющий твердость уд своего мужа.
– Уснул, – Анхела приносит откуда-то скляночку с темно-красной жидкостью. Кровь. Деловито вымазывает чресла и уд Арнольфини. Кристабель дрожит и переводит взгляд на кинжал на поясе Мартина. Мама мечтала сделать это. Много раз мечтала. Если сейчас просто выхватить этот кинжал и ударить бесчувственное тело, распростертое на кровати. И еще ударить, и еще, и еще раз. Пока не станет окровавленной тушей, вроде тех, свиных, что повисают на крюках в ноябре-месяце.
Нет, нет, не это ей было нужно. “Отомстить, умерев – слишком просто”. Так сказал Мартин. Это слишком просто. Ее страх и ярость почти исчезли, но то острое возбуждение, которое они вселили в нее, никуда не делось. От него хотелось кричать.
– Оставь это. И выйди, – Кристабель сама не ожидала, что у нее получится говорить вот так, ровно и уверенно. Анхела, уже наклонившая горлышко склянки, чтобы пролить содержимое на простыню, замерла, и кровавая капля успела упасть на обнаженную ягодицу Арнольфини. – Я позову, когда ты понадобишься. Утром.
Второй раз в этот долгий мучительный вечер закрылась дверь за Анхелой. Кристабель встала и подошла к окну.
– Мне все равно придется лечь с ним. – За окном была темень, лишь кое-где вспыхивали бледные маленькие огонечки. Небо затянуло тучами, и луны тоже было не видать, только бледное слабое свечение указывало на то место, где она скрывалась. – Мне нужен ребенок. Его наследник. Если я… если мы хотим, чтобы все получилось.
На ее плечи набросили теплую накидку. От одежды пахло чем-то терпким, лимонным и, слабее, почти неощутимо, лошадью и оружием. Мужчиной.
– Вы думаете, я не смогу вынести это? – резко спросила Кристабель, ощущая, что по телу прошла дрожь. Резкий ветер с предгорий пахнул в окно, ударился о стоящую девушку, похотливо лизнул ее соски, заставив их затвердеть. – Не смогу лечь с ним?
– Мне бы не хотелось, чтобы вам пришлось что-то выносить, – услышала она над своим плечом. И накрыла своей рукой легшую на ее плечо руку.
…Волки умеют кусать, рвать зубами. Вздыбить шерсть на холке, сузить желтые глаза и оскалить пасть. Волки умеют рычать. Или не только? Или волкам дана вот такая свирепая нежность – обнять, закутать в теплое, обнять своим волчьим теплом, сильным и злым.
– Обойдемся без крови из склянки, да?.. – ужасаясь себе, прошептала Кристабель.
Его джуббон полетел на пол, там же вскоре оказалась его рубаха и ее сорочка. И на огромном ложе им вполне хватило места – Мартин уложил ее ближе к краю, сам же лег со стороны Арнольфини. Отделив ее от крепко спящего мужа.
Погасла свеча. Кристабель закрыла глаза, и тут же ей показалось, что у нее на теле сотни, тысячи глаз, умеющих видеть в темноте. Она видела, как медленно Мартин провел рукой над ее бедром, не решаясь дотронуться. Поцелуй на ее виске, на лбу, на щеке. А потом губы накрыли ее губы – легко, потом сильнее, оставляя один вздох на двоих. И Кристабель ответила, прикусывая его губы, ловя его дыхание и отдавая ему свое. Это длилось, показалось ей, целую вечность, и согрело, и заставило тихо застонать – из губ в губы.
Руки Мартина заскользили по ее бедрам вверх, к животу, груди, шее, прошлись по ключицам кончиками пальцев, погладили грудь и обвели соски. – Не надо спешить… – выдохнул он. – С тобой… нельзя спешить… – И снова припал к ее губам, и Кристабель чувствовала, как с каждым вздохом из нее уходит прежние слабые и квелые, как чахлые ростки, страх и гнев, а вместо них приходят ярость и злость, победно-алые, дикие, свободные, веселые и жуткие, как волчий вой среди ночи, как обагренные кровью клыки. И она, уже не чувствуя ни страха, ни стыда, обвила руками его плечи, притягивая к себе, взбрасывая бедра навстречу его руке, скользнувшей по нежной коже бедра.
Она встретила ласку его пальцев жадным стоном и чуть прикусила его плечо. Мартин тихонько засмеялся, и пальцы его вошли в ее влажное лоно, растягивая, двигаясь, задевая чувствительную точку и заставляя ее стонать. Кристабель погрузила пальцы в его волосы, запрокинув голову, ловя горлом его поцелуи.
Боль вспорола ее, охлестнула ярко-алым, которое, она знала, пачкало сейчас белые льняные простыни, она отпрянула было, пытаясь сжаться, свести колени. Но Мартин, обхватив ее за пояс и сильно прижав к себе, зашептал что-то, зашумело в ушах, и Кристабель, всхлипнув, подалась к нему, обняла, перебарывая боль, пьянея от ощущения тяжести его сильного тела. И ощутила благодарные быстрые поцелуи – Мартин, сдерживаясь, проникал теперь не так глубоко и двигался медленно и плавно. И его руки снова заскользили по ее телу, лаская, утишая боль.
Кристабель обхватила его ногами – ее тело требовало власти, требовало, чтобы он взял ее, всю, без остатка, заполнил то, что было прежде болью. Оно росло, и Мартин, тоже ощущая это возрастание, задвигался резче, рванее, тяжело дыша сквозь зубы и едва удерживая стон. Еще один толчок, всхлип – подняло и опустило. Отпустило.
Тот, у кого руки полны, порой чувствует смутную вину и что-то вроде нежности к тому, кому не так повезло. Ведь и у тебя, достопочтенный слушатель, возникало подобное – когда удавалось выхватить перед носом соперника нужное вам обоим. Можешь не отвечать, я-то знаю, что такое бывает почти с каждым.
Нечто подобное испытывала Кристабель каждый раз, когда невестка пыталась задеть ее. Мартин рассказал ей все. После того, как был согласован ее брачный договор, он и Агнесс встретились у виноградников. Разговор был слишком долгим, чтоб считать его не состоявшимся вовсе, и слишком коротким, чтоб утишить и напитать самолюбие Агнесс Арнольфини. Всего несколько ничего не значащих фраз. А на замечание Агнесс про приятную удаленность маленького поместьица Матамороса, с винодельней и небольшим домиком при ней – приданого донье Кристабель, пожалованного воспитаннице графом де Бомоном – Мартин ответил, что Лаццаро Арнольфини продлит договор аренды на винодельню, данный дону Иньиго. Потому что виноградник того рядом и незачем месту пусту быть.
Кристабель сносила неприязнь невестки, и когда они с Агнесс говорили, даже о пустяках, эта неприязнь почти исчезала. Но Кристабель знала, что такие затишья – лишь короткие перерывы. “Будь осторожна. Очень осторожна. Особенно с Агнесс”, – так заканчивал Мартин каждое из их тайных свиданий.
Кататься они с Агнесс поехали со слугами. Не спеша, как и обещала Агнесс. Кристабель наслаждалась близящейся весной – начался февраль, дожди, мешавшиеся порой с мокрым снегом, стали редки. Скоро просохнет земля, скоро выползут спящие мурашки, и ударит в землю солнце. И белокурая девушка, замершая в немом восторге – конечно же, при виде прекрасно одетой горделиво восседающей на сером жеребце Агнесс, – тоже казалась вестницей весны.
***
Ах, донья Кристабель, как вы ошиблись, когда подумали, что белокурая синеглазка, восторженно взирающая на них, любовалась Агнесс. Девушка смотрела на вас, Кристабель. В недобрый час Бьянка – ибо это была именно она, – пошла в деревеньку с поручением хозяйки Хосефы, в недобрый час! Потому что, взглянув на Кристабель, она тут же вспомнила тех дев, которыми наслаждалась в совсем другом месте, в совсем другом обличье. И ощутила ту же смесь плотского голода и душевного влечения, которую люди так часто называют влюбленностью.
Изнутри женского обличья влюбиться в женщину – но так, как влюблялся, будучи мужчиной! Желая владеть безраздельно, желая подчинить и сделать частью себя. Эта кутерьма не доходила до сознания Бьянки, лишь будоража кровь и погружая в мельтешащий розовый туман. Из этого тумана ее вырвал лишь окрик Хосефы: – Не смей поддаваться!
Лицо хозяйки было столь страшно, что Бьянка задрожала как лист.
– Ты не сможешь вернуться туда, куда желаешь вернуться, если будешь поддаваться той своей природе. Ты не из тех, кто умеет сочетать женскую и мужскую половинки.
========== Глава 7, в которой сражаются, узнают об ожидании и убеждают не спать со шлюхами ==========
“Никогда не давай ничему прижать тебя. Можно видеть самого дьявола, но никому не дать об этом знать”, – однажды он проснулся с этими словами. Они были принесены светом слепого закатного солнца, ворвавшимся на террасу, где он спал в гамаке. И свет был ярче кардинальского пурпура, ярче беспощадного цвета свежей крови, который воспринимается, кажется, не глазами, а животом, будто запах…
Штандарты с гербом короля Наварры развевались над шлемами, знаменосцы несли их высоко, словно позабыли про усталость. Радость всадников передавалась лошадям, они фыркали, пытались заиграть друг с другом, ломая строй. Вороной тоже поддался было общему воодушевлению, однако всадник этого воодушевления не разделял и конь вынужден был смириться.
Чезаре сжал поводья вороного. Он все предусмотрел, все шло так, как он и задумал. Еще с январских праздников были разосланы письма – всем, кому только возможно. Он знал, что эти письма были как удары тяжелых ядер. “Чезаре Борджиа пишет о своем возвращении так, словно он просто уезжал отдыхать. Он наверняка имеет пару тузов в рукаве, этот пройдоха-каталан”.
Начинать надо с малого. Письма пошли и к графу де Бомону – слишком угрожающие, слишком жесткие для того положения, в котором находился король Наварры. “Для чего так дразнить зверя, брат мой?” – спросил король Иоанн, когда Чезаре явился с просьбой подписать третье письмо графу – с требованием явиться в Памплону и угрозой конфискации графства Лерин и других земель де Бомона в пользу Наваррской короны.
Луис де Бомон далеко не прост, ответил тогда Чезаре. Но, получив третье письмо с угрозами и не обнаружив за ними практических действий, он решит, что громко лающий пес не укусит. И вот когда он рассудит так, продолжал Чезаре – тогда мы будем кусать. Иоанн кивнул и, старательно умакнув перо, внизу на плотном желтоватом листе вкось начертал свою подпись.
Для первого укуса место и время выбиралось очень тщательно. И небольшой отряд, ведомый Бомоном-младшим, сыном графа, должен был полечь весь. Весь, до единого человека. Исключая графского сына.








