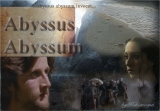
Текст книги "Abyssus abyssum (СИ)"
Автор книги: Кшиарвенн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Мужчина промолчал. В тишине башни было слышно лишь, как где-то наверху ухает сова да где-то под стенами возятся и пищат крысы.
– А ты… тебе жаль ее? – снова послышался женский голос. И снова ответом было молчание.
– Ты уверена, что выдержишь? – сказал, наконец мужчина. – Скажи только слово, и твой муж просто умрет. А мы уедем отсюда… далеко.
– Это должна сделать я, – оборвала его женщина. – И простой смерти он не заслужил.
Она судорожно перевела дыхание.
– В снах ко мне приходит моя мать… Я понимаю… теперь, когда его сиятельство далеко, тебе нелегко приезжать сюда. Ты… Мартин, ты не обязан этого делать…
– Замолчи. – Зашелестела ткань, скрипнула кожа. – Что начато, должно быть закончено. Иди сюда. Ночи еще холодные.
Тихо-тихо в башне, только ветер по-совиному ухает и свистит в узких амбразурах.
– Помнишь… источник святой Марии?
– Никогда не забуду.
– А помнишь человека, который помог мне тогда?
– Человека с глазами дьявола?
– Который спас тогда тебя, а может, и меня заодно?
– Наверное, мы должны быть ему благодарны.
– Наверное, мы с этим человеком уже в расчете. Но сейчас этому человеку приходится очень туго.
***
Какой душный апрель в этом году! Рим раскален, как чрево фаларидова быка. В такой вот душный апрельский день папа Юлий ІІ собрал людей, которым особо доверял, в комнатах, которые теперь занимал. В молчании обвел он взглядом собравшихся, затем встал и так же молча двинулся к двери, жестом пригласив собравшихся последовать за ним. Недоумевая, трое кардиналов и их сопровождающие спустились по лестнице к двери, которая по распоряжению понтифика была заперта вот уже почти четыре года. Вход в апартаменты, которые некогда занимал Александр VI. Родриго Борджиа.
– О Борджиа пристало говорить в апартаментах Борджиа, – с тонкой улыбкой сказал Юлий, когда они вошли, когда были зажжены свечи в большом семисвечном канделябре черненой бронзы, который все присутствующие хорошо помнили.
Трещали свечи – они единственные освещали сейчас эти мрачные покои, потому что окна по распоряжению Юлия были закрыты ставнями. Словно папа не желал, чтобы и само солнце светило в покои Борджиа.
– Борджиа вышли из игры, – отважился подать голос кардинал Риарио Сансони. Папа устремил на него пронзительный взгляд черных глаз, под которым кардинал смешался.
– Лукреция, которая замужем за Д’Эсте – единственная, кто остался из… детей Родриго, – пропыхтел толстый неаполитанец Карафа. У него едва не сорвалось с языка “ублюдков” – но таинственное мерцание свечей на фресках, взгляды сивилл из полуарок под теряющимся в темноте потолком нагоняли на него безотчетную робость. Словно сам дух неистового каталана витал незримо где-то под этими сводами.
Остальные, осмелев, заговорили о боковых отпрысках ненавистного рода, которые теперь притихли и старались быть как можно более незаметными. Папа слушал их с непроницаемым видом, но в глубине его темных глаз мерцал острый огонек.
– Теперь, когда Эль Валентино мертв…
– Мертв ли? – быстро прервал Юлий говорившего. И собравшимся сразу стало понятно, что созвал он их именно ради этого вопроса.
– Мертв ли он в действительности или скрывается, инсценировав свою смерть – уже неважно… – начал Карафа.
– Гадюка, даже лишенная ядовитых зубов, остается гадюкой, – сквозь стиснутые зубы произнес Юлий. Сансони, внимательно наблюдавшего за кузеном, вдруг осенило: вот чего не предвидел Чезаре Борджиа! Будучи до мозга костей рационалистом и политиком, он не учел того, что личную ненависть Юлий способен поставить выше политического интереса.
Комментарий к Глава 10, в которой тело гниет изнутри, обретают крылья и начинается охота на гадюку
(1) – “начало искупления” (лат.)
(2) – “покойся с миром” (лат.)
========== Глава 11, в которой умирают, не умирают и говорят о летающих механизмах ==========
Ты, верно, спросишь, досточтимый слушатель, не сошел ли с ума рассказчик? Или он нарочно говорит о том, чего не было, выдумывает несуществующие события? Ведь известно, что холодным мартовским предутрием Чезаре Борджиа остался лежать, истекая кровью, неподалеку от Вьяны. И солдаты нашли его тело, когда рассвело, и отнесли в хижину каких-то бедняков, где он вскоре и умер.
Я не стану возражать тебе. Скажу лишь, что рассказываю все в точности так, как дошло до меня. И если кого-то следует винить за неточность, то никак не меня, смиренного повествователя.
***
Холодного дождя, бьющего по лицу, больше нет. Дождь остался там, позади – там, где еще была память.
В первый раз Чезаре пришел в себя от того, что мерное покачивание, разливавшееся во всем израненном теле убаюкивающим покоем, прекратилось. Чьи-то руки сняли его с лошади – и, кажется, все пространство взорвалось резкой болью. Словно проткнули острым тонким штырем от подмышки к подмышке. Но сил не хватило даже на крик – лишь на то, чтобы едва слышно застонать.
Все вдруг стало просто и ясно, чисто и нежно, и эта ясность затопила.
«Не умирай».
Голос отца ласков. Никогда еще отец не говорил с ним так. Никогда. Чаще всего в его глазах читался спокойный трезвый расчет, с каким, должно быть, ростовщик прикидывает, сколько можно выручить из закладной промотавшегося гуляки.
И страх. Отец боялся его – боялся, как опасаются не вполне прирученного зверя.
Расчет и страх, страх и расчет… Колебанием весов – туда-сюда. Маятником.
«Не умирай…» – качнулся маятник, скользнул по груди, прочертил линию. Отдался раскаленной полосой боли где-то в правом боку. Боль… все тело было легким и одновременно наливалось свинцовой тяжестью.
«Еще не время…» – Неужели там так страшно, что отец предостерегает его? Нет, нет, отец жив и хочет, чтобы жил он… Оттого и лицо его так ласково, так беспредельно ласково.
«Не время умирать», – лицо отца меняется, и вот уже нос становится тоньше, а щеки полнее, и на него глядит король Фердинанд. Рядом с ним улыбается его дочь… Хуана Кастильская протягивает руку, касается пальцами щеки – так же беспредельно нежно, и он задыхается от этой нежности…
«Ты не должен умереть», – делла Ровере гримасничает, но взгляд его так же ласков, как взгляд отца. Отца? «Ты мой, мой сын… Много лет назад я дал обещание твоей матери сохранить в тайне, чье семя дало тебе жизнь…»
«Ты не должен умирать…» Хуан? Что делаешь ты тут, брат? Пришел стать моим Вергилием и провести по самым потаенным уголкам Вечной бездны?
Но брат качает головой и, наклонившись близко-близко, шепчет: «Ты еще не отслужил…»
Чьи-то руки протягивают ему меч. Меч, на котором выгравирована Эйрена, богиня Мира. И у Эйрены – лицо Лукреции, его Лукреции… Меч… богиня Мира… Лукреция. «Ты не должен умереть, Чезаре…» – голос отца полон теплоты. Излишне полон, тепло переливается через края чаши, густой смолою течет по стенкам и капает обжигающим воском, каждая капля жжет… больно… «Тебе еще не время умирать… ты еще не все сделал!»
«Ты еще не вошел в Римини! Не отвоевал Урбино! Не надел корону Неаполя!..» Лица переливаются, одно в другое, перетекают, словно жидкая смола, меняют форму, заполняя собой пространство… гримасничают, высовывают языки. И все они – лицо отца, холодное, жестокое. Равнодушное.
«Урбино!.. Римини!.. Чезена!.. Милан!.. Неаполь!.. Рим…» Рим… Рим… Рим… набатом, чумным и страшным звоном.
«Ты не умрешь, пока ты нужен мне. Без меня ты ничто. Ты мой». Лицо отца полно нечеловеческой холодной жестокости, и кружащиеся вокруг лица – королей, королев, тиранов, живых и мертвых, делаются масками, носатыми масками чумных докторов, а потом сливаются в серо-черное чумное марево.
«Ты не умрешь…»
Меч с лицом Лукреции… он везде и нигде, и если прикоснуться к его рукояти – случится что-то ужасное. Меч – Лукреция… Меч – смерть! Но разве Лукреция может быть смертью? Нет!
Чернота и белая вспышка боли – белая, как тот белый свет,сквозь которого лядело чье-то лицо, далекое и родное. И боль отступала потом волнами, становясь из белой желтой, потом алой и, наконец, тускло-багряной; так остывает вынутое из горна железо. Краткие проблески сознания, когда мучительно хотелось пить, так сильно, что губы и рот горели огнем. Сердце в такие мгновения колотилось в ребра, как заключенный в дверь узилища.
И все же он благодарен этой боли – вырывавшей из кошмара, уберегшей рассудок. Ласковость, с которой они желали его жизни, сейчас неимоверное ужасала; орудие, оружие, какой-то временно необходимый предмет, который брезгливо отбрасывают за ненадобностью – вот чем был он для них. Для них всех…
Сознание иногда прорывалось снаружи – голосами, чужими и ненужными.
–…Что это?
– Соленая вода это. Первое дело, если нечем больше. Что ж по живому-то отдирать? Держи его!
И снова боль, в боку под рукой, потом на правом бедре, на плече – остывающая долго, как хорошо раскаленная стальная крица. Боль, кажется, способна и мертвого пробудить. Нет сил вцепиться зубами в руку, прижавшую его к постели, нет сил даже крикнуть – и он воет, придушенно, жалко, скулит, как щенок. И снова чернота. И эта чернота длилась целую вечность – пока губ не коснулось что-то кисловатое, с острым свежим запахом. Знакомым и тревожным запахом граната. На лоб легла прохладная мокрая ткань, и та же прохладная влага обернула, обтекла ладони и стопы. Теперь запахло кисло и терпко – молодым вином, хмель от которого так легок для головы и так тяжел для ног.
Ворвавшаяся откуда-то глупая песенка – не бесы ли это потешаются над ним? Он в аду…
– Хоть так… – это голос женщины. Лукреция?..
– Дон Иньиго с ума сойдет, если узнает, сколько вина ты на него ухлопала.
– Разве не он заплатил дону Иньиго? – невидимая сейчас для Чезаре женщина поднялась, послышались шаги. – Жар не спадает уже пятый день – он не выдержит… Ты не можешь ничего сделать, черт бы тебя подрал?
– Что ж я могу? Я не лекарь.
– Лисенок, ну подумай!
Вздох – слишком тяжелый, чтобы быть искренним.
– Ну что ж, это будет даже забавно. Посмотрим, кого еще привлечет на огонек.
И откуда-то из черноты, которая снова начала заполнять его, полилась тихая музыка рожка. Она гладила и ласкала, кружила голову и утишала пылающий вокруг Чезаре огонь. Она была сильной и властной, как сама смерть.
– Меч!.. – Чезаре показалось, что он крикнул это, но на самом деле с губ его слетел лишь тихий шепот. Он умрет с мечом в руке – как тогда, в Сант-Анджело, когда умер отец, а беснующаяся римская толпа выкликала угрозы всем Борджиа. Может, он действительно умер тогда, а сейчас все происходящее – просто… ад…
– Ваша светлость!.. – близко-близко, у самого лица. Даже слышно прерывистое, тревожное дыхание. Чезаре с трудом разлепил веки – тяжелые-тяжелые, будто свинцовые. Он жив.
***
Самым трудным было менять повязки. В первый раз Нати попыталась просто снять их – но не тут-то было, ткань намертво присохла к ранам и у нее не хватало духу просто отодрать бинты. Их надо было отмачивать, и она решила использовать вино, разведенное отваром тысячелистника.
Отмачивать бинты соленой водой посоветовал дон Иньиго; старый виноградарь бормотал что-то про свойства соли вытягивать гниль из ран, но Нати не слишком ему верила. Она подозревала, что хозяин вознамерился отыграться на беспомощном раненом, которого он в первый день едва не вышвырнул за дверь. Нати тогда пришлось встать насмерть – она и не ожидала, что простая человеческая боязнь неприятностей, вполне понятная и объяснимая в другое время, так ее возмутит. На помощь ей неожиданно пришел Лисенок – он как ни в чем не бывало напомнил дону Иньиго про увесистый кошель, полученный тем как-то от молодого слуги.
– Вспомните тот день, когда мы с Нати у вас поселились, многоуважаемый сеньор, – Лисенок с невинным видом поднял брови. – Хуанито как раз договаривался с вами от имени своего господина – что в должное время этот господин обретет у вас кров и укрытие.
Нати только рот раскрыла – она точно помнила, что Лисенок все время, пока Хуанито говорил с хозяином внутри, стоял рядом с нею снаружи. Но Лисенок вообще умудрялся прознавать про скрытые для других вещи, так что особо тут удивляться не приходилось.
– И получив вознаграждение, вы решили нарушить договоренность? Мне не хотелось бы так думать, почтенный сеньор де Мендоса, – голос у Лисенка был самым что ни на есть спокойным, но угроза ощутимо повисла в наливающемся солнцем воздухе. Дон Иньиго пробормотал, что-то вроде «кто его знает».
– Вы ведь видели того, кто его привез сюда? – прервал хозяина Лисенок. – Как вы думаете, что сделает этот человек с вашими виноградниками, если узнает, что вы поступили с раненым столь немилосердно?
– Мартин де Бланко… – пробормотал дон Иньиго. И поспешно закивал головой, из чего Нати заключила, что шутить с крепким высоким мужчиной, который с рассветом привез завернутого в плащ беспамятного Эль Валентино, бережно снял его с седла и отнес в дом, не следовало. Как и пытаться обмануть.
Отмачивать повязки соленой водой казалось изощренной пыткой – как и класть в рану на короткое время пропитанную той же соленой водой чистую тряпку. Однако неожиданно Лисенок согласился с этой варварской методой. И Нати, скрепя сердце, проделывала всю процедуру – кому же еще? Она тут единственная женщина. Утешало ее то, что Борджиа почти все время пребывал в беспамятстве, так что, надеялась девушка, боль ощущал не так сильно. Да и раны, особенно самая страшная, сбоку под рукой, выглядели, по утверждению дона Иньиго, вполне пристойно – во всяком случае, она не видела слишком много выступающего гноя или «гнилой черноты», как называл это старик. Во время перевязок он обычно приходил, садился рядом и начинал бесконечные рассказы о том, как бился когда-то под знаменами короля Фердинанда под Бургосом и какие раны тогда повидал.
– Кровищи, должно быть, из него много вытекло. Дааа… А так это разве раны? Вот помню, был знаменосец.., как бишь его звали? Мигель, кажется. Высокий детина, страшный, что смертный грех, прости Господи. Нос у него был такой, как виноградная кисть, весь в бугорках. В жизни, Пречистою девой клянусь, таких носов я больше не видал. Мда… заряд аркебузы угодил ему прямо в нос. Кто-то из наших сказал, что слышал, как Мигель молил Деву Пилар избавить его от уродливого носа – он к одной девушке собирался посвататься после. А тут бабах – носа и нет. Ох и рожа же у него была! А другому вспороли живот. Он-то за завтраком поел плотно, и вот кишки вывалились и прямо в его завтраке-то и плавали…
Нати сглатывала и старалась не слушать то, что говорил старик, сосредоточившись вместо этого на ранах Борджиа. Но в жутких рассказах дона Иньиго была своя польза – после них рана на боку, кроваво-алая, с какими-то белесыми обломками выглядела уже не так страшно. И снова Нати мучилась от жуткого раздвоения сознания – одна половина готова была блевать при виде рваных краев, голого мяса, которое обнажалось, когда она снимала бинты, а вторая, хотя ужасалась не меньше, страдала больше от осознания той боли, которую перевязки причиняли раненому.
На второй день после появления Борджиа Лисенок куда-то таинственно исчез. Работы на винограднике было сейчас немного, так что он не дал себе труда предупредить дона Иньиго. У Нати душа была не на месте – она вдруг почувствовала себя беззащитной: если дон Иньиго рассердится из-за исчезновения Лисенка, бог знает, что может прийти ему в голову. Но Лисенок вернулся уже к обеду.
– На Тростниковое озеро ходил, – пояснил он. И сгрузил в угол кухни большой, но явно нетяжелый мешок. В нем оказалось нечто волокнистое, серое и сухое, похожее не то на плохую вату, не то на чрезвычайно мягкое сено.
– О, это вещь дельная! – похвалил дон Иньиго. – Самая полезность для ран – сухой болотный мох. Гнилость высасывает.
С того дня перевязки стали гораздо менее мучительны. Однако раненого лихорадило, и лихорадка никак не шла на спад.
– Редко кто такой жар больше недели выдерживает, – сказал как-то дон Иньиго. – Сгорает человек, заживо поджаривается.
Ночью Борджиа становилась заметно хуже, и Нати всякий раз боялась, что он не доживет до утра. Он содрогался от утробного, влажного кашля, и приходилось поворачивать его голову набок, а то и приподнимать, чтобы вытекла кровавая мокрота и раненый не захлебнулся бы собственной кровью. Дон Иньиго ворчал, что у бедняги ребра если и срастутся, то будут напоминать штопор, но у Нати не оставалось выбора – сил на то, чтобы откашляться нормально, у раненого просто не было.
Лицо в цвет бинтов, губы с синевой, кожа блестит от пота и обтянула заострившиеся скулы, запавшие глаза – ничто в этом полутрупе не напоминало победителя, четыре месяца тому назад спустившегося в Олите с колокольни, будто сошедшего с небес. И в Нати рос протест – положение, в которое попал Борджиа, казалось ей жуткой гримасой судьбы, глумлением надо всем, к чему стремится гордый человеческий дух.
Лисенок, как и всегда, был весел и невозмутим. Его вообще мало что в этой жизни могло огорчить, расстроить или озаботить; вся человеческая круговерть была для него лишь материалом для забавных наблюдений. Он все время складывал какие-то дурацкие песенки, по большей части на один и тот же простенький, приплясывающий и подмигивающий, как шутовская кукла на ярмарке, мотивчик.
Вот и сейчас он заявился с новой порцией бинтов – Нати знать не желала, где он брал тонкое и даже почти белое полотно, которое они раздергивали на долгие полосы. Крал, наверное.
Итак, Лисенок явился со жмутком бинтов, напевая очередную песенку.
На мне шапка из Схинвельда,
Башмаки из Блюменфельда,
В них брожу я как босой
С длинной гентской колбасой.
Колбасу я уминаю,
На девчонок западаю,
И гоняюсь за красой
Со своею колбасой.
– пропел Лисенок и легонько дернул Нати за выбившийся из-под платка локон. Увернувшись от замахнувшейся на него девушки, он продолжил:
Раз вечернею порою
Повстречал я Смерть с косою.
Вот идем мы – смерть с косой
И я с гентской колбасой.
«Чтоб ты лопнул!» – подумала Нати.
Смерть идет да все канючит —
«Голод мучит, брюхо пучит…»
Лисенок сделал паузу, явно любуясь закипающей от злости девушкой. И допел:
Не мечтай, чтоб я с тобой
Поделился колбасой.
Нати, изо всех сил стараясь не обращать внимания на этого оглоеда, сменила пропитанную скисшим в уксус вином тряпку на лбу раненого, чем хоть как-то пыталась сбить жар. После тряпки лоб казался холодным, но Нати знала, что это впечатление обманчиво. Лисенок наблюдал за происходящим, чуть склонив набок вихрастую рыжеватую голову, иногда отпуская замечания вполне циничного свойства.
И Нати, наконец, дала волю скопившейся злобе.
– Ты не можешь ничего сделать, черт бы тебя подрал?
Ну конечно, Лисенок не лекарь. Но ей вдруг вспомнилась приманенная им змея. Вспомнилась Нати и внезапная – слишком уж внезапная – ее болезнь, когда увезли в Логроньо Джермо и за ним уехали остальные. Уехали, чтобы сгинуть в лапах инквизиции.
Злоба ли сделала ее красноречивой, или Лисенок и сам решил посмотреть, что из этого выйдет, но наконец он, преувеличенно тяжело вздохнув, вытащил рожок.
– Ну что ж… Посмотрим, кого еще это может привлечь, – скрестив ноги, будто индийский факир, Лисенок уселся на пол и заиграл.
Нати слушала тихую и очень простую мелодию, которая лилась из его рожка, и ей казалось, будто все пространство вокруг закручивается воронкой, в центре которой находится кровать с лежащим человеком. Воронка закручивалась тепло и мягко, будто была из ваты, и эта мягкость странным образом ощущалась сразу всеми чувствами.
– Меч!.. – отчетливо услышала она. Борджиа задышал чаще, а рука его судорожно сжималась и разжималась.
– Ваша светлость… – наклонившись к нему, проговорила Нати как можно более мягко и успокаивающе. Лисенок перестал играть и победно улыбнулся.
А вечером, когда уже почти стемнело, снаружи дома раздалось надрывное ржание. Нати, которая прибиралась в кухне, выглянула в окно и увидела коричневую морду Пепо. Мул был худым, уставшим, в короткой гривке и хвосте запутались репьи, а одно ухо было разодрано почти до половины.
– Вот и первый гость, – проговорил подошедший сзади Лисенок. И Нати как-то даже не удивило внезапное появление мула. Все шло как надо. Все теперь будет идти каким-то другим, новым порядком.
Нельзя сказать, что с того дня болезнь прямо так и пошла на спад. Но какой-то перелом произошел – если не в состоянии Борджиа, то уж точно в самой Нати. Больше не было этих приступов отчаяния и злобы – она просто делала свою работу. Даже самые неприятные процедуры стали восприниматься как просто еще одна необходимость. И Нати училась на ходу – обтирать, бинтовать, поить и кормить, выносить судно и стирать бинты. Одновременно на ней лежала работа по дому, хотя Лисенок взял на себя обязанности повара – и получалось у него, надо сказать, совсем неплохо.
Перевязки сделались гораздо более мучительными, когда Чезаре (мысленно Нати все чаще называла его по имени, хотя прекрасно сознавала, что вряд ли имеет право на такую фамильярность) – когда Чезаре стал приходить в себя. Мох, принесенный Лисенком, помогал, но рана была глубокой, и каждый раз при перевязке Чезаре белел как полотно – если только в его состоянии вообще возможно было побледнеть еще больше, – и со стоном ругался такими словами, что даже дон Иньиго приходил послушать. Лисенку приходилось удерживать его на месте, рискуя повредить сломанные ребра. Право, иногда Нати сожалела, что Чезаре пришел в себя.
Сам он, кажется, воспринимал свое положение, как некое неизбежное зло. Нати иногда казалось, что Чезаре даже не очень стремится поправиться. К слабости, болям и тошноте он относился так, будто это все происходило не с ним. Будто его тело не было им, а было просто неким сугубо функциональным предметом, не особенно необходимым, но поломка которого досаждает. Он почти не говорил, послушно пил настои трав, обнаружившихся у запасливого дона Иньиго, но чувствовалось, что равнодушие поглощает его, как трясина. И только забытье было, кажется, для него каким-то спасением.
Дон Иньиго ворчал порой что раненый занимает слишком много времени, – но работы на винограднике почти не было, так что крыть ему было нечем. Удивительно, но даже приморозки, неожиданно побелившие свежие листики на лозах, никак не навредили винограду сеньора Мендоса. «Чудо», – говорил старик, обходя по утрам свои лозы.
Чезаре, которого уже гораздо меньше донимала лихорадка, стал очень мерзнуть.
– Так бывает, когда из человека выпустят много крови, – с многоумным видом изрек дон Иньиго.
– Наверное, меня готовят к ледяному аду, – прошептал в ответ Чезаре – так тихо, что услышала только Нати. Ей смутно припоминался Данте, но его ад она помнила плохо, так что сообразить, кто именно там мучился в ледяном аду, не могла. Но важно было не то – она вдруг осознала, что несмотря на улучшения, Чезаре все так же готовится к смерти.
– Я накрою вас еще одним покрывалом, ваша светлость, – сказала она. – И камин подтоплю.
Хозяин будет недоволен, станет ворчать, подумала она, – на расход дров.
– Хозяин недоволен, – будто прочтя ее мысли, проговорил Чезаре. – Он недоволен. Давно… Обещал золотые горы… пресмыкался… Просто хотел выжить – как гадюка, которую разрубают надвое… Она все извивается…
Бредит. Нати приложила ладонь к его лбу – жар есть, но уже далеко не тот, что прежде. А вот озноб усиливался – Чезаре била крупная дрожь, он судорожно натягивал на себя покрывала.
– Лукреция… – слетело вдруг с его губ. Мольбой, молитвой. И Нати, не раздумывая, прилегла рядом, стараясь согреть его.
– Ляг с другой стороны, – велела она вошедшему Лисенку. Тот, ни о чем не спрашивая, подбросил в камин полено, расшерудил огонь, послушно взметнувшийся вверх, а потом улегся рядом с Чезаре с другой стороны. Раненый задышал ровнее – то ли согрело тепло от камина, который горел теперь ярко и жарко, то ли тепло прижавшихся к нему тел.
– Делать… – пробормотал Чезаре. – Она всегда что-то делала… моя маленькая сестричка… Делала. Вопреки всем и всему. Все говорили – она делала. Мы с ней… мы были как бедные бездомные дети, которые делятся последним одеялом… Как едва научившие ходить – таких сбивает с ног каждый подвернувшийся под ноги холмик… Я упал… Меня победил зверь… бык… Он подстерег, и я не смог убежать… Мясом живым в живую могилу уходит… (1)
– Неправда! – Нати сама сознавала, что это глупо – спорить с бредящим в лихорадке человеком. Но этот бессвязный бред пугал ее так, как не пугала даже открытая рана.
– Вы выжили, вы живы…
– И что с того? – голос Чезаре был слаб, но безусловно осмыслен. – Мне нигде нет места. Даже солдаты короля оказались…
Он замолчал, отвернулся.
– Кто привез меня сюда? – спросил он некоторое время спустя. Впервые он спрашивал об этом.
– Человек, – так, будто это объясняло все, ответил Лисенок. Потом счел нужным уточнить: – Высокий, крепкий, с голубыми глазами.
Впервые на лице Чезаре появилось что-то похожее на улыбку.
– Человек… – повторил он шепотом.
***
Говорят, мужчины гораздо хуже женщин переносят вид крови и обескоженной кровоточащей плоти. Говорят, что многие прославленные воины падали в обморок, видя свою кровь. Так это или нет – доискиваться не будем. Скажем только, что Чезаре Борджиа своей крови не боялся. Когда Нати перевязывала уже начавшую подживать рану на бедре, Чезаре смотрел с отстраненным интересом на желтовато-бледные края и ало-розовую середину, и даже вид белесой с багряными прожилками сукровицы не вызывал у него отвращения. Просто чудо, что рана не загнила – было бы обидно лишиться ноги до самого паха. Потом он подумал, что здесь никто не стал бы отрезать ему ногу.
Рана в боку доставляла гораздо больше неудобств – каждый вдох если не причинял боль, то напоминал о ней. Но самым болезненным был кашель. В забытьи Чезаре казалось иногда, что его собственные ребра превращаются в огромных белых червей, вползают в легкие и пожирают их. И откашливая кровавую мокроту, он всякий раз с трудом убеждал себя, что это еще не конец. Кажется, его сиделка и лекарка сама боялась этого кровавого кашля больше, чем открытых ран или необходимости подкладывать раненому утку.
Но как бы там ни было, он медленно шел на поправку. Нельзя сказать, что это не радовало Чезаре, но одновременно выздоровление напоминало о близящейся необходимости решать многие насущные дела. Он не спрашивал, куда подевался Хуанито – само отсутствие слуги уже было ответом на вопрос. Хуанито знал о виноградне Матамороса, и причина тому, что его не было сейчас здесь, с господином, могла быть только одной, и относилась эта причина к разряду непоправимых.
Впрочем, могла быть другая причина, но о ней Чезаре старался не думать. Если уж Хуанито не предал его раньше… Хотя ведь то же самое можно было сказать о короле Иоанне, чьи солдаты оставили его одного.
– Повернитесь чуть-чуть, ваша светлость, – голос Нати вывел его из раздумий. Удивительно, как мысли могут приглушать боль. Наверное, эту идею стоит подать Торелле, подумал Чезаре – лекарь когда-то жаловался, что во время операций более всего усилий уходит на то, чтобы больной был достаточно бесчуствен, чтобы не умереть от боли, но все же не столь крепко усыплен, чтобы не проснуться вообще. Опий и белладонна же часто приводили ко второму исходу.
– Наверное, мало кто так же терпеливо переносит боль, как вы, – сказала Нати, закончив перевязку. В голосе ее было неподдельное восхищение и ни тени подобострастия. Кажется, быть подобострастной она вообще не умела.
Боль… Наверное, он даже любил боль. Чезаре вспомнил, как пригвоздил себе руку к деревянному столу, пробил ладонь гвоздем, как некогда пробили ладони Христа. Вспомнил бичевание, которому он подвергал себя когда-то. Так часто, что рубцы на спине едва успевали затягиваться. В конце концов, бичевание стало приносить удовольствие, но прекратил его Чезаре лишь когда окончательно разверился – кажется, это случилось после смерти Савонаролы… или раньше? Или он вообще никогда не верил?
– Ты изучала медицину до того, как попала сюда?
Нати оторвалась от своего занятия – она меняла прокладку из сухого мха – и удивленно воззрилась на него. Видно, не ожидала, что во время такой болезненной процедуры Чезаре будет способен о чем-то спрашивать.
– Нет. Даже не пыталась, – она, верно, решила, что разговор как-то отвлекает его от боли. – Я помню, что помогала овце родить… – Нати забавно наморщила лоб, – но не уверена, что мне это не приснилось.
– Наверное, это память твоей второй половинки, – все эти мысли про половинки давно должны были свести ее с ума, как ту ее белокурую подружку. Но нет, она рассуждает и действует вполне здраво. Вот и сейчас сделала вид, что не услышала его слов.
– И где же ты жила, пока не попала сюда?
– Мы бродяжничали, как вы знаете, ваша светлость.
– Я не то имел в виду. Где ты жила в этом своем… будущем?
Неужели она надеялась, что он позабыл ее признание, рассказ про университет и изучение права?
– В Лос-Анджелесе.
– Это Кастилия? Не слышал о таком городе.
– Это Америка, ваша светлость. Новый свет.
– Ты также считаешь, что Христофоро Коломбо не открыл путь в Индию, а открыл новую землю? – Когда-то они до хрипоты спорили об этом с Алессандро Фарнезе. Когда же это было – не в тот ли самый год, когда его отец был избран понтификом?
– Я ведь там живу, ваша светлость.
– Чезаре. Так что же там, в этом новом свете? – боль перехватила вдох, Чезаре закашлялся, и Нати поспешно подняла его голову и подставила глиняную мисочку под самые губы.
– Не в честь ли флорентийца Веспуччи назвали его? – откашлявшись, сплюнув кровь и отдышавшись, продолжил Чезаре.
– Именно так, ваша светлость.
– Просто Чезаре. Из-под светлостей законники дерьмо не выносят, – попробовал он пошутить. И с удовольствием увидел, как Нати поспешно отвернулась, пряча улыбку. – Судя по названию, в вашем городе счастливо сосуществуют испанцы и итальянцы.
– Американцы, ваша светлость. В Америке перемешалось много наций. Но все же англосаксы имеют определенный приоритет. Если не количественный, то качественный.
– Вот как… Стало быть, англичане. Вероятно, они приплыли туда вслед за Джованни Кабота, который искал Остров блаженных по приказу английского короля.
– Я о таком не знаю, ваша светлость.
– Чезаре.
– Чезаре…
– Так что же там, в вашем «городе ангелов»? По улицам летают вертящиеся механизмы, вроде тех, что рисовал для меня Да Винчи? Надеюсь, в вашем мире о нем знают?
– Разумеется, знают. Он же гений. Как и великий Микеланджело.
– Микеланджело… – Чезаре откинулся назад, прикрыл глаза. Нати закончила перевязывать его, но уходить не спешила. И Чезаре не хотелось, чтобы она уходила.
– Лисенок сварил бульону, сейчас я принесу, – сказала, наконец, Нати.
– Принеси.








