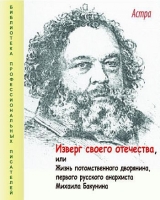
Текст книги "Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Бакунина"
Автор книги: Астра
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Астра
Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Бакунина
Пролог
Отец, Александр Михайлович Бакунин
Проснувшись по-деревенски рано, Александр Бакунин, лишь вчера приехавший в родительское имение Прямухино из Санкт-Петербурга, ощутил утренний прилив счастья и вскочил с постели. Деревня!… деревянные стены, дощатые полы, зеленая свежесть за распахнутым окном… как непохоже на его петербургское холостяцкое жилье, богатое, достойное его нынешнего чина, но столь казенное!
Пройдясь по анфиладе тихих комнат, Александр оказался на крыльце. О, что за воздух! В медовый аромат зацветающей липы вплелись запахи ромашки, ночной фиалки, струйка тысячелистника и даже цветущей гречихи с полей, и мокрого камыша из болотистой старицы, потерянного когда-то руслом Осуги.
Ясно-малиновый диск солнца только-только показался над сизой кромкой дальних лесов. Нежные лучи его озарили холмистые поля, рощи и перелески, розовым блеском отразились в тихой Осуге; навстречу им, словно застигнутые врасплох в росистых низинах и ложбинах, уже подымались и таяли ночные слоистые туманы.
В обширном деревянном барском доме, купленным батюшкой почти двадцать лет назад у премьер-майора Шишкова, он, Александр, можно сказать, никогда не жил: посланный в девятилетнем возрасте в Италию, он возрастал в стране всевозможных искусств и наук под присмотром влиятельного родственника-дипломата. Дядя отнесся к воспитанию мальчика со всевозможной ответственностью, держал в строгости и постоянном труде, в особенности же следил как за тем, чтобы в круг чтения Александра непременно попали все великие произведения человечества, воспевающие честь и благородство знаменитых людей древности, так и за тем, чтобы собственные размышления отрока о прочитанном были подробно изложены им на языке подлинника. По прошествии немногих лет, следуя семейной традиции в государственной службе, юный Бакунин поступил в канцелярию российского посланника в Турине. Вскоре он окончил университет в Падуе по факультету натуральной истории, получил диплом доктора естественных наук, преуспел в ботанике, географии, освоил все европейские языки. Служа переводчиком при императорских миссиях в мелких итальянских государствах, Александр широко пользовался свободой путешествий, совершая деловые поездки по Европе.
Ах, Италия! Испания, Франция!
«Кто не жил во Франции до революции, тот не знает наслаждения жизнью!»-со вздохом говаривал на склоне лет премудрый лукавец Талейран!
Объемистые тома французских энциклопедистов, Вольтера и Руссо заполняли кабинет молодого чиновника. Под страстным воздействием передовых европейских умов любимыми думами его тоже стали идеи всеобщей справедливости. «Человек рождается свободным! Братство, равенство, свобода!» – повторял он, пылко отзываясь на веяние времени. Начало революции застало его в Париже. И весьма скоро охладило пыл молодого вольтерьянца, своими собственными глазами узревшего, по его словам, «кровавые неудобства перехода верховной власти в руки людей, не обладающих другими качествами, кроме свободомыслия». Беспорядки, свидетелем коим стал он по воле случая, стрельба и озлобленные толпы парижан на баррикадах, и разрушение Бастилии отрезвили юношу на всю жизнь.
Указом Екатерины II Александр Бакунин был произведен в коллежские асессоры, а в 1790 году, образованный, многое повидавший, молодой, двадцатидвухлетний, он вернулся в Россию и обосновался в Санкт-Петербурге. За плечами его был уже немалый жизненный опыт и определившееся политическое мировоззрение. Честность и разумная твердость отличали его в делах. Принятый в самых родовитых домах, рослый, красивый, европейски образованный, он вошел в лучшие слои общества. Собственные же интересы молодого человека простирались на поэзию, на литературу, историю, он стал своим человеком в литературном кружке Державина – Львова, самом изысканном собрании того времени. И Николай Львов, и Гаврила Державин были, к тому же, его дальними родственниками по ветвистой родне, которая обитала в тех его же краях. Пробовал Александр Бакунин свои силы и в сочинительстве, но, главным образом, внимал любимым и великим современникам…
Указом Павла I Александр Бакунин назначается советником Гатчинского городового управления. Блестящая дорога российского государственного мужа открывалась перед ним. «Наслаждениям жизни», казалось, не будет конца!
Но…
Летом 1797 года на его квартиру в Петербурге пришло письмо от родителей. Его вызывали в Прямухино. В этом не было ничего необычного, он и сам собирался проведать свое семейство, как делал почти каждое лето. А потому тотчас помчался из Санкт-Петербурга по пыльному тракту среди лесных и озерных просторов прямо в Тверь, оттуда дорожками поплоше в Торжок, а там и в Прямухино.
Родителей нашел он постаревшими и нездоровыми, особенно отца, страдавшего болезнью глаз и ног, а троих сестер – по-прежнему незамужними, крепкими телом и духом, коротавшими свой век в молитвах, постах и чтении священных книг. Вечер прошел в долгих беседах. Михаила Васильевича, екатерининского вельможу, тайного советника и вице-президента камерколлегии в отставке, в первую очередь интересовали петербургские порядки, заведенные новым императором. Сидя в глубоком «вольтеровском» кресле, он осуждающе качал головой, слушая о чудачествах нового государя Павла I. Матушку, Любовь Петровну, занимали подробности жизни родственников и дворцовые хитросплетения.
За всеми расспросами Александр не мог не ощутить дальнего, скрытого смысла своего вызова в родительский дом. Доверчивый и почтительный сын, он не ждал ничего дурного. Поэтому и поднялся так счастливо на зорьке, и отправился, сломив тонкий ивовый прутик, горьковатый и свежий, на прогулку, разрубая со свистом воздух, вдоль росистого бережка чистой, прихотливо вьющейся речки Осуги, в тихих струях которой резвились пескари и колыхались длинные зеленые водоросли.
За завтраком все объяснилось.
– Сын наш Александр, – не без торжественности произнес батюшка. – Пришло время сказать тебе отцовское слово. Преклонные лета и тяжкие хвори не позволяют нам надлежащим образом печься о благоустройстве дел всего семейства. Поместье требует неусыпных трудов. Пятьсот душ, под присмотром старосты, должны иметь властную и твердую направляющую руку. Объявляем тебе нашу родительскую волю.
Отец повелевал сыну подать в отставку и поселиться в Прямухино. Возможность подавать в отставку по собственному желанию была дарована еще императрицей Екатериной II в «Указе о вольности дворянства», отменившем закон о сорокалетней государственной службе.
Молча выслушал Александр громом поразившее известие, так же молча подошел к родительской ручке, после чего удалился в свою комнату.
Через час с небольшим со двора усадьбы выехала щегольская открытая коляска, запряженная двумя лошадьми. Правил ими сам молодой хозяин. Потрясенный неожиданным поворотом в своей судьбе, Александр Бакунин спешил к Львову за пятнадцать верст, в имение Никольское-Черенчицы. В душе кипело и пылало возмущение «родительским деспотизмом», в глазах стояли слезы.
«Это невозможно! Невыносимо! Это… это пулю в лоб!» – безмолвно возмущался он.
– Сашенька! – окликнули его. – Ждать ли тебя к ужину?
О нем беспокоилась Татьяна Михайловна, любимая сестра.
Она стояла у ворот, приложив руку ко лбу от солнца, и понимающе улыбалась. Сдержав резкие слова, он помахал ей легкой полотняной шляпой и ответил с примирительной усмешкой.
– Я задержусь у Николая Александровича дни на два, на три. Не скучай, Танюша!
– Привет Львову и его семье! Счастливый путь! – за ласковыми словами Татьяна не сумела скрыть томительного желания умчаться со двора так же свободно, как это позволено ему, мужчине.
Сытые добрые кони легко понесли вдоль широкой деревенской улицы, по дороге к березовой роще, дальше, дальше. Широко, бесконечно расстилалась вокруг равнина. Зеленые пологие холмы, засеянные рожью, пшеницей, овсом, ячменем, редко гречихой, привольной чередой нарушали ее ровность. Земля родила небогато, на красноватых суглинках почти никогда не созревали тучная жатва, редкому крестьянину хватало хлеба до нового урожая. Этого не мог не знать и не видеть молодой хозяин. Возделанные поля перемежались с перелесками, и чем дальше от имения, от деревенских серых изб, тем ближе и гуще подступали леса, пока, наконец, не сомкнулись вдоль влажной грязной дороги сплошной темной чащей.
«Батюшка прав, – думал Александр по трезвому размышлению, – хозяйство на пороге разорения. Нужны скорые меры, строгий надзор. Если бы не это, ужели бы он решился запереть меня в глуши? Жестокие, жестокие обстоятельства!»
Вновь засветлели перелески, показались ближние и дальние поля, пары, болотистый ручеек и низкая пойма с луговинами, стогами сена, зарослями ивняка. Блеснула синевой ленивая река с обрывистыми желтыми берегами.
Коляска миновала одну за другой еще две серые деревеньки, пустынные в эту страдную пору. Отсюда до имения Николая Александровича оставалось три-четыре версты.
Оно показалось в отдалении, на возвышенном холме, прекрасный дом в классическом стиле, с портиком и колоннами. На возвышении виднелся мавзолей с колоннами, античный круглый храм, перекрытый куполом, розовая лестница, цокольный этаж из дикого камня грубого окола, наверху же блестел золоченый шар с ясным крестом. Александр на мгновение прикрыл глаза – столь явственно и больно возникли в душе виды Италии. Неужели все кончено? Неужели участь его отныне – деревянный дом, отчеты старосты и глушь, глушь… «О, деспот, деспот собственных детей!» – воскликнул он про-себя, не решаясь, однако, отослать упрек в точный адрес.
Николай Львов, как истинный представитель екатерининского просвещения, успел проявить себя во многих областях культуры. А между тем даже читать его не обучили в родном доме! Как поэт, он был известен стихами и поэмами, издал целый сборник русских народных песен, а как архитектор, Львов стал одним из основателей русского классицизма. Им были построены Невские ворота Петропавловской крепости, здание Кабинета, Почтамт, жилые дома в Санкт-Петербурге, возведены храмы и соборы во многих городах России.
… Обогнув мраморный фонтан, колеса зашуршали по мелкому гравию просторного подъезда и остановились.
– Александр! – Львов сам выбежал под узорчатую тень свода, поддерживаемого колоннами над парадным крыльцом. – Как я рад! У меня как раз в гостях Гаврила Романович да Михайло Муравьев. Уж собрались гнать посыльного к тебе в Прямухино, ан глядь, сам собой молодец явился. Хвалю, Сашка, хвалю.
– Легок на помине, – невесело улыбнулся Бакунин. – Здравствуй, Николай. Мои домашние шлют тебе добрые пожелания.
– Благодарствуй, друг! Да с тобой-то что стряслось, какие тучи? Пойдем, пойдем, поделишься, посоветуешься. Рад, очень рад тебе.
Несмотря на цветущий мужской возраст, сорок пять лет, Николай Львов был хрупок, как юноша, с тонким, почти женской красоты лицом, с подвижными, ласковыми, всегда одухотворенными глазами.
По лестнице, устланной светло-зеленым ковром, они поднялись на веранду второго этажа.
Здесь, за накрытым столом, уставленным легкими закусками, хрустальными бокалами и темной бутылкой шампанского в серебряном ведерке с полурастявшим льдом, сидели великий поэт и вельможа Гаврила Романович Державин и Михаил Николаевич Муравьев, широколицый мужчина лет сорока, спутник Львова в юношеским путешествиях по Европе, учитель русского языка и истории при наследнике Александре Павловиче, «Басни», «Переводные стихотворения» составили Муравьеву в недалеком прошлом скромную известность среди любителей словесности, в последнее же время он увлекался «записками, которые бы упражняли размышление наше» и не печатал почти ничего.
– Ба, ба, ба! – загудел Гаврила Романович, легко подымаясь с места, чтобы обнять молодого Бакунина. Зоркие глаза его тут же заметили тень печали на лице новоприбывшего.
Он набрал воздуху в грудь.
Забыть и нам всю грусть пора,
Здоровым быть
И пить:
Ура! ура! ура!
– зычно прокричал он отрывок своего еще юношеского стихотворения. – Садись, садись напротив, смотри, как надо жить!
Высокий, носатый, сухощавый, в широкой белой, тонкого полотна расстегнутой рубахе с кружевом и вышивкой на груди и рукавах, в светлых коротких панталонах цвета сливок, с серебряными пуговицами на манжетах ниже колен, он выглядел свежее и моложе своих пятидесяти трех лет. От него припахивало не только шампанским. Судя по закуске в одной из его тарелок, розовой ветчине с дрожащим желе-студнем, и графинчику с лимонной настойкой поблизости к ней, великой поэт наслаждался жизнью с разными напитками. Гаврила Романович был женат на свояченице Николая Львова, а супруга самого Львова приходилась племянницей Любови Петровне, матери Александра Бакунина. Отчасти и поэтому все тут друг друга любили и почитали.
Приветливый Муравьев, широко улыбнувшись, крепко пожал новоприбывшему руку и пробормотал что-то приятное.
Окна с цветными стеклами были распахнуты. В них открывались виды на дальние вереницы все тех же пологих зеленых холмов, косые желтые поля, извивы рек и ручьев, по которым скользили тени от кучных, озаренных и медлительных облаков. Вокруг них широко ниспадали на землю солнечные лучи, над дальними лесами висели темные полосы дождей.
Александру принесли умыться с дороги, поставили четвертый столовый прибор, налили шампанского. Вина в этом доме выписывались по особенным картам из Франции и Италии и хранились в глубоком погребке, по годам, каждый в своем месте. Там же стояли бутылки и бочонки попроще, привезенные из Румынии, Крыма, Малороссии.
– Что Соколик наш невесел, что головушку повесил? – улыбнулся чуткий хозяин дома.
Александр незаметно вздохнул. Вино отозвалось в груди грустной отрадой. Захотелось утешения, не жалостливого, но изысканно-поэтического.
– Гаврила Романыч, – промолвил он, повернувшись к поэту с изяществом, усвоенным с детства в гостиных Европы, – сделай милость, почитай начало «Видения Мурзы». Душа просит.
Державин устремил на него проницательный взгляд. Помолчал и кивнул головой.
– Изволь.
Все приготовились слушать. Просьба была обычна, в этом кружке постоянно читались стихи, поправлялись неудачные места в сочинениях, обсуждались возможные направления творчества каждого.
Державин поднялся, откачнул голову назад и сложил на груди руки. Медленно, нараспев, словно выводя просторную песню, стал читать.
На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.
Сон томною своей рукою
Мечты различны рассыпал,
Кропя забвения росою,
Моих домашних усыплял;
Вокруг вся область почивала,
Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Бельт в брегах своих сверкал;
Природа, в тишину глубоку
И в крепком погруженна сне,
Мертва казалась слуху, оку
На высоте и глубине;
Лишь веяли одни зефиры,
Прохладу чувствам принося.
Я не спал, – и, со звоном лиры
Мой тихий голос соглася,
Блажен, воспел я, кто доволен
В сем свете жребием своим,
Обилен, здрав, покоен, волен
И счастлив лишь собой самим..
Бакунин слушал, погружаясь в каждый звук. Вот она, высота прозрения, высота смирения…
Поэт смолк. Все молчали. Александр поклонился Державину.
– Благодарствуй, Гаврила Романович.
– Угодил? – усмехнулся тот.
– В самый раз…. «И счастлив лишь собой самим». Теперь, укрепленный духом, я могу поведать вам, друзья и наставники, мою заботушку, с каковою прибыл.
Он поднялся и стал смотреть в окно.
– Батюшка приказывает мне оставить службу, подать в отставку и поселиться в Прямухино.
Наступило молчание.
– Важная перемена, – наконец, отозвался Львов. – Эдак сразу и не охватишь… И ты сгоряча наворотил, что Прямухино – не место для такого героя, как ты, с твоим воспитанием и талантами?
– Каюсь, – наклонил голову Бакунин.
– Сколько лет ты на государевой службе?
– С пятнадцати годов, считай, четырнадцать лет.
Державин, успевший опрокинуть рюмку лимонной настойки, весело посмотрел на Бакунина.
– Я в твои годы, Сашок, тянул солдатскую лямку. Бил Пугачева под командованием его сиятельства графа Суворова, был кое-как отмечен и несправедливо отставлен от армии. Легко ли?
Все присутствующие знали его историю. Как добивался признания бедноватый дворянин и сирота, как случайно попала его поэма «Фелица» на глаза Екатерине Дашковой, а та показала ее императрице. И как помчалась горбатыми дорогами судьба российского гения Гаврилы Державина.
– Стихи, стихи возвысили меня. «Фелица» моя, государыня-императрица Екатерина II, подарила золотую табакерку с червонцами, сделала губернатором Олонецким, потом Тамбовским. Нигде я не ужился, со всеми переругался. Воры, мздоимцы, препоны, доносы! И засудили бы, да, слава Богу, Сенат заступился. Я, друг мой, уже и с Павлом поссорился. Ха!
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.
Упершись ладонью в колено, Александр дипломатично взглянул на поэта. Он знал и эту историю, и еще многие, будучи не последним лицом в Гатчинском управлении.
– Зачем же так, Гаврила Романович? Вас, я слыхал, приблизили, чин немалый дали. Служить-то надобно же. На благо отечества?
Державин насмешливо и горделиво хмыкнул.
– Моя служба – поэзия и правда! Похвальных стихов, курений благовонных никогда не писал. С моих струн огонь летел в честь богов и росских героев. Суворова, Румянцова, Потемкина! Я не ручной щегол, я Державин! Ха!
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой,
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: Пой, птичка, пой!
– Стыдись, Александр! У тебя есть состояние, сиречь независимая жизнь, а ты печешься о клетке. Не дури! Отец-то прав. Так ли, Михайло Никитич? – обратился Державин к Муравьеву.
Тот помолчал. Потом ответил со вздохом. – Нелегко возражать, «когда суровый ум дает свои советы». Государственная служба есть первейшая обязанность дворянина. Однако и родительская воля должна быть почитаема и принимаема во внимание. Тут многие размышления надобны.
В ответ на осторожную его уклончивость Державин вскочил, упер руки в бока и пустился мелкими шажками по веранде, притоптывая в пол каблуками и приговаривая.
Что мне, что мне суетиться,
Вьючить бремя должностей,
Если мир за то бранится,
Что иду прямой стезей?
Пусть другие работают,
Много мудрых есть господ:
И себя не забывают
И царям сулят доход.
Но я тем коль бесполезен,
Что горяч и в правде черт, —
Музам, женщинам любезен
Может пылкий быть Эрот.
Утром раза три в неделю
С милой музой порезвлюсь;
Там опять пойду в постелю
И с женою обоймусь.
Он запыхался, хлопнулся на свой стул и орлом глянул на всех из-под густых бровей.
– Я телом в прахе изгниваю,
– Умом громам повелеваю,
– Я – царь, я – раб, я – червь, я – бог!
– Я – Державин!
Раздались рукоплескания.
– Продолжим в саду, друзья мои! – мягко пригласил всех Львов.
Сад и прилегающий к нему парк в этом имении также несли печать тонкого художественного вкуса его хозяина и создателя. Каких только пород деревьев из ближних и дальних земель не произрастало тут, каких цветов не красовалось и не благоухало на клумбах! Весело и отрадно было на дорожках, огражденных цветущими длинными газонами, подстриженными кустами, рядами фруктовых и редкостных заморских деревьев. В затейливом чередовании, где раньше, где позже, зацветали-отцветали всевозможные растения, постоянно услаждая вкус цветом и ароматом, и даже осенние, еще далекие от нынешней поры, пышные краски увядающих деревьев были обдуманно посажены в сочетании друг с другом, чтобы и в грустные дождливые дни творить в саду волшебную сказку.
Другой примечательностью был каскад прудов, устроенных выше и ниже по склонам, с водопадами и гротами, фонтаном, где плавали золотые рыбки, беседкой, откуда можно было любоваться красотами, изобретательно превратившими обычный лесной холм в произведение живого искусства.
К разговору об отставке Бакунина больше не возвращались. Указы Павла I, его странности, незабвенные времена Екатерины, новые переводы Карамзина, и последнее приключение с поэтом Иваном Дмитриевым заняли внимание гуляющих.
– Наш Иван Дмитриев вышел себе в отставку в чине полковника, вознамерившись посвятить свой талант поэзии, – рассказывал Александр Бакунин, бывший самым осведомленным, – как вдруг его хватают чуть ли не посреди ночи, везут и судят, как зачинщика подготовки покушения на Павла I.
– Как это? – не поверил Державин, – ужели сие возможно?
– Сие даже весьма просто, Гаврила Романыч! Увы. Но слушайте, слушайте! В скорое время ошибка обнаруживает себя сама. И царь, желая извиниться перед Дмитриевым, и не воображая себе ничего превосходнее военной лямки, возвращает того на службу и дает чин обер-прокурора Сената! Славно?
– Славно, – отозвался Муравьев. – Теперь пойдут ему чин за чином что ни год. Помяните мое слово.
– С ним ведь Карамзин дружен? – спросил Львов.
– Он его и открыл, в своем «Московском журнале», – сказал Державин. – Я там премного помещался. А хороша проза Карамзина!
Пой, Карамзин! – и в прозе
Глас слышен соловьин.
– А кстати, – проговорил хозяин имения, – завтра прибудет к нам Василий Васильевич Капнист. Мы продолжим труды над стихами и баснями нашего незабвенного Хемницера. Царства ему небесного!
– Аминь!
Все перекрестились.
Иван Иванович Хемницер умер тринадцать лет назад, не дожив до тридцати девяти лет. Друг и спутник Львова по заграничным путешествиям, он писал прелестные басни и сказки, пронизанные светом его личности. Жил одиноко и любил повторять горькие слова Дидро: «трудно и ужасно в наше время быть отцом, потому что сын может стать либо знаменитым негодяем, либо честным, но несчастным человеком». Таким человеком был сам Иван Хемницер. По совету и хлопотами Львова в 1782 году его назначили генеральным консулом в турецкий город Смирну. Отъезд оказался роковым. Поэт болезненно переживал свое одиночество. Незадолго до смерти он иронически писал о себе: «Жил честно, целый век трудился, и умер гол, как гол родился». Эти стихи были вырезаны на надгробном камне его могилы.
– Все его произведения надлежит издать в полном виде. В трех частях, – повторил Львов. – Все, все, что осталось в бумагах – сочинения, письма. Мы с Василием Васильевичем почти все уже собрали и поправили… В этом мой неотложный долг перед ним.
Глаза Николая Львова увлажнились. Он считал себя невольной причиной несчастья.
Все помолчали. В тенистом парке было прохладно, журчание чистых струй, бегущих мелкими водопадами по круглым, уже замшелым валунам, настраивало на возвышенно-философский лад.
– Где-то он сейчас, наш Иван Иванович? Нет его с нами, одни стихи.
– «Иль в песнях не прейду к другому поколенью? Или я весь умру?» – тихо вздохнул Муравьев. – Как же в молодости страшился я смерти! Ныне, с возрастом, не так уже. Страх и надежда суть два насильственные властители человека, и нет от них убежища в жизни.
Львов повернулся к Державину.
– Ты, Гаврила Романович, должен бы согласиться с Михаилом.
– Пожалуй. Молодые страсти жгут огнем, – задумчиво откликнулся тот.
Помолчал, вспоминая, и прочитал с поэтическим чувством.
Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет – и к гробу приближает.
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.
– Это я в тридцать лет. Сейчас, в пятьдесят, другой уж я.
Все суета сует! я, воздыхая, мню,
Но, бросив взор на блеск светила полудневный,
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?
Творцом содержится Вселенна.
– Дай поживу еще двадцать лет, что-то скажется? Негоже на творца сваливать, самому понять надобно. Что-то пойму?
Друзья достигли округлой беседки-ротонды и разместились на ее скамьях. «Прекрасен мир» по-прежнему простирался перед взором в широкой и светлой красе.
– Уходит столетие, – проговорил Михаил Муравьев. – Сколь блистательное для Российской государственности! Сколь славное для русского оружия! Придут ли, родятся ли в девятнадцатом веке великие умы, подобные тем, что явлены были в нашем отечестве в осьмнадцатом веке? «Еще кидаю взор – и все бежит и тьмится».
Александр Бакунин, прищуря голубые глаза, тоже словно всмотрелся в будущее.
– Будучи свидетелем ужасного возмущения парижан, разрушивших в озлоблении старинную Бастилию, нахожусь я в опасении, как бы пример их не оказался пагубным соблазном для соседей в Европе и в России. Новый Пугачев, новый Разин, дикое воодушевление толпы… – он передернул плечами.
– Толпа предводится чувствованием, – согласился Муравьев.
– А кто зароняет в юношество опасные неотразимые мысли? Лучшие умы человечества! Чудо! Я сам подпал под их обаяние, пока не увидел баррикады. Воспитание юношества – вот важнейшее дело родителей и государства, – с чувством говорил Бакунин. – Предчувствие мое тревожится. Не минуют меня будущие грозы…
– Рано всполохнулся, ты и не женат еще. Наперед знать никто не может и кликать беду не надобно. Приготовляйся загодя, ищи невесту благородного происхождения, здесь ты прав. Грозы будущего никого не минуют, в тишине не проскочишь жизнь свою, дорогой Александр.
Державин и Львов молчали. Первый, кивая головой, вспоминал свою единственную боевую кампанию против народных армий Емельяна Пугачева, где отличился, повесив на воротах двух мятежников, другой благодушно смотрел на друзей, подумывая, чем бы занять их к вечеру, после обеда. Богато одаренный и разнообразно талантливый, он был еще и тонким музыкантом, и собирался посвятить музицированию тихий светлый вечер.
Михаил Муравьев уловил его душевную светлоту.
– Прекрасно общежитие достойных людей! – с наслаждением вздохнул он. – Сколь мило существовать вместе! Сирая вселенная есть понятие, огорчающее человека.
– Уединение тоже благо, – с улыбкой возразил Львов.
– Поскольку изощряет в нас ощущение нужды быть вместе.
Разговор вновь принимал обильное философическое направление, но тут Гаврила Романович, нетерпеливо повернулся к Львову и легонько ударил его по плечу.
– А я, Николай, подобно тебе, пустился в Анакреоновы луга. Что, в самом деле? Жизнь есть небес мгновенный дар, любовь нам сердце восхищает. А посему:
Петь откажемся героев,
А начнем мы петь любовь.
– Браво, – рассмеялся Львов, – это направление мало известно в русской словесности. Любовь и жизнь… как их разнять? Поэзия наша в долгу перед ними. Вот, кстати, последний перевод из Анакреона.
Напиши ее глаза,
Чтобы пламенем блистали,
Чтобы их лазурный цвет
Представлял Паллады взоры;
Но чтоб тут же в них сверкал
Страстно-влажный взгляд Венеры,
И с приветствием уста
Страстный поцелуй зовущи.
– Прехвально, Николай. Ужо порезвлюсь я в лугах анакреоновых, чует сердце. Однако, по мне, русская Параша во сто крат милей и краше его Паллады с Венерою.
Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни – клад.
… Через неделю Александр Бакунин отправился в Петербург хлопотать об отставке. В конце осени того же года он навсегда поселился в Прямухино.








