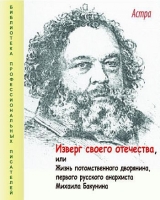
Текст книги "Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Бакунина"
Автор книги: Астра
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
„… Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Народы – существа нравственные, точно так же, как отдельные личности. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Кто знает тот день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?“
Я раза два останавливался, говорил Герцен, чтобы отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал.
„… Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин общества. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают… А теперь я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает?“
И это напечатано по-русски неизвестным автором… Я боялся, не сошел ли я с ума. Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах.
Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что „Письмо“ Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться…
Обозрение было тотчас же запрещено; Болдырев, старик, ректор Московского Университета и цензор, был отставлен, издатель Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить сумасшедшим и обязать подпиской ничего не писать. Всякую субботу приезжали к нему доктор и полицмейстер; они свидетельствовали его и делали донесение, то есть выдавали за своей подписью пятьдесят два фальшивых свидетельства в год по высочайшему повелению. Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали».
А на все поставленные в «Письме…» вопросы твердо ответил шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф.
– Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Вот точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана.
– Нет ли вестей из Прямухино? – тормошил Мишеля вернувшийся с уроков Виссарион.
Мишель забрел к нему в его отсутствие и заснул прямо за столом. Всю ночь он проговорил с Хомяковым об истории России, о бунтах и смутах, коими столь богато ее прошлое, о Разине, о Пугачеве… «Всенощными бдениями» уже окрестили друзья ночные беседы Мишеля.
Белинский же, оставшись без журнала, продолжал писать и печататься кое-где по другим изданиям, давал уроки, устраивался для заработка в Межевой институт и продвигал свою «Грамматику..».. Публикация «Философического письма» чуть не наделала бед и в его судьбе тоже. По возвращении в Москву он ощутил внимание к себе со стороны полиции и признаки секретного дознания. Это перепугало его до смерти. Болезненный, беззащитный, он повел себя тише воды, ниже травы, и ускользнул, уцелел. Сам же Чаадаев отказался на допросе от намеренных стремлений к напечатанию своего произведения, сказав, что не знает, каким образом они появились на страницах «Телескопа», хотя сам же и настоял на том, чтобы из пяти «Писем..». было выбрано первое, самое резкое, в то время как Надеждин остановился для начала на третьем или четвертом. Ссылка Надеждина в Усть-Сысольск длилась не слишком долго, но вернулся он оттуда с больными парализованными ногами и отвращением к изданию журналов.
Главное же событие в жизни Белинского, последовавшее после разгрома журнала, «Событие» с большой буквы, то, что грело сейчас его сердце, произошло на прошлой неделе.
Пушкин… Пушкин пригласил его в свой журнал «Современник». Пока в виде предположения, и не тотчас, а по весне либо к лету. Пушкин! Поэт целого человечества, а не одной какой-нибудь эпохи, поэт не одной какой-нибудь страны, а целого мира! Не поэт страдания, но великий поэт блаженства и внутренней гармонии… Пушкин пригласил его! Пригласил, несмотря на мнение Белинского, что поэтический гений Пушкина угасает, что время его в русской словесности закончилась, и даже что Пушкин никогда не станет дельным издателем журнала… невзирая на сии печатные заявления, казавшиеся Белинскому истиной, – Пушкин пригласил его в свой журнал! Он передал это через московских друзей, находясь сам в Петербурге. По весне либо к лету 1837 года!
Это подняло Белинского в собственных глазах. Ах, только Станкевич, гениальный друг, мог бы понять его и воздать должное!
– Нет ли письма? Что там делается?
Они знали, что уже второй месяц Станкевич живет в Прямухино. Из писем сестер о чем-либо догадаться было невозможно. Что, как там? Решится ли Станкевич? Решится ли она, Любаша?
– Будь, что будет, – изнемогали друзья, – только скорее…
Был уже ноябрь, стояла зима. Морозы ударили рано, обещая оттепели и снега. Стекла в комнате были затянуты слоем льда, шершавым и бугристым понизу, у подоконника.
– Что за холод у тебя, Висяша! – Мишель гулко бил себя ладонями по бокам и груди, чтобы согреться.
– Хоть волков морозь, – согласился Белинский, – а в кармане хоть выспись. Все источники прекратились, просить больше нет сил.
– Чем же ты живешь?
– На подаяние кухарки.
– Пошли обедать в трактир, – Мишель, заглядывая в зеркало, пытался расчесать гребнем кудрявую гриву.
– У тебя завелись деньги?
– Мне дал их один… приятель. Ах, славная история! Вчера попал я в один дом, где хотели послушать о Канте, о Фихте, то, се. Я разошелся часов на пять. Увлек их всех уж и не помню куда, наговорил с три короба о необходимости страданий для освобождения от бессознательных наслаждений.
– Для тебя это семечки, Мишель.
– Ха! Да будь среди слушателей ты сам, Висяша, я бы и для тебя нашел в своем запасе трансцендентальных и логических штук, чтобы потрясти твою страшную действительность с ее стальными зубами и когтями. В каком ударе я был! Каким соловьем разливался! Слушали они, как овечки, а я проголодался, как волк. Наконец, сели обедать, потом зашли к хозяину в кабинет. Прилег я на диван и заснул, вот как сейчас. Вдруг слышу, скребется кто-то возле, плачет. Смотрю, стоит мой хозяин со свечой, сам не свой. «Учитель, – рыдает, – помоги мне. Я погибший человек, я пропадаю, ибо не чувствую в себе силы к страданию». Ха-ха-ха!
Белинский стоял в изумлении.
– Ох, Мишель, Мишель! Если бы собрать Хлестаковых со всего света, то они были бы перед тобою Ванички и Ванюшки Хлестаковы, а ты один остался бы полный Иван Александрович Хлестаков.
– Быть по сему. Пойдем закажем селянки, да жареного барашка, да по дюжине блинов с икрой. Выпьем-закусим во здравие суженой нашей, философии!
Они вышли на яркий зимний полдень. Морозило. От лошадиных морд валил пар. Снег под шагами звонко повизгивал. Поднявшись из Столешников, они пошли по Дмитровке в направлении Страстного бульвара. Вдоль обеих сторон улицы привольно стояли желтые, зеленые, красные и коричневые каменные двух– и трехэтажные дома, особняки с колоннами, портиками, обилующие лепниной, венками, скульптурными изображениями львов и героев. Вокруг них за литыми узорными решетками уже выросли красиво разбитые сады. Москва давно отстроилась, пожар 1812 года способствовал ее украшению.
– Поберегись! – кричали лихачи-извозчики, пролетая мимо прохожих.
В трактире, похожем на ресторацию своими большими окнами, зеркалами, тяжелой люстрой с подвесками, свисавшей над головами посередине высокого потолка, народу было предостаточно. Свободный столик нашелся на антресолях. Друзья выпили по одной, по второй, согрелись, поели, закурили трубки.
– Ты почему блинков, грибочков не отведал, Висяша?
– Сказать по правде, опасаюсь. Тяжеленьки для меня.
– Чепуха. Под водочку, а?
Виссарион помотал головой, отказываясь.
– Тебе этого не понять, Мишель. Ты благородный, ты унаследовал от родителей благую организацию. Все ваше семейство – феномен в этом отношении. Твой отец не имел до женитьбы женщины, не был пьяницей, обжорой, злым, глупым, подлым. А мой отец пил и все такое, и оттого я получил характер нервический, родился с завалами в желудке. Да что говорить…
Виссарион с мягкостью смотрел на друга. Он был привязчив и неспокоен, прощал все обиды, влюбляясь в друзей, как отрок. Сейчас он любовался Бакуниным, видел в нем поэзию, размет, львообразность.
– Дружба! вот чем улыбнулась мне жизнь так приветливо! – прочувствованно сказал он. – Жить хочется, когда имеешь таких друзей. А кстати, Боткин приехал из-за границы, слыхал?
Мишель, скатав хлебный шарик, прицелился в кого-то сидящего внизу, в самую лысину.
Виссарион перехватил его руку.
– Не ребячься, Мишель.
Мишель подбросил шарик вверх, к потолку.
– Боткин, говоришь? Я не слишком жалую этого купца, – отозвался он небрежно.
– Вы мало знакомы! После твоих сестер это первый свят человек. Сейчас он из Европы, из Рима, где наслаждался искусством. Это самый оригинальный ум в Москве. Он верует в искусство, как мы с тобой в истину. Днем сидит у отца в лавке, а вечером читает на всех языках. Оттого и лысеет, Васенька наш.
– Бог с ним. Поздравь меня, я расплатился с Левашовыми.
Друзья шутливо пожали друг другу руки.
– Добрые люди, прекрасные люди, но их мир – не наш мир! – разчувствованно ответил Verioso. – Ужели тебе заплатили за вчерашнюю лекцию? Ужели философия способна тебя кормить?
Мишель поморщился.
– Я дворянин и гонораров не беру, – с достоинством ответил он.
Белинский перестал дышать, даже зажмурился, чтобы сдержать горячий душевный всплеск.
– Откуда же эти деньги?
– Взял взаймы у того олуха.
– Без отдачи?
Мишель насмешливо хмыкнул и набил табаком свою трубку. Виссарион помолчал.
– Значит, ты вновь говоришь «нет» влиянию гривенников на твою внутреннюю жизнь? – сказал он со вздохом.
– М-м… – утвердительно кивнул Бакунин, раскуривая табак.
– Хорошо. Это значит, что в тебе избыток внутренней энергии так велик и пламя чувств так сильно и ярко, что внешние обстоятельства не могут мешать и гасить. А я погибаю от мысли о долгах.
– Ты не можешь вырвать себя из своего страстного элемента.
– Нет, это у тебя идеальное прекраснодушие. Прав был Станкевич, сказавший, что прекраснодушие есть самая подлейшая вещь в мире. Для меня скрупулезное отношение к гривенникам есть средство, и не цель. Я был бы погибший человек, если бы эти займы не убивали меня. Заемная копейка кажется мне миллионом! Все видят, какую важность придаю я всякому гривеннику, который беру у других. А ты пальцем о палец не ударил для снискания себе денег. Ты просишь и берешь легко и легкомысленно, с детской доверчивостью, ты берешь деньги, как щепки. «Нет ли у тебя щепок»?
– Я и даю так же, Висяша.
– Верно. Имея деньги, ты и не дожидался, чтобы я у тебя попросил, а спрашивал: «Висяша, не нужно ли тебе денег?»
– Висяша, не нужно ли тебе денег?
Белинский сокрушенно воззрился на друга. Он любил Мишеля. Его рассмешила и огорчила ловушка, в которую тот поймал его.
– Вот, вот, – ответил он. – Сейчас я понимаю, когда мне говорят, что ни к кому не чувствуют такой враждебности и ненависти, как к тебе, и мало людей так глубоко уважают, как тебя. Это твоя участь, Мишель.
Бакунин снисходительно усмехнулся и с затаенным превосходством посмотрел на друга. Он чувствовал себя умнее и победоноснее Белинского.
– Отвечаю – да. Во мне много гадкого, много низкого, страсти во мне очень сильны, и одна только истина может спасти меня.
– Ах, Мишель, Мишель! Ты – голова светлая, сама сила и могущество мысли, широкое и глубокое созерцание. Но ты не привзносишь свои идеи в живую действительность. Твоя голова и сердце – из огня, твоя кровь горяча, но она течет в духе твоем.
Мишель посмотрел на него странным взглядом. Он не выносил разоблачений, даже случайных намеков на то, что он не такой, как все. Что-то ужасное происходило в нем, когда умолкали слова любви и восхищения. И сейчас ему стало так скверно, словно душа его внезапно низринулась в самые жгучие, тайные, самые мучительные свои пещеры!
– Ты прозорлив, Виссарион, – уныло протянул он. – Да, я живу в духе, я составил себе иллюзию, дающую мне краткое счастье. Но ты – ты беспрестанно указываешь мне на эту химеру. Никто не щадит и не знает меня, – лицо Бакунина исказилось, словно бы его высшее «Я» на мгновенье покинуло его.
Белинский замер, наблюдая сию перемену. Вновь сквозь румянец и юношескую свежесть в чертах Мишеля проглянуло иное, совсем-совсем другое, ужасное. «Он болен! – мелькнула мысль. – Или он… не мы. И как только сестры могут целовать его!»
Глава третья
Станкевич появился под Рождество. Он был здоров и счастлив, он дышал радостью. Одно за другим полетели в Прямухино его нежные шутки для нее, для Любиньки.
«…А вы, дражайшая Любинька? Как поживает механизм Вашей прекрасной головки?»
Можно представить блаженство Любаши! Ее ответные письма были просты, полны любви и надежды. Послания их источали любовь, словно цветы свой аромат. На всех сестер словно снизошла благодать. Варенька, хоть и собиралась за границу, помирилась с мужем, Татьяна отодвинула в неопределенность свою решимость посвятить себя религиозному служению. Столько доверия и ласки внутри большого семейства давно не испытывали в Прямухино!
Для друзей появление Станкевича ознаменовалось новым мировоззреническим потрясением. Станкевич протянул Мишелю Гегеля.
– Вчитайся, Мишель. Гегеля я еще не знаю. Пойдем вместе, твердо и смело.
Мишель вчитался не медля. И ахнул. Гегель дает совершенно новое толкование философии и жизни! Ух, как он мыслит, этот Егор Федорович (Георг Фридрих!)!
«Философия занимается абсолютными, вечными сущностями, тем, что всегда было, есть и будет, навечно пребывает и не имеет истории. Субстанция (Абсолютная идея) есть нечто самодостаточное. Она проходит стадии чистого мышления, свободно отчуждает себя в форме „понятия“ в собственное инобытие, в природу, и, наконец, породив мыслящий дух в формах „субъективного“, „объективного“ и „абсолютного“ духа, на ступени абсолютного духа обретает полное и завершенное знание самой себя».
– Ослепительно! Но как сложно! Мозги кипят! – Мишель, стиснув зубы, переводил с немецкого слово за словом и тут же писал в конспект. Каким острым наслаждением отзывалась в нем каждая понятая мысль! – «Дух только как дух – пустое представление, он должен обладать реальностью, наличным бытием, должен быть для себя объективным и предметным»… Понятно. «Мировой дух в истории не делает ничего иного, как только познает сам себя в своей свободе, но объективация в исторических формах необходима, так как дух не может познать себя, не воплотившись в предмет познания, не объектировав себя в наличном бытии»…
Сколько нового!
С книгой подмышкой он помчался к Белинскому.
– Висяша, послушай, что он говорит… «История должна исходить из данных, из того, что было на самом деле». А Канту и Фихте, как мы помним, факты не нужны. И дальше: «В мире господствует разум. Но разумное в истории не лежит на поверхности, оно должно быть обнаружено в ней мыслью, а для этого надо заранее иметь критерии отделения разумного от неразумного, существенного от несущественного, а такое знание есть знание отвлеченное, умозрительное». Каков Гегель!?
– Хрустальное царство философских абстракций, – Виссарион обостренно ловил каждое слово, проникаясь новым знанием.
– Ничего, мы тоже не лыком шиты, – воодушевленно сказал Бакунин. – Смотри, как он напутствует молодых. «Смело смотреть в глаза истине, верить в силу духа – вот первое условие философии. Так как человек есть дух, то он смеет и должен считать самого себя достойным величайшего, и его оценка величия и силы своего духа не может быть слишком преувеличенной, как бы он ни думал высоко о них; он не встретит на своем пути ничего столь неподатливого и столь упорного, что не открылось бы перед ним. У скрытой и замкнутой вначале сущности вселенной нет силы, которая могла бы противостоять дерзанию познания; она должна раскрыться пред ним, показать свои богатства и свои глубины, и дать ему наслаждаться ими». Каков Гегель?
– Велик, – согласился Verioso. – Такого еще никто не смел утверждать. Сам себя начинаешь возвышать после таких слов.
Теперь они вчитывались и спорили о каждой строчке, о каждом параграфе Гегеля. Знал бы недоверчивый, замкнутый, далекий от всего, что не есть его философия, Георг Фридрих, что в далекой заснеженной России русские юноши будут ночи напролет биться над его сочинениями, восторженно внимая каждому слову, как если бы это была истина в конечной инстанции! Он умер всего шесть лет назад, заразившись холерой от жены. Та, сердобольно посещая соседний госпиталь, переболела и выздоровела, а ее гениальному супругу не помогло ничего. Он ушел в зрелом расцвете лет, полный великих замыслов, умер в мрачной уверенности, что никто в целом свете не понял его!
Мишель был окрылен. Волею судеб, именно ему, Михаилу Бакунину, суждено было стать провозвестником и первым толкователем философской системы Гегеля в Москве, в России!
… И вдруг ужасная весть накрыла Россию черным крылом. Тридцатого января на дуэли убит великий русский поэт Александр Пушкин.
Кружок Станкевича, все друзья собрались у него в просторной квартире. Красов и Клюшников, скромные стихотворцы, известные больше среди своих друзей, молча всхлипывали и вытирали слезы, особенно нервный болезненный Иван Клюшников; Катков и Аксаков, низко опустив голову, молча мерили шагами комнаты. Помаргивая мокрыми глазами, Боткин держал руку на плече плачущего Белинского. Мишель размышлял о пистолетах, о баллистике, о пуговице Дантеса, в которую угодила пуля Пушкина.
– В жизни я легкомысленен, – тихо говорил Станкевич, как всегда искренне и изящно, – и потому смерть Пушкина не сделала переворота в состоянии моей души. Но она глубоко поразила меня в первые минуты и потом оставила во мне какую-то неопределенную грусть. Висяша! Ну же, бодрее…
Виссарион с прерывистым длинным вздохом поднял распухшие глаза. Он ощущал утрату горше всех.
– Это был гений, гений! – тихо сказал он, и сильно моргнул ресницами, чтобы стряхнуть слезы. – В минутах его жизни замыкались целые века. Как вы не поймете! Миросозерцание Пушкина трепещет в каждом его стихе. В каждом стихе слышно рыдание мирового страдания… Ах, горе, горе! – он со стоном рванул одежду на груди и уронил руки на колени.
Все молчали. Станкевич посмотрел на грустные лица друзей.
– Ценить поступки великого человека на основании какого бы то ни было закона для меня отвратительно. Он умер не пошло. Если он и жертвовал жизнью предрассудку, все-таки это показывает, что она не была для него величайшим благом. Я примирен с Пушкиным. Спокойствие было не для него: мятежно прожил, мятежно умер.
– Согласен, – отозвался Бакунин.
Белинский вскочил. Тон Мишеля задел его. Ему хотелось ответить резкостью, накричать, наговорить, хотя он и ненавидел порой до бешенства свою потребность выговариваться обо всем, что было на душе, часто сдерживался, давился потоком собственных слов. Но не сейчас.
– Чиновники и офицеры ровно ничего великого в Пушкине не видят! Не всякому дается поэзия Пушкина и трудно открывается, потому что в мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками, – отрывисто заговорил он, беспорядочно размахивая руками, похожий на неказистого деревенского мужичка. – Обилие нравственных идей у него бесконечно. И бесконечна грусть, как основной элемент поэзии Пушкина, этот гармонический вопль мирового страдания, поднятого на себя русским Атлантом… И эти переливы и быстрые переходы ощущений, эти беспрестанные и торжественные выходы из грусти в широкие разметы души могучей, здоровой и нормальной, а от них снова переходы в неумолкающее рыдание мирового страдания…
Он говорил, ни на кого не глядя, пока не иссяк и молча засел в углу возле заледеневшего плачущего окошка.
– Говорят, жена его… – начал Мишель.
Станкевич решительно воспротивился этим словам.
– Не хочу обвинять и жену его. В этом событии какая-то несчастная судьба.
«Несчастная судьба»…
Мог ли предположить Николай Станкевич, что и его судьба, и судьба той, перед которой благоговело его воображение, уже накренились под натиском все того же светского предрассудка!
… Александр Михайлович хмурился. Суставы ломило, словно к дождю, зима выдалась хлипкая, на полях темнели обширные бесснежные пятна… Худо, худо. Но разве замечал он погоду раньше, в золотые дни юности? Рим, Турин, Париж… разве там не было дождей и гроз?
– Не погода, а годы, – вздыхал старик.
Зрение его угасало, болели ноги, день ото дня полнилась душа тягостными предчувствиями. Дочери, голубки его, скучали в имении, точно в золотой клетке. Любиньке шел двадцать шестой год, Танюше двадцать третий, Александре тоже стукнуло двадцать. Взрослые, взрослые женщины. Умри он сейчас, что с ними будет? Без сомнения, супруга, Варвара Александровна, заменит его, как сделал это его мать, Любовь Петровна, после кончины батюшки Михаила Васильевича. Так, да не так! Старший сын, Мишель, не оправдал никаких надежд. Несчастный малый! Он-то и является причиной всех бед. С его страстным, заразительным красноречием и полной беспомощностью в практической жизни он несется к пропасти сам и увлекает других. Слепой ведет слепых. Что с ним будет? Эта философия, эти друзья, праздная жизнь – как это непохоже на устои жизни деятельной, полезной и благородной!
Один Станкевич выделяется среди всех.
Александр Михайлович вздохнул.
Переписка его дочери с молодым человеком почиталась им предосудительной. Сказать по-русски, она была оскорбительна для чести всего семейства. Как в отдаленные годы его юности, так и ныне, надеялся он, обмен письмами и записками допускался лишь между женихом и невестой. Помолвки же никакой не было, молодые люди объяснились наедине. Без родителей…
Старик вздохнул еще тяжелее. Больше месяца он, отец, потворствует недопустимым вольностям, позволяя своей дочери питать ни на чем не основанные надежды. Не пора ли, как говорится, употребить власть и выяснить намерения этого юноши? Что он думает и говорит в своем кругу? Не является ли его дочь предметом недостойной игры? К огромному своему огорчению, он готов был теперь препятствовать любому делу, в котором участвует его старший сын. Да, да, как это не прискорбно!
Вздрогнув, он позвал жену в приоткрытую дверь кабинета.
– Напиши, мой друг, письмо в Москву, для милейшего Николая Александровича Станкевича. Я надиктую.
… Прочитав послание, Станкевич вспыхнул. С отменной придворной вежливостью старый аристократ напомнил ему о приличиях, которые всеми благовоспитанными людьми наблюдаются и без которых никакое общество существовать не может.
В тот же день в Прямухино ушел ответ. Николай Станкевич извещал Александра Михайловича Бакунина о том, что безусловно признает правоту его слов, понимает его беспокойство и приносит глубочайшие извинения за то, что стал невольной причиной его волнений, однако, без согласия своего батюшки он никогда не решится на столь важный шаг. Тогда же ушло и письмо к отцу в Воронежскую губернию, в имение Удеревку с просьбой благословить его брак с девицей Любовью Александровной урожденной Бакуниной.
Отправив послания, Николай в изнеможении откинулся на спинку стула и погрузился в созерцание своей души. Вмешательство Бакунина-старшего уподобилось пушечному ядру, влетевшему в оранжерею и внезапно поразившему хрупкое цветение его нежности к Любаше, озаренное ее взаимностью. Рано, слишком рано! Любая определенность, возникшая раньше времени, губительна, тем более подневольная…
Три сокрушительные недели, протекшие в ожидании родительского благословения, превратили молодого поэта в больного обессиленного человека.
Слов нет, зима в тот год выдалась малоснежная и сырая. Даже крещенские морозы не ударили, не затрещали как встарь, но лишь вызвездили на Москвой высокое зимнее небо. И вновь зачастили оттепели, мокрые полу-снежные дожди. Не они ли унесли здоровье?
Ах, если бы воспротивился его отец! Но Станкевич-старший во всем полагался на своего разумного, такого необыкновенного, сына. Его согласие не замедлило. Николай замер с письмом в руке, слушая, как расползается по душе горестное едкое предчувствие. Еще не поздно отступить! И пусть падет на его голову позор бесславия, крушение в глазах друзей, пусть он будет страдать! Он привык страдать, он выстоит. Не дрогнув, он приобщится глубокой нравственной истине пред нацеленными в его грудь копьями приличий, которые всеми благовоспитанными людьми наблюдаются…
Но Любинька… она не поймет его. За что ей такое? Жалость пронзила его.
Впервые в жизни изменил он себе внутреннему, надеясь, что верность внешняя вознаградит его за измену самому себе. Однако, для столь высоких натур нет оправдания. Кому многое дано, с того многое спросится. Наказание последовало тотчас же. Оно раскручивалось с неумолимостью рока и стало гибельным для обоих.
Предложение было послано письменно и принято благосклонно. Отныне Николай Станкевич числился официальным женихом Любови Бакуниной.
Теперь в его квартире на правах будущего родственника со всеми удобствами поселился Мишель. Сама Любаша просила брата поберечь ее любимого.
– Мишенька! Будь его ангелом-хранителем! Не оставляй его, – умоляла она.
Долго просить не пришлось. У Станкевича Мишелю было привольно. Можно валяться по диванам с растрепанной «Феноменологией» Гегеля, дымить на весь дом подобно самоварной трубе, засыпать табаком опрятные комнаты.
Николай покашливал, но терпел. И грустнел, грустнел.
Между тем, любовь и помолвка Станкевича взволновали молодой круг. С юношеской самоуверенностью, если не с нахальством, взялись добры-молодцы от философии судить да рядить о женихе и невесте, согласовываясь с последними постулатами Гегеля и Шеллинга. Белинский слушал с горячим вниманием, но вступал неохотно, больше помалкивал, Васенька Боткин, «свят человек», не знакомый ни с одной из сестер Мишеля, вообще был нем как рыбка, зато громогласно и поминутно вторгался в святая святых будущий деверь.
– Эта любовь совершенно переродила твою индивидуальную жизнь в абсолютную, – снисходительно всматривался Мишель в Николая. – Я знал это в теории, теперь вижу на практике.
Принужденно улыбаясь, Станкевич уводил разговор в сторону. Но Мишель с убийственным самодовольством преследовал его, как зайца.
– Я утверждаю, друзья, что в нем говорит сейчас нечто святое, нечто сверхчеловеческое. И, на мой взгляд, тот, кто любит, гораздо лучше того, кто не любит. Я же вижу – эта любовь заполнила все твое существование, ты любишь просто.
– Чувство и выражается просто, – пытался заслониться от него Станкевич, – ни в одном стихотворении Пушкина нет вычурного слова, необыкновенного размера, а он – поэт. Скажи-ка лучше, Мишель, как поживает твоя сестра Дьякова?
– Я посылаю Вареньку с сыном в Карлсбад, подальше от мужа.
– В самом деле? Она едет за границу? Без мужа? Как скоро?
– Как только мне удастся оформить им заграничный паспорт.
– Ты собираешься в Петербург?
– На той неделе. Кстати, Николай… отец торопит со свадьбой, не верит в твою болезнь. И, конечно же, подозревает во всем этом мои козни, ибо, по его словам, эгоизм – естественнейшая наклонность моего характера. Ха-ха-ха.
Мишель и в самом деле уехал в столицу хлопотать о паспорте и о разводе сестры.
Тем временем Станкевичу становилось все хуже. В тяжком сознании совершенной неизвестности, совершенного сомнения он не верил ни себе, ни своей любви, ни возможности для себя какого бы то ни было счастья. И уже не хотел его.
– Verioso, друг мой! Будь моей совестью, – они сидели с Белинским вдвоем у камина, который часто горел в эту зиму наравне с печами, чтобы просушить стены и воздух в комнатах. – Выслушай меня. Тебе ведь известно, что я… я умею, в случае надобности, стать выше себя и заставить молчать свое чувство.
– Ты сомневаешься в ней или в себе?
– О, как можно в ней! Она любит, она дышит своим чувством, горячо свято любит. В себе, единственно в себе. Я допустил ужасную ошибку.
Белинский отвернулся от него, покашлял. Он был простужен, глаза его слезились. Потом сказал с нежностью.
– Ты любишь, Николай. Мы сами гасим любовь своими анализами. Надо унять Мишеля. Этого не вынесет ни одно чувство!
Тихо вошел слуга с зажженным трехсвечным канделябром, поставил его на стол, задернул занавеси на окнах. Ушел, плотно притворив за собою дверь.
Станкевич посмотрел ему вслед и словно забыл отвести взгляд.
– Не любишь женщину – откажись на пороге церкви! – тихо произнес он ответ на собственные мысли.
Это были главные слова. Белинский остро взглянул на него и внутренне содрогнулся. Сколько душевных мук потребовалось Николаю для такого решения! Он молча смотрел в огонь, мучимый ранами своего друга.
– Я никогда не любил, – невесело продолжал Станкевич. – Была прихоть воображения, потеха праздности. Теперь я увидел, что прежде и не думал о последствиях, и почувствовал, что еще молод и не созрел для такого шага. Действительность есть поприще настоящего сильного человека. Слабая душа живет по ту сторону мира, в стремлении неопределенном, занимая оборонительное положение. Вот почему искусство, театр становятся для меня божеством: прекрасное в моей жизни не от мира сего.
– Повремени отчаиваться, Николай. Все может вернуться и перемениться, – улыбнулся Белинский. – Рассеются черные болезненные думы, и мы еще покричим «Горько!» на вашей свадьбе.
Прикрыв веки, Николай качнул головой.
– Здоровье мое грошовое! Ты еще не знаешь о моем положении, но, может быть, догадываешься.
Брови Белинского едва заметно дрогнули. Он опустил глаза. Николай вздохнул.
– Женщина, чем выше, чем святее, тем наклоннее к ошибкам. Позднее разочарование – лучше забыть об этом, – голос его был глубоко несчастен. – Мишель сказывал мне, что в начале совместной жизни его сестра Дьякова была готова на самоубийство. Ужасно было слушать.
– Зачем он говорил об этом?!
– Он… у него слишком близкая откровенность с женщинами… Я раздражен на него. У меня к нему злое чувство, словно… словно, знаешь ли… словно он меня убивает. А я… я в состоянии был бы перенести самые ужасные человеческие страдания, но знать, что другие страждут через меня и – еще ужаснее – сомневаются, в состоянии ли я, один я с моею любовью вознаградить, составить счастие… ах, как все это нестерпимо тяжело.








