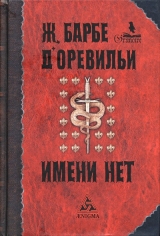
Текст книги "Те, что от дьявола"
Автор книги: Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
– Да, помню, – ответил я.
Я и в самом деле не мог забыть неистовой, почти свирепой жадности, с какой графиня вдыхала запах, а потом жевала стебельки резеды из своего букета во время той памятной для меня партии в вист.
– Так вот, – продолжал старик, – резеда была из великолепной жардиньерки, стоявшей в гостиной госпожи де Стассвиль. Подумать только! Времена, когда от аромата цветов ей становилось дурно, прошли безвозвратно. Мы-то привыкли, что графиня после вторых своих родов, когда, по ее словам, чуть было не погибла от запаха тубероз [93]93
Существовало поверье, что запах тубероз опасен для роженицы.
[Закрыть], цветов терпеть не может. И вдруг полюбила и стала заниматься ими с невиданной страстью. В гостиной у нее, как в теплице, где в полуденный зной не подняли рам, можно было задохнуться от благоуханий. По этой причине две или три дамы слабого здоровья перестали ходить к ней в гости. Вот какие произошли перемены. Но их объясняли болезнью и нервами. А после смерти графини, когда стали закрывать гостиную, – к тому времени опекун отправил маленького дурачка, ее сына, ставшего богатеем, как и положено дурачкам, в коллеж – великолепную резеду решили пересадить на клумбу, и в цветочном ящике обнаружили – догадайтесь, что?! – труп младенца, который прожил несколько месяцев…
Непроизвольный вскрик двух или трех дам прервал рассказчика, а между тем великосветские дамы давным-давно распростились с естественным проявлением чувств. Они успели забыть о непосредственности, но конец рассказа, пусть на миг, вернул им ее. Другие, лучше владеющие собой, только резко отшатнулись, но и это движение было почти конвульсивным, бессознательным.
– Что за непростительная забывчивость, – процедил со свойственным ему легкомыслием раздушенный и учтивый циник маркиз де Гурд, для которого все в жизни было лишь поводом для насмешки, – последний из маркизов, как мы его прозвали, отпускал шуточки, даже идя за гробом, и, наверное, будет смеяться, когда сам ляжет в гроб.
– Откуда взялся ребенок? – задал вопрос шевалье де Тарси, разминая табак в черепаховой табакерке. – Чей он был? Своей ли смертью умер? Или, быть может, его умертвили? Но кто? Вопросов множество, ответов нет, только самые ужасающие предположения, которые передавались шепотом.
– Вы правы, шевалье, ответа нет, – согласился я, старательно скрывая свои догадки, благодаря которым, как мне казалось, знал обо всем произошедшем немного больше, чем он. – Тайна останется тайной, и покров, становясь все непроницаемее, в один прекрасный день окончательно скроет ее, потому что не останется и желающих его приподнять.
– Только два человека в мире знают, что произошло на самом деле, но ни один из них не станет говорить, – прибавил де Тарси с кривой усмешкой. – Во-первых, Мармор де Каркоэл, уехавший в Индию с чемоданом, полным выигранного у нас золота. Больше он к нам никогда не вернется. А во-вторых…
– Во-вторых? – удивленно переспросил я.
– Во-вторых, – подмигнул мне шевалье, видимо считая, что сделал очень тонкое умозаключение, – тот, у кого оснований сказать нам правду еще меньше. Я имею в виду духовника графини. Вы его знаете, толстый аббат де Труден, тот, что – замечу в скобках – недавно получил кафедру в Байе.
Шевалье де Тарси упомянул аббата, а меня словно бы озарило – кажется, я наконец понял женщину, которую близорукий наблюдатель вроде Тарси назвал лицемеркой за то, что она свои страсти подчинила энергии воли, но… но ведь только для того, чтобы еще неистовее наслаждаться стихией страстей.
– Вы не правы, шевалье, – возразил я ему. – Даже близость смерти не могла приоткрыть дверь в душу женщины, достойной родиться в Италии в шестнадцатом веке. Графиня дю Трамбле де Стассвиль умерла точно так же, как жила. Увещевания священника не смогли проникнуть в ее наглухо замурованное сердце, свою тайну она унесла с собой. Если бы служитель вечного милосердия сумел растопить ее сердце и заставить раскаяться, то в жардиньерке в гостиной ничего бы не нашли.
Рассказчик закончил свою историю, тот самый, обещанный всем нам роман. Он передал лишь то, что знал: начало и конец. Взволнованные слушатели не спешили нарушить тишину. Все сидели задумавшись, дополняя собственной фантазией подлинный роман, о существе которого можно было лишь догадываться по нескольким уцелевшим подробностям.
В Париже остроумие мигом отправляет чувства за дверь, и тишина, воцарившаяся после рассказанного романа в гостиной, где так чтили искусство остроумной беседы, была высшей наградой рассказчику.
– Игра в вист стала еще увлекательней благодаря подоплеке, – проговорила баронесса де Сен-Альбан, жена посла, а стало быть, большая любительница карт, – показанный уголок карты вносит куда большее напряжение, чем игра в открытую, когда весь расклад известен наперед, так что вы рассказали истинную правду.
– Скорее, страшную фантазию жизни, – очень серьезно уточнил доктор.
– Житейские фантазии и музыкальные одинаковы, – взволнованно воскликнула мадемуазель Софи де Ревисталь. – Они впечатляют не аккордами, а умолчаниями.
Она взглянула на свою самую близкую подругу, надменную графиню де Даналья, сидевшую все так же прямо и по-прежнему покусывавшую свой веер слоновой кости с золотыми инкрустациями. Что говорила голубоватая сталь ее глаз? Я не видел их, но ее спина с бисеринками пота была, возможно, даже более красноречива. Похоже, и графиня де Даналья, подобно госпоже де Стассвиль, умела таить и страсти, и восторги.
– Вы отравили мне радость от цветов, а я их так люблю, – проговорила баронесса Маскранни, повернувшись к рассказчику. Потом отколола от корсажа и смяла ни в чем не повинную розу, рассыпав вокруг себя лепестки. – И вот уж точно чему пришел конец, – не без ужаса добавила, – так это резеде. Я ее больше не выношу!

Кощунственный обед
На улицах городка *** сгущались сумерки. А в церковь этого маленького живописного городка западных краев уже пришла ночь. Ночь почти всегда спешит занять церковь. Она оказывается там раньше, чем где бы то ни было, то ли потому, что мало света дают витражи, то ли от обилия колонн, которые принято сравнивать с лесными деревьями, то ли из-за темных сводов. Зато двери в церковь всегда открыты, несмотря на сгустившуюся внутри ночь, опередившую угасание дня на улицах. Да, обычно они открыты и после того, как прозвонят Ангелус, а в канун больших праздников и совсем допоздна, особенно в набожных городах, где множество прихожан исповедуется, чтобы на следующий день причаститься Святых Тайн. Ни в какой светлый час дня в провинциальных церквях не бывает столько народу, сколько в сумеречный, когда закончены все работы, когда меркнет свет и христианская душа приготавливается к ночи – ночи, похожей на смерть, ночи, когда смерть чаще всего и приходит. В потемках мы яснее всего ощущаем, что христианская религия – дитя катакомб и таит в себе некую сумрачность и печаль своей колыбели. Тот, кто верит по-прежнему в действенную силу молитвы, любит именно в темный час прийти в церковь, преклонить колени, прижать лоб к молитвенно сложенным рукам; таинственная тьма, царящая в пустых нефах, нужнее всего глубинам человеческой души, и если для нас, людей светских и страстных, тайное свидание с любимой женщиной кажется трепетней и проникновенней в сумерках, то и встреча с Господом для набожной души проникновенней, когда не освещен Его алтарь и душа шепчет Ему свои надобы в темноте.
Так, похоже, беседовали с Господом и те набожные души, что пришли в церковь городка *** в поздний час, чтобы по обычаю помолиться. На улицах городка, окутанных сырой туманной осенней мглой, фонарей еще не зажигали, не горела лампадка и возле статуи Девы Марии, стоявшей за оградой особняка благородных дам де ла Ванжери – статуи там давно нет, – тьма царила и в церкви. Воскресенье, два часа, как кончилась вечерняя служба, ладанный дым, стоявший голубым облаком под сводами хоров, успел рассеяться. Ночь, проникшая в церковь, спустила сверху полотна тени, будто с высокой мачты паруса. Две свечи, расположенные довольно далеко друг от друга на боковых колоннах нефа, и алтарная лампада, мерцавшая в густом и непроницаемом мраке хоров неподвижной звездочкой, озаряли потемки, утопившие неф и приделы, не светом, а призраком света. При мерцающих неверных бликах можно было разве что различить соседа, но не узнать его. Там и здесь смутно виднелись кучки людей, более темные и плотные, чем окружавшие их зыбкие потемки, согнутые в поклоне спины, белые чепцы крестьянок, вставших на колени прямо на каменном полу, две или три дворянские накидки с опущенными капюшонами – больше ничего и не разглядишь. Услышать было легче, чем увидеть. Тихий шепот молитв в гулком корабле – еще более гулком в поздний безмолвный час – казался шелестом удивительного муравейника, муравейника душ, зримого только Господу. Шелест непрерывный, однообразный, вбирающий в себя вздохи, всхлипы и бормотанье, не мог никого оставить равнодушным, тревожа недра молчаливой и темной церкви, вторгался в него лишь изредка скрип двери, потом – хлоп! – она закрывалась за входящим, и слышался звонкий дробный стук сабо по каменному полу, направлявшихся к одной из часовен, шум упавшего стула, задетого в темноте, кашель, приглушенный, почтительный: молящиеся из благоговения к дому Господнему, стараются кашлять как можно тише и деликатнее. Впрочем, посторонние звуки врывались лишь на краткий миг и не мешали истовому рвению верующих молящихся.
Вот почему постоянные прихожане церкви *** не обратили внимания на вошедшего в нее мужчину. Будь там света побольше, многие были бы весьма удивлены, увидев его. Он был не из тех, кто часто ходит в церковь. Если сказать правду, то вообще в нее не ходил. Ни разу не переступил порога, хотя уже не впервые после долгих лет отсутствия приезжал погостить в родной город. Почему он пришел в церковь именно в этот день?.. Какое чувство, мысль, намерение подвигли его войти в храм, мимо которого он проходил много раз на дню, словно бы не видя его, словно его вообще не существовало? Человек этот был не только высок ростом, но и высокомерен, и ему пришлось смирить свою гордыню и нагнуться, чтобы войти в низкую дверь, позеленевшую от сырости, царящей в этих краях из-за частых дождей. Надо сказать еще, что вошедший отличался пылким нравом и не чуждался поэзии. Войдя в церковь, которую, скорее всего, успел забыть, он, наверное, удивился ее сходству с кладбищенским склепом. Впрочем, ее действительно строили как крипту, и располагалась она ниже уровня городской площади, на которую выходила, и даже для того, чтобы пройти к алтарю, нужно было спуститься на несколько ступенек. Вошедший, конечно же, не читал святую Биргитту [95]95
Святая Биргитта Шведская (1303–1373) – основательница нового монашеского ордена, ее мистические откровения были изданы в 1372 г. в Любеке, переиздавались неоднократно.
[Закрыть]. А если бы читал, то, оказавшись среди ночной тьмы, шелестящей таинственным шепотом, непременно вспомнил бы ее видение чистилища – мрачной устрашающей усыпальницы, где никого не видно, но от каждой стены исходят тихие стенанья и вздохи… Что он думал и что чувствовал, неведомо, но, очевидно, не доверяя своей памяти, если в ней вообще сохранились какие-то воспоминания, он внезапно остановился посреди бокового прохода, по которому было двинулся вперед. Судя по всему, он искал что-то или кого-то в потемках, но из-за темноты не мог найти. Потом глаза его немного привыкли к темноте, и он смог различить вокруг себя тени людей, предметов и заметил старушку нищенку. Она не то чтобы стояла на коленях, а осела возле скамьи для бедных, перебирая четки и молясь. Он тронул ее за плечо и спросил, где находится часовня Пресвятой Девы и исповедальня священника такого-то прихода, приход он назвал. И, получив все нужные ему сведения от главной «сиделицы» скамьи для бедных, сидевшей на ней вот уже полвека и ставшей такой же необходимой принадлежностью церкви города ***, как забавные фигурки на водостоках, посетитель уже без всяких затруднений, минуя стулья, еще не расставленные по местам после утренней мессы, вошел в часовню и остановился возле исповедальни. Стоял он, сложив руки на груди крестом, как часто стоят в церкви люди, пришедшие не за тем, чтобы помолиться, но желающие сохранить подобающую месту серьезность и пристойность. Дамы из конгрегации Святых Четок, молившиеся неподалеку, не преминули углядеть, нет, я не скажу – нечестивость, но отсутствие в его позе благочестия. Обычно по вечерам, когда в часовне исповедуют, возле украшенного бантами веретена Богородицы зажигают витую свечу желтого воска, и вокруг становится светло; но в тот день толпа прихожан исповедалась поутру, и вечером на исповедь не пришло ни души. Священник, одиноко молившийся в исповедальне, вышел и погасил свечу желтого воска, а потом снова вернулся в деревянную клетушку и принялся за молитву в полутьме, ничем не отвлекающей и помогающей сосредоточиться. Почему он дунул на свечу? Хотел ли в самом деле сосредоточиться или поступил так из бережливости, а может, и вовсе бездумно, кто знает? Но его незатейливое действие помогло сохранить инкогнито, если только он хотел его сохранить, человеку, который вошел в часовню. Священник, задувший свечу как раз перед его приходом, заметил вошедшего сквозь решетчатую дверь исповедальни и широко распахнул ее, продолжая сидеть. Человек передал священнику какой-то предмет, который держал у груди.
– Возьмите, святой отец, – произнес он тихо, но отчетливо, – я уже очень долго ношу его с собой.
Больше он ничего не сказал. Священник, словно бы заранее зная, о чем идет речь, взял сверточек и закрыл дверь исповедальни. Дамы из конгрегации Святых Четок не сомневались, что мужчина, поговорив со священником, тут же преклонит колени и будет исповедоваться, и были несказанно удивлены, увидев, что он торопливо покинул часовню и столь же быстро пошел по боковому проходу, по которому только что пришел.
Дамы удивились несказанно, но уходящий был изумлен еще больше, когда на середине прохода, по которому он направлялся к выходу, его остановили две сильные руки и возле самого его лица раздался хохот, прозвучавший кощунством в святом месте. К счастью для оскаленных в хохоте зубов, они были узнаны.
– В бога и в душу, – гаркнул насмешник, все же понизив голос, чтобы его богохульства никто не расслышал, – чем ты занят в церкви, Мениль, в столь поздний час? Мы же, кажется, не в Испании, где так лихо мяли апостольники монахинь в Авиле!
Названный Менилем гневно взмахнул рукой.
– Замолчи! – процедил он, едва удержавшись, чтобы возмущенно не загрохотать на всю церковь. – Ты что, пьян?! Сквернословишь в церкви, как в караульне! Пошли! И без глупостей! Выйдем тихо и благородно!
Он ускорил шаг, и оба они, наклонившись, выбрались через низенькую дверь на улицу, где могли себе позволить говорить в полный голос.
– Разрази тебя гром и молния, Мениль! Спали адское пламя! – не унимался сквернослов, словно взбесившись. – Ты что, надумал в капуцины податься? Собираешься святые облатки жрать? Ты – Менильгранд, капитан шамборанцев, словно поп, торчишь в церкви!
– Ты там тоже был, – спокойно возразил Мениль.
– Я пошел туда за тобой! Видел, как ты вошел церковь, и обалдел, скажу тебе честно, даже больше, чем если бы насиловали мою матушку. Я сказал себе: «Черт бы его побрал! Что он надумал делать в вонючем поповнике?!» Потом подумал, что ты зашел туда ради зазнобы, и отправился взглянуть, на кого – гризетку или самую знатную даму в городе – ты положил глаз.
– Я пошел в церковь ради себя самого, дорогой мой, – ответил Мениль с такой нескрываемой презрительностью, какой и дела нет до производимого впечатления.
– Не может быть! Ты меня изумляешь, Менильгранд!
Мениль остановился.
– Должен тебе заметить, дорогой мой, что люди… вроде меня, созданы, чтобы всегда изумлять людей… вроде тебя.
И, повернувшись к сквернослову спиной, зашагал быстрым шагом, словно бы не позволяя следовать за собой, по улице Жизор в сторону площади Турен, на углу которой располагался дом его отца, старого господина де Менильгранда, как называли его в городе, когда о нем заходила речь.
Старик, богатый, скупой (так о нем говорили), прижимистый – именно это слово употребляли, – на протяжении многих лет жил, сторонясь компаний, но все менялось, когда к нему на три месяца приезжал из Парижа сын. Старый де Менильгранд, не звавший обычно в гости и кошки, приглашал и принимал у себя всех: и старинных друзей своего сына, и его товарищей по полку, и просто знакомых, закатывая роскошные обеды, которые местные неблагодарные гастрономы называли обедами скупердяя. Недостойная выдумка! Стол у старика был великолепный и соответствовал скорее пословице: где скупой раскошелится, там пир горой.
А чтобы познакомить вас получше с городской кухней, я представлю вам еще одного персонажа: в то время в городе *** проживал весьма знаменитый на свой лад сборщик налогов. Купив себе дом в столь маленьком городке, он поразил всех, словно на шестерке лошадей въехал в церковь. Значительная эта персона в качестве финансиста значения не имела, но природа позабавилась, дав толстяку талант повара. Рассказывают, что в 1814 году он привез Людовику XVIII, собравшемуся бежать в Гент, деньги от своего округа; в одной руке он держал ящик с деньгами, а в другой кастрюльку с подливой из трюфелей, до того соблазнительной, словно была приготовлена, черт побери, из семи смертных грехов. Людовик XVIII, как полагается, взял деньги, не сказав даже спасибо, зато в благодарность за подливу украсил обширное чрево гениального кулинара, по случайности попавшего в финансисты, лентой ордена Святого Михаила через плечо, какой жаловал только художников или ученых. И вот с широкой муаровой лентой, которую он неизменно надевал на свой белый жилет, и толстым брюхом, сиявшим орденским плевочком, новый Тюркаре [96]96
Тюркаре – герой одноименной комедии Алена Рене Лесажа (1668–1747), всесильный откупщик-финансист.
[Закрыть]по имени Дельток (а именно так его и звали), надевавший в день Святого Людовика шпагу и бархатный фрак, высокомерный, тщеславный и наглый, как три дюжины английских кучеров в седых пудреных париках, не сомневавшийся, что никто не устоит перед его всемогущими соусами, по роскоши своего образа жизни и своего сиянья мог сравниться в городе *** разве что с солнцем. И вот! С этим-то солнцем на кулинарном небосводе, похвалявшимся, что может приготовить сорок девять постных супов, а уж сколько скоромных, и сам не знал – без счета! – и соперничала кухарка старого господина де Менильгранда, более того, внушала Дельтоку беспокойство и опасения, пока в доме старика жил его сын!
Могучий старец, папаша де Менильгранд гордился своим сынком и горевал о нем. И надо сказать, не без оснований! Жизнь «молодого человека», как отец привык его называть, хотя тому перевалило за сорок, сокрушил тот же самый удар судьбы, который разбил вдребезги империю и низверг того, кого называли просто императором, словно вершина славы и величия обезличивает, лишая имени. Менильгранд-сын, скроенный из той самой материи, из какой та эпоха кроила маршалов, записался в восемнадцать лет вольноопределяющимся в армию и участвовал во всех войнах империи, неся на кивере султан самых гордых надежд, однако гром, грянувший при Ватерлоо, отшиб все его амбиции. При Реставрации его не взяли вновь на службу, потому что он не смог устоять перед чарами изгнанника, вернувшегося с острова Эльба, сумевшего заставить самых сильных забыть о новой присяге и лишить их свободы воли. Когда командир эскадрона, майор Менильгранд, о котором офицеры известного своей храбростью Шамборанского полка говорили, что можно быть отважным, как Менильгранд, но отважнее быть невозможно, увидел, что его полковые товарищи, чьи послужные списки не шли ни в какое сравнение с его собственным, сделались полковниками в лучших подразделениях королевской гвардии, он впал в тоску, хотя не был по натуре завистлив. Буйство чувств отличало майора. Только военная дисциплина, похожая на дисциплину римлян, могла обуздать страсти этого отчаянного, который едва не умер в юности из-за своих любовных похождений, возмущавших весь город. Излишества в любви – неслыханные излишества! – довели его до нервной болезни, похожей на сухотку спинного мозга, которую лечили прижиганиями. Прижигания ужаснули город *** не меньше, чем ужасали любовные похождения; отцы семейств заставляли сыновей присутствовать при медицинских пытках, желая приохотить их к нравственности, как правительства приучают народ к добру террором. Они водили их посмотреть, как «припекают» молодого Менильгранда, а врачи говорили, что пациент выдерживает процедуру только благодаря своей дьявольской крепости. Удачный эпитет, поскольку речь шла о том, чтобы поладить с пламенем.
И вот эта, как было только что сказано, неординарной крепости натура, сумевшая вынести не только прижигания, но и раны и все прочие тяготы войны, какие только могут обрушиться на солдата, была теперь в полном расцвете сил и пребывала в праздности. Менильгранд, мечтавший о маршальском жезле и оставшийся не у дел, глядя на свою саблю в ножнах, доходил до приступов настоящей ярости. Если бы понадобилось искать историческую аналогию нынешнему состоянию Менильгранда, пришлось бы забраться в глубь веков и вспомнить знаменитого Карла Смелого, герцога Бургундского [97]97
Карл Смелый, герцог Бургундский (1433–1477) – крупнейший феодал Франции, противник короля Людовика XI, пытался завоевать прилегающие к Бургундии земли, потерпел поражение при Грансоне и Муртене (1476) и при Нанси (1477), где и погиб.
[Закрыть]. Один остроумный моралист, раздумывая о несуразности человеческих судеб, сравнил судьбу с картинной рамой: мало кому она подходит по размеру, одному снесет полголовы, другой должен довольствоваться погрудным портретом, третьему, напротив, так велика, что он выглядит в ней карликом. Менильгранда, сына нижненормандского мелкопоместного дворянина, судьба обрекла на жалкое прозябание и смерть в полной безвестности, отняв у него возможность прославиться в веках, о чем он мечтал и к чему чувствовал себя способным, но зато она не отняла у него чувства обиды, уязвленности, ярости и озлобленности, какими отличался Карл Смелый, известный в истории еще и под именем Грозный. Ватерлоо, закрывшее перед Менильграндом все двери, было для него тем же, что и Грансон и Муртен для молнии в человеческом облике, погашенной снегами Нанси. Но ни Нанси, ни снегов не выпало на долю Менильгранда, командира эскадрона, получившего только «по шеям», как выражаются люди, любящие все опошлить вульгарными и жалкими словами. Когда это с ним случилось, думали, что майор покончит с собой или сойдет с ума, но он обошелся без самоубийства, да и безумцем не стал. Потому что уже был им, как утверждали насмешники, ибо любители поиздеваться всегда найдутся. И если он не покончил с собой – прекрасно зная его, друзья могли бы спросить, почему, но не спросили, – то, наверное, потому, что был из тех, кто непременно попытается свернуть шею клюющему печень орлу.
Как Альфьери [98]98
Альфьери Витторио (1749–1803) – граф, итальянский поэт, занялся своим образованием в зрелом возрасте, греческий язык выучил в 48 лет.
[Закрыть], неподражаемый Альфьери, умевший в юности только выезжать лошадей и выучивший в сорок лет греческий, чтобы писать на нем стихи, Менильгранд занялся, а точнее, ухватился за живопись, она была дальше всего от него, и он словно бы поднялся на седьмой этаж, задумав прыгнуть из окна, чтобы покончить с собой. Менильгранд не знал даже азов, но сумел стать художником не хуже Жерико [99]99
Жерико Жан Луи Андре Теодор (1791–1824) – французский художник, основоположник романтизма. В 1814 г. поступил в мушкетеры, старейшую часть королевской гвардии, которая была упразднена в 1815 г.
[Закрыть], которого, как мне кажется, знавал, когда тот служил в мушкетерах. Майор работал «с отчаянной яростью солдата, вынужденного отступать перед врагом», как говорил он сам с горькой усмешкой. Сначала он писал, потом выставил свои полотна, добился известности, перестал выставляться, уничтожил все, что написал, и вновь принялся работать с тем же ожесточением. Офицер, привыкший держать в руке кривую саблю и скакать по Европе на лошади, теперь держал кисть и палитру и стоял перед мольбертом. Пресытившись войной – неизбежное пресыщение обожателя, – он чаще всего писал пейзажи, те самые, которые когда-то топтал. Работая, он жевал мастику из опиума и вдобавок днем и ночью курил, изобретя что-то вроде кальяна, позволявшего ему дымить даже во сне. Но ни наркотики, ни успокаивающие средства, ни другие яды, с помощью которых человек парализует себя и медленно убивает, не могли уничтожить того чудовищного неистовства, какое жило в нем, – он называл его крокодилом своего омута, а если учесть, что омут был огненным, то крокодил – раскаленным добела.
Те, кто мало знал Менильгранда, считали его карбонарием, те же, кто знал его лучше, находили, что нормандец, с присущим всем нормандцам умением судить трезво, не может увлечься такими пустяками, как наивная либеральная болтовня. Не зная меры в страстях, порой весьма прихотливых, Менильгранд во всем остальном отличался ясным чувством реальности, характерным для всех потомков норманнов. Иллюзии, приводящие к заговорам, никогда не кружили ему голову. Он предсказал генералу Бертону [100]100
Бертон Жан Батист (1769–1822) – французский генерал, глава неудачного заговора против Бурбонов, погиб на гильотине.
[Закрыть]его судьбу. Демократические идеи, которыми при Реставрации прикрывались сторонники императора, внушали ему инстинктивное отвращение. Аристократ до мозга костей, аристократ не только по рождению, сословию, общественному положению, но и от природы, он был таким, каким был, и не мог быть иным; стань он беднейшим сапожником в городе, он и тогда остался бы аристократом, потому что его аристократизм заключался в «величии чувств», как сказал Генрих Гейне, амбиции буржуа и выскочек, цепляющихся за внешние отличия, ничего, кроме смеха, у него не вызывали. Менильгранд никогда не носил своих орденов.
После крушения империи отец, зная, что сын должен был получить и не получил чин полковника, учредил для него баронский майорат, но Менильгранд-младший никогда не пользовался баронским титулом и на визитных карточках по-прежнему ставил «шевалье де Менильгранд». Титулы, лишенные политических привилегий, которые становились серьезным оружием в руках дворян, стоили в его глазах не дороже корки, оставшейся от съеденного апельсина, и он насмехался над этими титулами даже в присутствии тех, кто сохранял к ним почтение. В своем родном городке ***, помешанном на родовитости, где разоренные и ограбленные революцией потомки древних сеньоров-феодалов, когда-то владевших этим краем, стали тешиться и утешаться безобидной игрой в титулы, величая друг друга графами и маркизами, в чем не испытывали нужды их предки, гордившиеся своими фамилиями, Менильгранд, находя подобные игры смешными, нашел весьма оригинальное средство их прекратить. Придя на вечерний прием в самый аристократический дом города, он приказал лакею доложить о себе как о герцоге де Менильгранде. Удивленный лакей зычным голосом провозгласил: «Его высочество герцог де Менильгранд!» В гостиной всех так и подкинуло. Довольный произведенным эффектом, Менильгранд лениво процедил:
– Я заметил, что все обзавелись титулами, и для себя остановился на этом.
Господа аристократы безмолвствовали. Те, что были повеселее нравом, похихикали в уголку, но больше титулами никто себя не украшал.
В мире всегда есть странствующие рыцари. В наши дни они не ополчаются с копьем против несправедливостей, но исправляют нелепости насмешкой. Менильгранд относился к их числу.
Майор был человеком деятельным, а в таких людях главное – характер, они всегда стремглав летят в атаку, оставив ум в обозе. Будь шевалье де Менильгранд удачлив, ни ум, ни остроумие ему особо не пригодились бы, но несчастье – лучшее средство для того, чтобы калейдоскоп, ослепляющий наш разум пестрыми картинками, остановился, чтобы мы сосредоточились, задумались, – майор усвоил уроки отчаяния, и остроумие его тоже было отчаянным. Однако не только язвительность получил Менильгранд в дар от Господа, его, кроме раздиравших грудь страстей, одарили еще и красноречием. «Если б вы его только слышали!» – говорили о Мирабо [101]101
Мирабо Оноре Габриэль Рикети (1749–1791) – граф, деятель Французской революции, блестящий оратор.
[Закрыть]. Пожелание годится для любого оратора, но для Менильгранда в особенности. Больше того, его нужно было не только слышать во время спора, но еще и видеть: широкая грудь волновалась, словно вулкан перед извержением, лицо из бледного становилось мертвенно-бледным, лоб бороздили морщины, будто валы – разгневанное бурей море, зрачки, устремленные на собеседника, метали огненные заряды, как два раскаленных жерла. Да, нужно было его видеть: он учащенно дышал, задыхался, голос, переходя на шепот, набирал все больше патетики, и на губах запекалась едкая соль насмешки. После приступа яростного красноречия опустошенный, но не умиротворившийся, он напоминал великого Тальма [102]102
Тальма Франсуа Жозеф (1723–1826) – знаменитый французский трагический актер, играл Ореста в одноименной трагедии Вольтера (1750).
[Закрыть]в роли Ореста, трагически убитого, но не умершего: убийственный гнев не убивал Менильгранда, гнев возрождался на следующий день, спустя час, спустя минуту – феникс вновь вылетал из пепла. В самом деле, в любой миг можно было задеть постоянно натянутую струну и получить резонанс, способный свалить с ног того, кто имел неосторожность ее коснуться. Одна барышня рассказывала другой: «Господин де Менильгранд пришел вчера к нам в гости. Представь себе, моя дорогая, он выл весь вечер. Думаю, что он – одержимый. Дело кончится тем, что его перестанут принимать». Но если исключить взвывания дурного тона, для которых не приспособлены как гостиные, так и их хозяйки, Менильгранд все же вызывал интерес у тех самых барышень, что отозвались о нем так насмешливо и беспощадно. В моду тогда входил лорд Байрон, и Менильгранд, если оставался суровым и молчаливым, походил на его героев. Юные барышни с холодным сердцем ценят красоту правильных черт лица, и, с их точки зрения, Менильгранд был уродом, однако его бледное, изможденное лицо, каштановые волосы без малейшего признака седины, лоб с преждевременными морщинами, как у Лары или Корсара, приплюснутый нос леопарда и сине-зеленые, будто налитые кровью, как у очень породистых и горячих коней, глаза отличались такой выразительностью, что и самые большие насмешницы города *** испытывали невольное волнение. В его присутствии самые злоязычные переставали точить язычки. Высокого роста, сильный, хорошо сложенный, хоть и немного сутулый, словно жизнь, которую он влачил, оказалась слишком тяжелым доспехом, шевалье де Менильгранд, несмотря на современный костюм, казался человеком другой эпохи, иной породы – людей ему сродни мы видим иногда на величавых фамильных портретах. Увидев его в раме двери, когда он входил в гостиную, другая барышня и назвала его живым портретом. Кроме перечисленных достоинств Менильгранд обладал еще одним, самым драгоценным в глазах молодых девиц: он всегда был необыкновенно красиво одет. Была ли его любовь к нарядам единственным оставшимся этому отчаявшемуся, доживавшему жизнь в затворничестве человеку напоминанием о его донжуанстве – так заходящее солнце золотит последним лучом края туч, за которыми скоро погаснет, – или так он напоминал себе об азиатской роскоши, какую в бытность офицером Шамборанского полка выставлял напоказ? Когда их полк расформировали, старому скупцу, его батюшке, пришлось раскошелиться и заплатить двадцать тысяч франков только за его чепраки из тигровых шкур и сапоги с красными отворотами. Что было у него на душе – неведомо, неоспоримо одно: ни один молодой парижанин или лондонец не мог превзойти элегантностью этого мизантропа, оставившего светскую жизнь, наносившего два или три визита в начале своего пребывания в родном городе, а потом не выходившего из дома вовсе.








