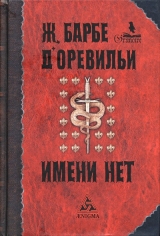
Текст книги "Те, что от дьявола"
Автор книги: Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
А встретились мы с ней на большой парадной лестнице – я поднимался вверх, она спускалась вниз. Я бы даже сказал, бежала, но, заметив меня, замедлила шаг, без сомнения для того, чтобы дать мне полюбоваться пышным цветением своего счастья, погрузить в мои глаза взгляд своих, способных заставить зажмуриться пантеру. Но, как выяснилось, я не пантера. Глядя, как она спускается по ступенькам лестницы – чуть ли не бегом, с вьющимися за ней следом юбками, – можно было подумать, она летит с небес: воплощенное счастье! Да, она сияла во сто крат ярче, чем Серлон. Я прошел мимо, даже не кивнув в знак приветствия. Людовик XVI кивал на лестнице даже горничным, но не отравительницам же! В белом чепце и переднике Отеклер ничем не отличалась от всех прочих на свете горничных, вот только бесстрастное равнодушие рабыни уступило место счастливому торжеству всемогущей госпожи. И осталось с ней навсегда. Мы только что видели ее, можете судить сами, правду ли я говорю. Сияние горделивого счастья поражает даже больше прекрасного лица, на котором лучится. Сверхчеловеческой гордыней любовного счастья Отеклер поделилась и с Серлоном, раньше он не знал ее, а сама упивается ею вот уже больше двадцати лет. И, надо сказать, надменное счастье двух необычных избранников судьбы ни разу не потускнело, не омрачилось. С победоносно счастливым видом они встречали злословие, отторжение, презрение оскорбленного дворянства, и, глядя на их цветущие счастьем лица, невольно думалось, что преступление, в котором их винили, злобная клевета.
– Но вы-то, доктор, знали всю подноготную, – прервал я его, – на вас, я думаю, их счастливый вид действовал по-другому? Вы же наблюдали за ними. Видели их в любой час дня!
– Я не видел их только ночью в спальне, но не думаю, что именно там они горевали, – не слишком весело съёрничал доктор Торти. – Действительно, я приезжал к ним в самое разное время после того, как они сочетались браком, кстати, венчаться они уехали подальше от В., опасаясь, что здесь их не обвенчают: возмущением кипели все – простолюдины не меньше дворян. Когда они вернулись: Отеклер законной графиней де Савиньи, а граф – вконец опозоренным браком с прислугой, их вынудили запереться у себя в замке. От них все отвернулись. Их оставили друг на друга – пусть наслаждаются сколько хотят… Они и наслаждались, и похоже, до сих пор не пресытились обществом друг друга, как вы сами видели, их голод не утолен. Что же касается меня, то я врач и умру не раньше, чем допишу свое исследование о патологиях и уродствах. Эти красавцы интересовали меня именно… как уроды, и я не поспешил за теми, кто их избегал. Мнимая Элали, став графиней, приняла меня так, словно графиней родилась. Ей и дела не было, что я помнил ее стоящей передо мной в белом переднике с подносом в руках! «Я больше не Элали, – сказала она мне. – Я – Отеклер. Счастливая Отеклер, потому что служила Серлону». Я подумал, что она служила не ему, но промолчал. Во всей округе я один-единственный приехал в Савиньи после их возвращения и, махнув на всех рукой, стал бывать там весьма часто. Я упорствовал в своем желании наблюдать, хотел разгадать загадку идеально счастливых любовников.
Ну так вот, хотите верьте, мой дорогой, хотите нет, но безоблачное счастье, добытое преступлением, пребывало неомраченным. Ни одно пятно, память о грязном трусливом убийстве – на кровь не хватило отваги, – не туманило их небесного блаженства! Впору в обморок упасть всем на свете моралистам, придумавшим прекрасную аксиому о наказанном пороке и торжествующей добродетели, не так ли? Забытые всеми на свете, видевшие только меня, врача, ставшего почти что другом из-за частых визитов, и нисколько меня не стеснявшиеся, они чувствовали себя совершенно свободно. Забыв обо мне, они жили пылом своей страсти, с которой мне нечего сравнить, хотя воспоминаний за жизнь у меня накопилось достаточно. Вы были свидетелем их счастливого забытья всего несколько минут назад: они прошли и даже не заметили меня, хотя я стоял в двух шагах. Когда мы виделись часто, они не замечали меня точно так же. Вежливые, приветливые, они смотрели на меня словно на пустое место, и я ни за что не стал бы ездить в Савиньи, если бы не изучал, словно в лаборатории под микроскопом, их невероятное счастье, стремясь отыскать для собственного своего удовольствия маковое зернышко усталости, печали или – произнесем наконец ключевое слово – раскаяния. Но не нашел! Любовь заполнила их, переполнила и вытеснила из них все, в том числе и совесть, как мы привыкли называть нравственное чувство. Глядя на двух счастливчиков, я понял, насколько серьезно шутил мой товарищ Бруссе [70]70
Бруссе Франсуа Жозеф Виктор (1772–1838) – известный французский врач.
[Закрыть], говоря о совести: «Вот уже тридцать лет я копаюсь в человеческом нутре и не видел ни разу даже хвостика этой зверушки».
Не вздумайте счесть мой рассказ проповедью или новой теорией, – заявил внезапно умница Торти, словно бы прочитав мои мысли, – я не подтверждаю им доктрину, которая напрочь отвергает существование совести и которую разделяет мой друг Бруссе. Никаких теорий у меня нет в помине, а стремления повлиять на ваши убеждения тем более. Моя история – реальность и изумляет меня не меньше, чем вас. Я наблюдаю феномен нескончаемого счастья, как наблюдал бы за мыльным пузырем, который все растет и никак не лопнет. Длительное счастье удивительно само по себе, но, когда люди счастливы вопреки совершенному убийству, удивление переходит в недоумение. Вот двадцать лет я и недоумеваю. Опытный врач, искушенный наблюдатель, старый моралист… или имморалист, – добавил он, заметив мою улыбку, – находится в полном замешательстве, наблюдая небывалое явление, которое он не в силах исследовать и передать в деталях, поскольку расхожее выражение «неописуемое счастье», к сожалению, совершенно верно. Счастье в самом деле не поддается описанию. Мы счастливы, чувствуя, что преисполнены высшей жизнью, но увидеть, каким образом высшая жизнь наполняет обыкновенную, так же невозможно, как увидеть, каким образом кровь наполняет сосуды. О токе крови нам сообщает биение пульса, и я на протяжении многих лет держал руку на пульсе непонятного мне счастья. Граф и графиня де Савиньи, сами о том не подозревая, изо дня в день проживают великолепную главу госпожи де Сталь [71]71
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) – французская писательница, упоминаемая глава находится в книге «О влиянии страстей на счастье людей и народов».
[Закрыть]под названием «Любовь в супружестве» или еще более великолепную поэзию Мильтона [72]72
Мильтон Джон (1608–1674) – английский поэт, политический деятель. Главные произведения – поэмы «Потерянный рай» (1667), «Возвращенный рай» (1671).
[Закрыть]из «Потерянного рая». Сам я лично никогда не был ни сентиментален, ни романтичен, но, увидев собственными глазами воплощение идеала супружеской любви, разочаровался в самых благополучных браках, которые свет называл счастливыми. По сравнению с де Савиньи они казались скучными и холодными. Не знаю, судьба ли, счастливая звезда или случайность позволили Отеклер и Серлону жить только собой и друг другом. Богатство подарило им праздность, без которой любовь погибает. Правда, и праздность бывает гибельной для любви, но вне праздности она не рождается. На этот раз в виде исключения досуг не был гибелен. Любовь упрощает все, и жизнь двух влюбленных стала простой до крайности. Они не загромождали ее тем, что принято именовать событиями. На первый взгляд их жизнь ничем не отличалась от жизни других дворян, живущих у себя в замках. Свет их не интересовал – ни уважение его, ни пренебрежение. Они не искали развлечений на стороне и никогда не разлучались. Чем бы ни занимался один, второй непременно был рядом.
По дорогам в окрестностях города В. вновь, как во времена старика Заколю, скакала в седле Отеклер, но теперь с ней бок о бок скакал граф де Савиньи, и местные дамы, путешествующие по-прежнему в каретах, с еще большим любопытством, чем во времена ее девичества, когда она пряталась под темно-синей вуалью, пытались ее рассмотреть. И рассматривали. Вуаль ее вилась позади, горничная, сумевшая стать графиней, дерзко выставляла напоказ свое счастье. Негодующие дамы продолжали свой путь, но невольно погружались в мечтательность…
Граф и графиня де Савиньи не путешествовали, изредка ездили в Париж, но самое большее через неделю вновь возвращались в замок Савиньи, где когда-то совершили убийство, однако сами, как видно, забыли о нем, похоронив в бездонных глубинах сердца…
– Неужели у них нет детей, доктор? – спросил я.
– Хм! Думаете, нашли изъян, понадеялись, что именно так отыгралась на них судьба или наказал Господь Бог? Да, детей у них нет. Я и сам скоро понял, что их не будет, слишком сильное пламя сжигает все без остатка, в нем нет созидающей силы. Как-то я спросил Отеклер: «Госпоже графине не грустно оттого, что у нее нет детей?» – «Я их никогда не хотела, – величественно ответила она. – Тогда бы я меньше любила Серлона. Дети, – прибавила она с оттенком пренебрежения, – созданы в утешение несчастливым женщинам».
И на этих словах – для доктора Торти многозначительных – он оборвал свою историю.
Меня интересовала не только история, но и рассказчик, и я заметил:
– Даже Отеклер – убийца не лишена притягательной силы. Не будь она отравительницей, я понял бы Серлона.
– Думаю, понимаете, хоть она и отравительница, – усмехнулся доктор и прибавил: – Я тоже.

Подоплека одной партии в вист
– Вы рассказали свою историю в насмешку, сударь?
– А вы, сударыня, разве не знаете кружевного плетения названием «заблуждение»?
На вечере у князя Т.
I
Прошлым летом я провел как-то вечер в гостиной баронессы Маскранни. Баронесса одна из тех редких в Париже дам, которые ценят исконное французское остроумие, она распахивает двери своего салона – хватило бы одной створки – тем из нас, кто еще понимает в нем толк. В последнее время, как известно, все дорожат не остроумием, а гордецом интеллектом, ломакой и притворой. Баронесса по мужу принадлежала к очень древнему и славному роду, берущему свое начало в Граубюндене, восточном кантоне Швейцарии. На ее червленом гербовом щите, как известно, три змеевидных пояса, сверху серебряная орлица с распростертыми крыльями, справа серебряный ключ, слева серебряный шлем, а в центре на лазоревом поле золотая лилия; все символы были дарованы европейскими монархами в благодарность за услуги, оказанные семейством Маскранни в разные исторические эпохи. Не будь государи Европы заняты множеством других дел, они бы украсили столь благородно перегруженный щит новым символом за героические усилия, которые прилагает баронесса, пытаясь спасти вырождающееся искусство беседы, этой дочери абсолютной монархии и аристократической праздности.
Тонкий ум баронессы и достойное ее родовитости обхождение придали ее салону очарование Кобленца [73]73
Город в Германии, в 1790–1794 гг. центр французской эмиграции.
[Закрыть], приютившего нашу знать, а заодно и традиционное для французов искусство беседы, где еще может сверкать их прославленное остроумие – увы! – вытесненное за пределы Франции практичной деловитостью новых времен. В салоне графини всячески поддерживали эту лебединую песнь, готовую вот-вот умолкнуть. У нее в гостиной – во всем Париже найдется всего два или три таких дома, где хранят величайшее на свете умение вести разговор, – не бросали хлестких фраз, не произносили монологов. Газетные статьи, речи политиков – примитивные матрицы, штампующие мысли в XIX веке, – не упоминались в этих беседах. Собеседники не нуждались в них, умея обойтись чарующе тонким или глубоким замечанием, сказанным к месту, порой одной только интонацией или гениально найденным жестом. Благодаря благословенному салону баронессы я узнал о могуществе – раньше я и не подозревал о нем – односложных ответов. Сколько раз я дивился, с каким несравненным талантом посылали их или роняли; мадемуазель Марс [74]74
Мадемуазель Марс (1779–1874, настоящее имя – Анна Франсуаза Иполитта Буте) – знаменитая французская актриса.
[Закрыть], несравненная мастерица односложных ответов на сцене, была бы посрамлена, имей она возможность появиться в гостиной Сен-Жерменского предместья: знатная дама никогда не переутончит тонкой реплики, как актерка, играющая на сцене пьесу Мариво [75]75
Мариво Пьер Карле де Шамблен де (1688–1763) – французский романист и комедиограф.
[Закрыть].
Однако погода в тот вечер не располагала к односложности. Когда я вошел в гостиную, в ней уже сидело немало «задушевных друзей», как называла завсегдатаев салона баронесса, ведя по обыкновению оживленный разговор. Словно экзотические цветы, украшающие яшмовые вазы гостиной, «задушевные друзья» баронессы были родом из разных стран, но все они – англичане, поляки, русские – беседовали по-французски и не различались ни складом ума, ни манерами, принадлежа одному сословию – аристократии. Не знаю, с чего начался разговор, но, когда я вошел, говорили о романах. Говорить о романах – все равно что размышлять о собственной жизни. Думаю, не нужно объяснять, что великосветские господа и дамы не щеголяли ученостью, рассуждая о литературных достоинствах книг. Суть вещей, а не форма занимала собравшихся людей. Высокопоставленные моралисты каждый по-своему изведали жизнь, изведали страсти и за легкими речами и внешним спокойствием таили немалый житейский опыт. Особенности человеческой натуры, нравы да и сама по себе история занимали их в романах. Не больше. Но возможно, ничего другого в романах и нет…
Разговор, похоже, начался давно: блеск в глазах свидетельствовал, что интерес разгорелся всерьез. Мягко подстегивая друг друга репликами, собеседники с увлечением плели пенистое кружево беседы. Несколько живых душ – я насчитал в гостиной три или четыре – сидели молча, одна склонив голову, другие задумчиво разглядывая кольца на руках, сложенных на коленях. Возможно, они пытались въяве увидеть грезы, что так же нелегко, как ощущение сделать мыслью. Под шумок беседы я проскользнул незамеченным и встал позади красавицы княгини Даналья, изумляющей белизной своих нежных плеч. Прижав к верхней губке сложенный веер, она слушала, как слушают только дамы высшего света, потому что умение слушать считается там особым очарованием.
День клонился к вечеру, розовый цвет понемногу переходил в черноту, как цветущая розой жизнь. Мужчины и женщины, расположившись в живописно небрежных позах, были полны внимания и казались в полутьме гостиной прекрасной гирляндой – скорее живым браслетом с застежкой в виде возлежащей Клеопатры: на нее походила хозяйка дома своим египетским профилем, всегда возлежавшая на кушетке. В приоткрытую балконную дверь виднелся кусочек неба и на нем – силуэты нескольких человек, вышедших на балкон. Воздух был так чист, а набережная Д’Орсэ так безлюдна, что и на балконе слышалось каждое слово, произносимое в гостиной, хотя приспущенные занавеси могли бы утаить в своих складках если не голос, то интонации говорившего. Когда я узнал рассказчика, то не удивился вниманию, с каким его слушали: поддерживал его неподдельный интерес, а не привычная светская учтивость, какой дарят друг друга, готовя про себя свою реплику. Не удивился и смелости, с какой говорящий удерживал внимание так долго, что не поощрялось в этой гостиной, отличавшейся безупречным тоном.
Говорил самый блестящий из говорунов в королевстве беседы. Лестный отзыв не стал для него прозвищем, но вполне мог бы сделаться званием, если бы… Простите, если бы он не заслужил звания на совсем ином поприще… Злословие и клевета, близнецы, которых не отличить друг от друга, выворачивающие все наизнанку, царапающие ядовитыми коготками слева направо, как если бы писали на иврите, любили нашептывать, что он был героем не одной любовной истории. Однако вряд ли он задумал рассказать какую-нибудь из них…
– Самые невероятные романы, – говорил он, пока я устраивался на подушках канапе по соседству с чарующими плечами княгини Даналья, – случаются в жизни, мы задеваем о них локтем, мы о них спотыкаемся, проходя мимо. Каждый из нас может припомнить что-то подобное. Роман – явление более обыденное, чем история. Я не имею в виду тех, что стали воистину катастрофой, трагедией, бурей чувств, разыгравшейся на глазах его величества Общественного Мнения. Однако, кроме редких извержений, потрясающих лицемерное в прошлом и трусливое в настоящем общество, каждый из нас был очевидцем губительной страсти, разрушившей чью-то судьбу. Каждый видел, как разбивается чье-то сердце, а жизнь своей многоголосицей заглушает его последний глухой стук, похожий на падение жертвы, сброшенной в каменный мешок. К роману можно отнести слова Мольера о добродетели: «Черт побери! Где она только не гнездится?!» И роман, и добродетель обнаруживаются иной раз там, где их и не предполагали! Вот я, например, когда был маленьким, видел… Нет, слово «видел» не годится, – я догадался, почувствовал, что разыгрывается одна из тех жесточайших, ужасающих драм, которые не нуждаются в публике, хотя герои ее постоянно на людях. Паскаль говорил: «Какой бы ни была замечательной комедия в начале и в середине, в последнем акте непременно кровь», такой была и эта, но разыгрывалась она при закрытых дверях, за плотным занавесом, именуемым частной жизнью. Исход подобных драм, потаенных, нутряных, в которых кровавый пот выступает не снаружи, а изнутри, всегда особенно страшен, он воздействует на воображение, врезается в память с необыкновенной силой оттого, что все происходило не на ваших глазах. Воображаемое впечатляет во сто крат сильнее, чем хорошо известное. Думаете, я не прав? Уверяю, адское пламя, мелькнувшее в подвальном окне, напугает больше, чем панорама преисподней, увиденная с высоты птичьего полета.
Рассказчик остановился. Он высказал такую по-человечески понятную мысль, и высказал ее так образно, что люди, обладавшие хоть каким-то воображением, не могли не воспринять ее; ее восприняли, никто ему не возразил. Все смотрели на него с живейшим любопытством. Юная Сибилла, примостившаяся в ногах кушетки, на которой полулежала ее мать, подвинулась к ней с испугом, как если бы обнаружила у себя за корсажем на плоской груди змею.
– Запрети ему, мама, – обратилась она к матери тоном балованного ребенка, которого растят, чтобы сделать деспотом, – рассказывать нам страшные истории, от которых кидает в дрожь.
– Если хотите, мадемуазель Сибилла, я замолчу, – отозвался рассказчик, которого девочка даже не назвала по имени, простодушно свидетельствуя о своей к нему дружбе и даже нежности.
Рассказчик знал эту юную душу, ее страхи, ее жадное любопытство, ее чувствительность – всякое повое впечатление окатывало ее ледяным душем, перехватывая дыхание.
– Насколько я знаю Сибиллу, у нее нет намерения заставить молчать моих друзей, – проговорила мать, гладя дочь по склоненной головке, так рано начавшей задумываться. – Если ей страшно, пусть воспользуется главным средством боязливых – бегством. Ты можешь уйти, Сибилла.
Но капризница, судя по всему жаждавшая услышать историю не меньше матери, никуда не убежала, напротив, худышка уставилась черными бездонными глазами на рассказчика, трепеща всем телом, словно смотрела в пропасть.
– Продолжайте же ваш рассказ, – попросила мадемуазель Софи де Ревисталь, глядя карими лучистыми глазами – влажными и от этого казавшимися еще более сияющими. – Смотрите, мы все вас слушаем, – и она обвела присутствующих нетерпеливым жестом.
Рассказ последует дальше, но предупреждаю, он передан мной по памяти, лишен интонаций живого голоса, сопровождавших его жестов, а главное, той атмосферы заинтересованности, которая царила в очаровательном салоне, и поэтому будет гораздо бледнее.
– Я рос в провинции, – заговорил вынужденный прервать молчание рассказчик, – воспитывался в родительском доме. Мы жили в городишке, расположившемся на склоне горы и глядевшем в воду на том краю света, который я называть не стану. Рядом с нашим находился город побольше, и вы узнаете его, если я скажу, что в те времена он был самым аристократичным и самым дворянским из городов Франции. Больше нигде и никогда я не встречал ничего подобного. Ни наше Сен-Жерменское предместье, ни площадь Белькур в Лионе, ни другие три-четыре города, которые приводят в пример как образцы аристократического духа, не могли сравниться с этим городком с населением в шесть тысяч душ, где в канун 1879 года по мостовой гордо катило пятьдесят карет, украшенных гербами.
Казалось, теснимая со всех сторон дерзкой буржуазией аристократия наконец отыскала себе прибежище и, словно рубин в тигле, пламенела присущим ей от природы огнем гордыни, который может погаснуть только вместе с нею.
Высокородные этого дворянского гнезда ни с кем не смешивалась, как Господь Бог, и были обречены на вымирание, а может быть, и уже вымерли из-за этого своего предрассудка, который я назвал бы мудростью высшего сословия: они чурались и не ведали мезальянсов, роняющих аристократов в других местах.
Разоренные революцией барышни-дворянки стоически умирали старыми девами, отражая все напасти щитами своих гербов. Я рос в окружении пламенеющей юности, она согревала и вдохновляла меня; очаровательные красавицы знали, что они прекрасны и бесполезны, понимали, что кровь, стучащая в их сердца, приливающая к их серьезным лицам, волнуется напрасно.
В свои тринадцать лет я мечтал, что пожертвую всем ради этих прекрасных благородных девушек; корона на гербе была их единственным богатством, и свой жизненный путь они начинали царственно и печально, как подобает обреченным на гибель судьбой. Дворянки с незапятнанным, чище горной воды, происхождением дарили вниманием только таких же, как они.
– Помилуйте, можем ли мы всерьез относиться к юным буржуа, когда их отцы прислуживали за столом в наших замках? – говорили мне знатные молодые люди.
И действительно, господину трудно воспринять всерьез своего лакея. Можно одобрить освобождение рабов где-то вдалеке, но в городе величиной с носовой платок совместное существование разъединило сословия: одни приказывали, другие прислуживали. Вот почему дворяне не выходили за пределы своего круга, виделись только друг с другом и если изредка приглашали кого-то в гости, то только англичан.
Англичанам нравился наш городок, он напоминал им родину. Они любили его за тишину, чопорность, холодность и надменность в обращении, за те четыре шага, которые отделяли его от моря, потому что по этому морю они сюда и приплывали. По душе им была и дешевизна жизни, благодаря ей они удваивали свои скромные доходы, каковых на родном острове им явно не хватало.
Потомки морских разбойников норманнов, они считали наши места и этот нормандский городок континентальной Англией и подолгу жили здесь.
Маленькие мисс учили французский, играя в серсо под тощими липами учебного плаца, но к восемнадцати годам отправлялись к себе в Англию, потому что разоренная местная знать не могла позволить своим сыновьям роскошь жениться на девушках со скромным приданым, а у скромных англичанок и приданое было скромным. Они уезжали, но в оставленных ими домиках вскоре опять появлялись новые английские семейства. По тихим улочкам, поросшим травкой, как Версаль, всегда прогуливалось примерно одно и то же количество маленьких мисс в зеленых вуалях, клетчатых платьях и с шотландскими пледами. Каждые семь или десять лет менялись английские семейства, и больше ни одной перемены в навсегда установленной жизни городка! Устрашающее однообразие!
Ограниченность и скудость жизни в провинции стала общим местом – кто только не говорил о ней! – но жизнь этого городка была скудна вдвойне: в ней не было не только событий, но и сословных страстей. В нем, как в других мелких городках, верхи и низы не состязались в амбициях, не кипели ненавистью, не ревновали, не наносили друг другу ударов по самолюбию, поддерживая брожение жизни, которая проявляет себя в подобных случаях хотя бы общественными скандалами или какими-нибудь гнусностями – словом, теми мелкими аппетитными противообщественными злодействами, какие не рассудит никакой суд.
Здесь разница между благородными и неблагородными была так ощутима, пропасть, разделяющая знать и разночинцев, так глубока, стена так высока и непреодолима, что ни о какой борьбе не могло быть и речи.
Ведь для того, чтобы велась борьба, необходимо хоть какое-то общее поле деятельности, здесь оно отсутствовало. Однако дьявол ничего не потерял.
Разбогатевшие буржуа, чьи отцы прислуживали за столом, получив права и свободы, продолжали гноить в глубинах души несметные запасы ненависти и зависти, из этих зловонных клоак частенько поднимался пар и слышалось клокотанье, направленное против благородных чистюль, которые вообще выключили их из поля своего зрения, перестав замечать, как только те сняли ливреи.
Ядовитые испарения не достигали рассеянных патрициев, живших в своих особняках, как в крепости, и опускавших мосты только для равных; жизнь знатных ограничивалась знатными. Что им за дело до болтовни внизу? Они не слышали «низов». Оскорбиться и затеять поединок могли бы молодые люди, но в городе не было ни театров, ни других общественных мест, этих раскаленных присутствием и взглядами женщин площадок, где они могли бы встретиться.
В городе не давали представлений. Раз не было зала, не приезжали и актеры. В кафе, как обычно в провинциях, грязных и темных, возле бильярдных столов собирались разве что городские подонки, крикуны, буяны, скандалисты да еще два-три офицера в отставке, потрепанные обломки императорских войн. Надо сказать, озлобленные, уязвленные, ущемленные в своем чувстве равенства буржуа сохраняли помимо собственной воли пристрастие к уважительности, которой ни к кому уже не питали.
Уважение народа сродни елею в реймском соборе, которого не было и который появился благодаря святой Ампуле [76]76
По преданию, когда святой Ремигий (437–533) собрался окрестить в соборе Реймса (496) короля Франции Хлодвига (466–511), там не оказалось елея, но тут же прилетела голубка, неся в клюве святую Ампулу, полную елея. С тех пор все короли Франции получали святое помазание в Реймсе из святой Ампулы. В 1793 г. Ампула была публично разбита молотком на площади Реймса.
[Закрыть], над чем имели глупость издеваться столько прославленных умов: кажется, что его нет, но оно все-таки есть.
Сын игрушечника мог сколько угодно клеймить неравенство сословий, но ему бы и в голову не пришло подскочить на главной площади родного города, где все знают друг друга с детства, к проходящему под руку с сестрой сыну, например, де Кламорган-Тайфера и ни за что ни про что оскорбить его. Против игрушечника ополчились бы все горожане. Родовитость – впрочем, как и все прочее, что ненавидишь и чему завидуешь, – физически ощутима для ненавистника, а значит, столь же ощутимы и права, какими пользуются родовитые. Во время революций народ борется с высокородными, потому что ощущает их превосходство, во время перемирий он просто ощущает, что превосходство существует.
Шел 182… год, времена были вполне мирные. Либералы, обильно расплодившиеся под покровом Хартии, установившей конституционную монархию, – так плодятся щенки под кровом новой псарни – не успели еще до конца искоренить привязанность к королевскому дому, и возвращение из изгнания принцев [77]77
Возвращение из эмиграции графа Прованского (будущий Людовик XVIII) и графа д’Артуа (будущий Карл X), братьев казненного Людовика XVI.
[Закрыть]до крайности подогрело монархические чувства, переполнив сердца энтузиазмом. Что бы там ни говорили, но для Франции тогда настало прекрасное время. Монархия выздоравливала, и, хотя революционная гильотина лишила ее питающих сосцов, она, исполнившись надежд на будущее, поверила, что сможет прожить и без них, еще не чувствуя у себя в крови таинственных носителей рака, который уже разрастался и впоследствии должен был убить ее.
Городок, о котором я вам рассказываю, погрузился в то время в глубокую и сосредоточенную тишину. Выполняя свою дворянскую миссию, благородное общество окончательно отказалось от какой бы то ни было жизни, деятельности и удовольствий. Больше никто не танцевал. Балы упразднили, считая их путем к погибели. Барышни надевали поверх шейных косынок крестики и вступали в религиозные общества, которыми руководили дамы-председательницы. Все до того стремились к серьезному, что можно было бы умереть со смеху, но никто не отваживался даже улыбнуться. Когда же расставляли столы для игры в карты: четыре для виста, в него играли вдовы и пожилые господа, два для экарте, в него играли господа помоложе, то барышни, которые и в церкви молились в отдельной часовне, куда не допускались мужчины, садились в уголке гостиной молчаливой группкой (относительно молчаливой, ибо все на свете относительно!) и если переговаривались, то шепотом, если зевали, то плотно сомкнув рот, и глаза у них при этом краснели. И до чего же деревянная прямизна их осанки не подходила их гибким талиям, розовым и сиреневым платьям, воздушным кружевным пелеринам с бантами!..
II
– Единственным, – продолжал рассказчик свою историю, правдивую и столь же подлинную, как и описание городка, в котором она произошла: любой менее деликатный человек без труда назвал бы его, – единственным, что вносило не скажу жизнь, но какое-то движение, волнение чувств и подобие желаний в запретившее себе чувствовать и желать общество, где невозмутимые, будто им исполнилось восемьдесят, девичьи сердца скучали, как скучают в старости, оставалась карточная игра, последнее прибежище изношенных душ.
Игра в карты много значила для этих родовитых дворян, скроенных по образцу и подобию своих прадедов, могущественных сеньоров, и оставшихся не у дел, будто ослепшие старухи. Они играли как норманны, предки англичан, самые большие любители игры в мире, и выбрали для себя вист. Дальние родственники англичан, вдобавок пожившие в Англии эмигрантами во время революции, они полюбили вист за необходимое в нем чувство достоинства и молчаливую сосредоточенность – качества, без которых не обходилась и большая дипломатическая игра. Пустоту своих дней, похожую на бездонную пропасть, они заполняли вистом и играли в него каждый вечер после позднего обеда и до полуночи или часа ночи, что провинциалам казалось чуть ли не оргией. В вист играл и маркиз де Сен-Альбан, и партия с его участием всякий раз становилась событием. Маркиз занимал в этом обществе место феодального сеньора, остальные дворяне чувствовали себя его вассалами и окружали самым почтительным уважением, которое стоит нимба, если почитающие сами почтенны.
Маркиз великолепно играл в вист. Ему было уже семьдесят девять лет, и с кем он только не играл за свою жизнь! С Морепа, министром Людовика XV, с графом д’Артуа, игравшим в карты столь же искусно, как в мяч, с принцем де Полиньяком, епископом Луи де Роганом, с Калиостро, с немецким принцем де ла Липпе, с Фоксом, с виконтом Мелвилом, с Шериданом, с принцем Уэльским, с Талейраном и с самим чертом, когда, ни черта не имея, доходил до крайности в эмиграции. И разумеется, ему нужны были достойные партнеры. Обычно ему составляли партию англичане, из тех, что были приняты в лучших домах, и об этой партии говорили как об особом событии, называя ее вистом господина де Сен-Альбан, при дворе так говорили бы о висте его величества короля.
Однажды зеленые столы стояли в гостиной госпожи де Бомон, и все ждали некоего мистера Хартфорда, англичанина, которого пригласили составить партию великолепному маркизу. Англичанин был промышленником и устроил в Понт-оз-Арше хлопчатобумажную мануфактуру, одну из первых мануфактур в этих краях, столь не любящих новшеств; однако имейте в виду, что нововведениям в Нормандии препятствуют отнюдь не тупоумие, не невежество, а присущая всем нормандцам осторожность. Говоря между нами, нормандцы больше всего мне напоминают лису, о которой упоминает Монтень в одном из своих рассуждений: если уж нормандец встанет на лед, то можно быть уверенным, что река замерзла как следует и он может идти без опаски.








