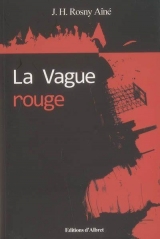
Текст книги "Красный вал [Красный прибой]"
Автор книги: Жозеф Рони-старший
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Или же он отвечал:
– У меня есть кулаки и руки. Здесь говорят об умирающих с голоду… пустое… Если ты умеешь исполнять работу и если ты ее ищешь, ты ее найдешь.
– Но, – осторожно замечал Франсуа, – есть швеи, работающие по двенадцати часов в день и зарабатывающие двадцать пять су.
– Я не портниха. Есть ремесла, в которых работает слишком много людей. Если десять человек садятся за одну телячью почку, вполне естественно, что ее не хватит. Надо итти туда, где есть место.
– Очень хорошо, но правильно ли, если имеется пятьдесят телят для кого-нибудь одного, который бережет их для себя, не будучи даже в состоянии их с'есть, а остальные в то же время сидят без куска хлеба.
– А ты видел, чтобы кто-нибудь хранил пятьдесят почек?
– Это – манера говорить.
– У меня голова, которая пробивает двери, и разных там манер говорить я не понимаю.
Он хлопал себя по заду и обрывал разговор.
Отец Крамо, прозванный "Обезьяний зад", оказался еще неприступнее. Он вращал своими большими, с белками лимонного цвета глазами и от напряжения потел. Его голос выходил из груди как-то приступами; некоторые звуки у него отсутствовали, другие выходили из глотки как-то хрипло, и когда Ружмон с ним говорил, он выслушивал только начало фразы, затем возражал:
– Мы обриты, как обезьяний зад. Нет справедливости и несправедливости, эксплоататоров и эксплоатируемых. Есть только мерзавцы. Я мерзавец, ты мерзавец, мы все мерзавцы. Мы созданы из грязи и в нее превращаемся, мы еще живы и уже разлагаемся. Чего ты думаешь добиться для нас всеми этими синдикатами, революцией, Интернационалом? Все это из той же грязи, как и все прочее. Если ты дашь мне место папаши Лубе, то от этого я не буду менее бритым. И ты бритый, и все бритые. Нет ничего, когда ничего нет, нечего делать. Я вижу это ясно. Я хитер, я мудр. Я ничего не люблю, и людей не люблю, и горжусь тем, что себя не люблю. Нет! К чорту солидарность! К чорту блага коммунизма! Все это та же грязь!
Он всегда выражался одними и теми же словами, за исключением тех дней, когда бывал пьян. Тогда он еще менее отчетливо выговаривал слова и еще чаще упоминал "обезьяний зад". Впрочем, Франсуа не старался его поучать, так как через несколько дней ему стало совершенно ясно, что старый мозг жил отрывочными мыслями, в него врезавшимися, и был совершенно неспособен к восприятию новых идей и понятий.
Приходилось также отказаться от надежды завербовать папашу Мельера. Этот жестяных дел мастер слушал очень внимательно, улыбался с видом знатока при особенно красноречивых фразах, но на прямой вопрос Дютильо или Трубы только жмурил свои серо-зеленые глаза и отвечал неизменно:
– Все одно и то же!
Эти слова заключали в себе всю его мудрость и освещали для него самые интимные переживания. Это значило: "нет ничего нового под луной" или nil admirari бедного человека. Все начинается сызнова. Потоки и идеи следуют своему течению, а это течение неизменно. Есть старые и здоровые, хитрые и глупые, люди и лошади… почему бы не быть бедным и богатым?
– Послушай, – закричал Дютильо, – вы не думаете, однако, о том, что существует несправедливость?
– Конечно, если бы не было несправедливости, не было бы и справедливости.
– Почему вы только рабочий жестяник, а Бриду хозяин? Бриду не больше, как негодяй.
Большей частью Мельер или совсем не отвечал на этот вопрос, или бросал короткие афоризмы. Однажды, однако, он высказался:
– Все это только повторения. Почему вы – спорщик, а Фаландр зябкий человек? Что касается меня, то я вижу, что все повторяется. Сделали Великую Революцию, затем императора Наполеона, потом две другие революции и еще одного императора, и Эльзас и Лотарингию, и коммунаров. И что потом? Разве все совершилось по заранее установленному плану? Вы сами говорите, что нет. Будет еще одна революция? Потом еще один император? Разве те, кто участвовал в Великой Революции, были глупцами? Или участники Коммуны? И однако они грубо ошиблись. Не думаете ли вы заставить меня поверить, что я поверну когда-нибудь правительственную машину? Следовательно, мне придется положиться на вас, поверить вашему честному слову? Но почему? Я в такой же степени доверяю Тармушу или Полю Деруледу…
Он испугался своих собственных слов и принялся смеяться:
– Вы меня заразили, я становлюсь проповедником.
Но это больше не повторялось, его мысль вернулась в пустоту его мозга и там снова застыла; он снова занял свое место ценителя красноречия. Где-то в глубине у него жило представление, что вещи тем менее реальны, чем лучше они рассказаны: он верил только в то, что растет на полях или делается руками человека или машинами.
Альфонс Перрего и его младший сын приходили каждый вечер в кабачок "Дети Рошаля". Они харкали больше, чем все посетители вместе взятые, и смородинного цвета лица их потели от спеси, грубой и упрямой. Второй сын Перрего, Ансельм, прозванный "Рубанок", служил в это время в армии. Это событие взбудоражило всю семью. Альфонс, которому удалось избежать рекрутчины во времена второй империи, не мог примириться с мыслью, что один из представителей его рода подчинен унтер-офицерам; горькие письма "Рубанка" поддерживали его ярость.
– Если бы это имело еще какой-нибудь смысл, – ворчал он, – но знаю я их армию: как только ее пошлют на немцев, она рассыплется…
Франсуа подливал масла в огонь. После сильных тирад против упадка военного духа и патриотизма, он переходил к анекдотам. Во время своей кампании в Ионне он насобирал множество совершенно необыкновенных рассказов. Да и каждый завсегдатай "Детей Рошаля" всегда считал своим долгом рассказать какой-нибудь анекдот. Они были грубы, циничны, гнусны или жалки. В них говорилось об убийствах и грабежах, сифилисе, педерастии, алкоголизме, проституции и они зажигали молодых; маленький Мельер мечтал о бегстве в Америку, Эмиль Пурайль думал о тонком яде, которым пропитывается белье чиновников; молодой Перрего не видел ничего более прекрасного, как, дождавшись на уличном углу офицера, всадить ему между лопаток нож; Арман Боссанж вспоминал о святой инквизиции. И все они отвечали на письма "Рубанка" криками ненависти и проклятий.
Именно к юношам Ружмон обращался с речами, наиболее страстными. Он любил их, они были близки его мягкой душе и его стойкому оптимизму. Видя их обновляющимися душой от его слов, он обновлялся душой и сам. Для его воображения, обращенного к будущему и возможному, прошлого не существовало, и он сильнее наслаждался своей грезой подле тех, кому суждено было знать новое общество. Видя их пьяными от надежд, он пьянел сам и забывал настоящее.
Армана Боссанжа он поставил во главе целой группы молодежи. В этом молодом человеке он находил апостольское воодушевление, горевшее в нем самом, когда ему было двадцать лет. Чтение Армана, хаотичное и беспорядочное, имело, однако, свой стержень: неосоциализм становился символом веры человечества.
Юноша был потрясен несправедливостью. Он находил ее в вихре туманностей и в метаморфозах индивидуума и вида, и в истории, и в сказаниях. Он не мог понюхать цветка без того, чтобы запах этот не смешался для него с негодованием или радостью. Он не мог без дрожи видеть солдата, и звуки рожка горниста поднимали в нем исступление антимилитаризма.
Даже умиление и ревнивый жар, возбуждаемый лицами красивых девушек, не обходились без революционных видений. Особенно возбуждала его неопрятность ремесленников, алкоголизм, бедность и усталость. Когда он встречал слишком много худосочных мужчин, обезображенных женщин, рахитичных детей и пьяных, его охватывал ужас: что, если промышленность изуродует человечество накануне великого спасения. Прижавшись лбом к стеклу, он смотрел на предместье, на высокие трубы заводов. Есть ли еще время спасти человечество? Пылкие надежды сметали этот страх. Вселенная проникала в его душу через сотню дверей. Вид фабричных труб на фоне звездного неба волновал его до слез.
Обширные пустыри, лачуги, разоренные сады и шумные фабрики производили на него впечатление столь же чистое и мощное, как то, которое другие люди получают от созерцания моря или леса.
Он пьянел от звонков трамвая и по вечерам останавливался, чтобы посмотреть на катившиеся мимо него длинные вагоны, свет от которых в эти часы казался исполненным обещаний и таинственности бродячей жизни. Гудки заводских сирен возбуждали в нем такие же чувства, как колокольный благовест в сердцах верующих. Толпы рабочих, возвращавшихся домой в вечерние часы, это огромное вечернее оживление городов, глубокое и усталое, призывало к каким-то священным и грандиозным обязанностям. Он собирал повсюду дикие семена и сеял их в ящиках. Там вперемежку росли курослепник, лютик, шильник, шалфей, римская ромашка и крапива, зверобой, волчий боб, левкой, люцерна, кашка, кошачьи лапки… Во всем этом отражались и сентябрьская скука и зимняя печаль, сияние апреля и горячая летняя беззаботность. Все это рождало в нем мечту, которая заполняла для него всю поднебесную.
По воскресеньям он водил своего брата Марселя, Густава Мельера, Эмиля Пурайля, Альфреда Касселя завтракать в Клермонский или Верьерский лес. Они усаживались где-нибудь под откосом. Густав вынимал из мешка ломтики мяса, хлеб, фрукты, белое вино. Эмиль разворачивал швейцарский сыр, копченое сало, фиги, крепкое вино из выжимок; у Армана и Марселя были яйца, яблочный пирог, булка, невшательский сыр. Кассель распаковывал ржаной хлеб, телятину, ветчину, бутылку фронсака, клеенчатую скатерть. Они воображали себя цыганами, команчами, разведчиками или гражданами нового общества. Разнообразие кушаний поддерживало их иллюзии и довершало возбуждение.
Фразы скакали в мозгу Армана, он превозносил красоту людей и их доброту, царство промышленности и победу земли.
Небольшие пространства будут приносить обильные урожаи, с избытком удовлетворяющие потребности людей; природа сохранит свои леса, степи, саванны и кустарники, она создаст новые изумительные формы, станет понятным язык животных и зверей, которые научатся уважать человека и его достояние. И среди них не будет врагов мирному властителю мира – человеку. Люди будут жить совершенно одинаково и на суше, и на море. Бесчисленные аэропланы будут носиться в облаках, в то время как подводные лодки будут без усилий опускаться на самое дно океана: фауна моря будет изучена так же хорошо, как животные наших пастбищ и скотных дворов.
Эти пророчества очаровывали слушателей, по-разному проявлявших свой восторг. Маленький Мельер вздыхал, полуоткрыв рот. Его восприимчивая душа наслаждалась этими мечтами. Он умильно смешивал проповеди Армана со снегирем с красной шейкой, с зелеными побегами ракитника и березы, с перламутровыми волнами бука, бегом жужелицы, неистовой работой муравья и угрюмым полетом комара; Марсель вперял в брата свои блестящие глаза, всегда немного насмешливые, обращая только внимание на возможность вести бродяжническую жизнь, жизнь планетного бродяги, Эмиль вытягивал свои павианьи лапы и зубоскалил. На него то нападало внезапно неистовство, и он издавал собачий лай, то он прерывал оратора какой-нибудь совсем неподходящей фразой.
Кассель сидел неподвижно, сжав губы и широко открыв огромные, точно стеклянные глаза. Он воспринимал идеи, медленно, но прочно укладывая их в своем мозгу. Его вера была холодна, но глубока. Его скулы слабо краснели, когда речь шла о милитаризме: он был призван и должен был уехать в октябре. Эта необходимость представлялась ему чем-то загадочным, вредным, чудовищным.
Он не мог постигнуть, каким образом какие-то далекие люди обладают властью призвать его и бросить в толпу, словно быка, барана или козу. И это не только потому, что он отрицал патриотизм. Даже будучи патриотом, он не представлял себе, чтобы Кассель должен был повиноваться людям, которых он не знает. Это чувство, заложенное у многих, у него принимало болезненный характер. Он еще понял бы если бы ему пришлось служить в войсках вместе с дядями, братьями, двоюродными братьями, друзьями, соседями; но мысль, что кучка неизвестных будет давать ему приказания, что ему придется спать с другими неизвестными, приводила его в ярость.
Его мания росла по мере приближения рокового срока. Таким образом, когда Арман предложил организовать антимилитаристскую лигу, этот молчаливый молодой человек произнес несколько грубых слов. Впрочем и все остальные чувствовали к армии ненависть, которую только разжигали письма Перрего, рассказы и брошюры. И Арман гремел под зелеными листьями:
– Одним уже своим существованием армия является войной. Дисциплина не иное что, как искусство делать из человека зверя. Она одна может заставить их сражаться. Никто не согласится добровольно подставлять себя вместе с сотней тысяч глупцов под пушечные выстрелы, ружья и митральезы. Разрушьте казармы, и война умрет!
– Разбейте сельдяные бочки, и больше не будет сельдей, – издевался Эмиль.
VIII
Таково было действие пропаганды Франсуа Ружмона. С грязных, дурно мощеных улиц она перекидывалась в кварталы, выросшие на обширных пустырях и питаемые артерией электрических трамваев. Это была почва сама по себе революционная, но сами люди были невежественны, не сплоченны между собой. Франсуа помог им ориентироваться; товарищи стекались к «Детям Рошаля», и революционер посещал дровяные склады, показывался у цинковиков, организовывал собрания, не относился с пренебрежением ни к кафе-концертам, ни к кабачкам.
О нем уже создалась легенда; она создалась в тот "вечер трупов", когда он сумел увлечь толпу. Лично он женщинам нравился гораздо больше, чем мужчинам; он привлекал даже и детей. Когда он сопровождал Гуржа, Иерихонскую Трубу, Филиппина, забывала свою сварливость; он очаровал Жоржетту Мельер; госпожа Фаландр и ее дочь принимали его очень благосклонно; мать маленького Топэна выходила на порог своего дома, чтобы взглянуть на него; Адель Боссанж казалась покоренной его бородой; Антуанетта Перрего повиновалась ему так же охотно, как и Альфонсу; вдова колодезного мастера Прежело и мать Александра осыпали его похвалами. Госпожа Бигур причесывалась особенно тщательно и поручила красильщице вывести пятна со своих корсажей. Впрочем, он не гнушался этими победами. Он не только подговаривал Жоржетту Мельер, длинную Евлалию, Матильду Фарр организовать синдикат брошюровщиц, но и для домашних хозяек ставил одну цель: борьбу против алкоголизма и за право женщин. Со своей пропагандой в квартале он соединял неустанную деятельность в мастерских бульвара Массенэ. Он сильно укрепил моральные узы, приковавшие к Конфедерации труда типографов и переплетчиков Делаборда. Альфред, красный гигант, много раз на неделе заходил к "Детям Рошаля" со своими приятелями. В период пропаганды Ружмон обычно устраивал то, что он называл предметными уроками. Они заключались в дисциплинировании, в составлении списка хозяев, уклоняющихся от договора и принуждавших к тому же и других, в преследовании желтых, в оказании помощи участникам стачек, в побуждении недовольных к бунту или саботажу. Все это проделывалось, сообразно случаю и обстоятельствам.
Франсуа Ружмон поддерживал на территории своей пропаганды то брожение и то прямое воздействие, которое одновременно служит непосредственным интересам пролетариата и, в то же время, его самого подготавливает для будущего. Он не придерживался одних широкого размаха манифестаций. Он заставлял ополчаться дружески или враждебно на несиндикализированных, он подстрекал к саботажу повсюду, где хозяева проявляли излишнюю строгость или спесь. Единомышленники приходили сотнями и принимали условия Конфедерации. Промышленники, устоявшие перед открытой стачкой, смягчались перед тайными выступлениями и скрытым саботажем, и не только крупные лавки Итальянского бульвара, но и мелкие лавки Большого пустыря добивались права на синдикатскую марку. Иногда он испытывал и неудачи, но он скрывал их для того, чтобы во-время предпринять отступление.
Неудачи эти вызывались деятельностью Деланда, то поддерживавшего на местах "лисиц", то пробивавшего брешь в революционных синдикатах образованием желтых синдикатов. Влияние этой деятельности распространялось вплоть до пригородов. Оно чувствовалось на железоделательном заводе Марсана, Кребс и Комп. Этот завод высился тремя циклопическими трубами на южной стороне Аркейля. В ранние осенние и зимние вечера они выбрасывали причудливые клубы ярко-красного и топазового дыма. Они походили, в зависимости от тяги и ветра, то на первобытные сигнальные костры, зажигаемые на вершинах дикими народами, то на костер или на потухшие вулканы, то на лохмотья сумерек, бенгальские огни или пламя пожара. Сотни окон создавали иллюзию замка волшебника, затерянного в глубине ланд. Стены содрогались от движения машин, слышны были гудение топок, звон наковален, падение больших молотов, крик людей; оттуда выходили запачканные копотью существа, с жесткими бородами и крепкими руками, люди огня и металла, с выступающими узлами мускулов на сильных руках и тяжелою поступью.
Чудовище пожирало горы угля и курганы кокса; холмики мелкого каменного угля, смешанного с пеплом и нагаром, являлись отбросом его пищеварения. Дым расплывался в небе фиолетовыми реками, рыжими или цвета графита водопадами, облаками, клубами, полосами. Он образовывал завесы черного тюля, ткал паутину и клочковатые кружева. В бурную погоду он зловонным, густым туманом окутывал деревья, ослеплял фасады. Он вечно напоминал о силе, неутомимой, нездоровой и разрушительной. Кузницы питались мясом рабочего. Мятеж не переходил мрачного порога. Люди, ковавшие железо и обжигавшие себе лица у пылавших горнов, склонялись перед хозяевами, их сердца были немы, их желанья немощны.
Эти кузницы заражали Франсуа лихорадкой. Их дьявольская деятельность, их хрипение и их содрогание пробуждали в его душе глухой энтузиазм. Он их и любил, и проклинал. Выйдя из поезда, он поджидал рабочих, подсчитывал их количество, оценивал их усталость. Среди них были революционные синдикалисты, но большинство были "лисицы" или "желтые". Марсан, Кребс и Комп. требовали десятичасовой работы и платили посредственно. Однако, они соглашались на высокую оплату рабочих искусных и щедро рассчитывались за сверхурочные работы. Там в полной мере развивалась деятельность Деланда: две трети "желтых" принадлежало к его группе; он соединил их в один синдикат, цель которого допускала большую гибкость действий и приемов. Завод Марсан и Кребс был центром его войска; он рассчитывал на него для группирования и прокормления лучших элементов своих приверженцев. Пропаганда Ружмона его возбуждала. И он тоже уже давно мечтал о том, чтобы покорить этот квартал.
Этот жилистый, сухощавый человек по темпераменту своему верил в индивидуальную энергию и в благотворное влияние препятствий. Его выводила из себя мечта о спокойном счастьи. Чувствуя себя более бдительным, способным и авторитетным, чем другие, он с самого начал стал на точку зрения беспощадной справедливости. Он проклинал лгунов, болтунов и сладострастников, многоженцев и пьяниц. Он считал всех нелюбящих работать, тратящих время на продолжительные и бесполезные речи, гоняющихся за женщинами и действующих сообразно обстоятельствам, – не достойными того, чтобы жить: судьба должна быть к ним беспощадна.
Его, пожалуй, не надо было особенно уговаривать, чтобы он стал поборником оскопления пьяниц, туберкулезных, рахитичных и других калек. С детства он проявлял цельность натуры и постоянство. Никогда работа ему не казалась наказанием. Он подходил к материалу и машинам с дрожью в руках и с мистической волей; он не верил в несправедливость хозяев и признавал их жадность злом столь же неизбежным, как голод и жажда. Но он не признавал за ними бесспорного авторитета: следовало одновременно жить в согласии с ними и их побеждать, принуждать их расширять производство и заинтересовывать рабочего в прибылях предприятия. Если у них нехватало предусмотрительности, или они оказывались слабохарактерными, – он их презирал.
Очень долго его понятия были смутны: им руководил один только инстинкт. Если бы у него не было счетов с революционерами, он, быть может, удовольствовался бы своей работой и, можно с уверенностью сказать, составил бы себе состояние. Несколько диспутов вызвали в нем раздражение. Он изучил социализм и политическую экономию, в нем выросла и укоренилась своя система: полный презрения ко всей теории, отделяющей хозяев от рабочих, он ненавидел иерархию классов и считал ее смешной; он видел во всем только поражение или победу личности: хозяева должны богато одарять людей искусных, искренних и энергичных; рабочий должен требовать справедливости, отказываться от работ, расслабляющих рясу, и участвовать в барышах предприятия.
Марсель Деланд представлял себе огромные объединения рабочих, ожесточенно разоряющих хозяев неумелых, беспечных или отсталых, и укрепляющих господство наиболее предусмотрительных. Подобное дело неосуществимо без закваски инициативы и оригинальности, которую создает надежда составить состояние и предписывать свою волю глупцам. Он соглашался, что коммунистическое общество может дать некоторое благосостояние, но полагал, что его система обеспечит рабочим и более скорое, и более полное благополучие.
Деланд защищал свою теорию с резкостью, которая увеличивалась от каждой новой победы синдикалистов. При этом он выказывал упорство и злобность, которые обеспечили бы революционеру избрание в депутаты.
Его работа была неблагодарна. Парижский рабочий революционер и скептик. И, сам скептик, он считает себя обманутым простофилей, если ему предлагают неопределенное решение. Впрочем, сильная организация парижских синдикатов казалась неприступной… Таким образом, Деланд не считал бесполезными их бдительность и воинственность: разве не добивался он сам восьмичасового рабочего дня и увеличения заработной платы? Он только хотел их вырвать из-под влияния Генеральной Конфедерации и антимилитаризма. Его энергия помогла ему собрать группу "желтых" и основать маленький еженедельный журнал. К нему примкнуло более четырехсот человек.
После приезда Ружмона жизнь механика была отравлена. Франсуа как бы незримо присутствовал, как бы являлся тайным свидетелем слов и поступков Деланда. При виде его, в крови Деланда пробуждались инстинкты зверские, почти смертоносные. Со всех сторон доносились до него известия об успехах противника. После того как он столько потрудился, чтобы образовать свою группу, в то время, как он с таким трудом вырвал людей из их безразличия, в то время, как ему приходилось непрерывно сызнова начинать свою работу, оживлять равнодушных, обращать изменивших, – другому достаточно было появиться, чтобы зажечь энтузиазм. Это была злоба человека сухого и упорного против тех, кто без труда сливается с чувством толпы. Разве победа красноречия не является величайшим оскорблением для организатора? Сколько раз думал он о том, чтобы выгнать вожака из мастерской Делаборда.
Его сестра, Христина, удваивала его энергию. Он любил в ней ту яркость убеждений и дар всепрощения, которые в других были ему ненавистны. Такая же упорная, как и он, с умом точным, ироническим и любознательным, она не знала ни его сухой ярости, ни долгими годами взрощенной и сгущенной ненависти.
Без сомнения, она была так же воинственна, как и сам Деланд, но она не боялась поражений, или, вернее, она чувствовала, что никакое поражение не будет окончательным. Но между ними была разница и социального характера. Он оставался рабочим по роду занятий и по всем своим привычкам, а она стала буржуазкой. Причиной этого был он сам.
Он вел жизнь бедняка, чтобы дать ей образование. Он гордился ее манерами, непохожими на его, ее знаниями, более гибкими, и жалел, что она опустилась до ручного труда, так как она упрямо захотела стать брошюровщицей. Гордая, полная чувства действительности, она знала, что диплом не дает никакого богатства. А она хотела богатства. Она хотела его из желания победить, она хотела его также ради удовлетворения своего идеала порядка и гармонии при создании мастерских, в которых она ввела бы метод, способный одновременно разрушить систему новейшего капитализма и положить предел росту коммунизма.
Встречи механика и Ружмона были редки. Они держали себя подчеркнуто вежливо, обмениваясь в высшей степени сухими фразами. Враждебность развилась в революционере непроизвольно. Хотя он и не любил таких жестких натур, волнуемых какой-то дикой жаждой деятельности, но он их переносил. Он ограничивался тем, что побивал их словами. Поведение Деланда его раздражало: он с досадой выносит полные ненависти взгляды, "отрывистую" и односложную речь его. Не будь Христины, он воспользовался бы своим словесным превосходством, чтобы унизить, посрамить этого гордого человека. Но она возбуждала в нем глубокий интерес: его приводило в возбуждение это очарование, которое производили на него исключительные для девушки энергия и ум.
Он встречал ее иногда у Гарригов. Она любила этих простых людей, следуя тому темному инстинкту предпочтения, неясность которого нас так смущает.
Ей нравилась необычайная наивность Антуанетты, нежность ребенка и даже сойка, живая, фантастичная и странная. Без сомнения, ей нравилась и сама квартира, чистая, всегда проветренная. Привычка взаимного общения пускала тысячу корней. Христина давала им советы в деликатных вопросах, касавшихся здоровья, оказывала им тысячу мелких услуг и следила за воспитанием Антуана.
Они горячо любили ее.
Возвращение Франсуа Ружмона внесло некоторую перемену в их отношения: визиты Христины стали реже и короче. Когда она появлялась, всегда несколько неожиданно, он как-то замыкался в самом себе. Все в ней было непредвиденно и опасно. Она приносила с собой таинственность мира и существ, все, что заставляет оленя грезить в глубине лесов, все образы, которые поют в искусстве и поэзии человечества. Франсуа не доверял ей. Однако, он не боялся любви. Он знал ее жестокость, но не знал ее прочности и ее мук.
Франсуа привык ухаживать за женщинами, которые с самого начала относились к этому снисходительно, и для которых страсть была не более, как эпизод. Таким образом, собственно говоря, на совести его не было ни одного обольщения. Все совершалось по прихоти неожиданно благоприятных обстоятельств. Эта девушка не походила ни на одну из случайных женщин, скрывшихся в водовороте дней. Она отдала бы себя, как приносят добровольный и светлый дар, и это было бы актом доверия с ее стороны. Она никогда не поддалась бы обольщениям; она отдалась бы только после долгих и упорных увещаний и, без сомнения, согласилась бы только на брак. Это было для Ружмона делом неподходящим; поэтому, он мог спкойно наслаждаться очарованием ее присутствия.
Они иногда спорили. Он делал это осторожно, стараясь ее не рассердить; тем не менее, она сердилась; это был гнев мысли, улетавший вместе со словами, но не гнев души. Они не сходились ни в чем; у них не было ничего общего, кроме их оптимизма и интереса, страстного до мании, к будущему обществу. Оба никогда не думали о своей собственной смерти, еще меньше о вырождении и гибели человечества. Если им и приходилось об этом думать, то они делали это украдкой, с легкостью детей или дикарей. У них было также то преимущество, что они плохо знали свою собственную душу. Их "я" плавало в бессознательном, как плот в Атлантическом океане. Их мысль, как это и подобает вожакам, государственным людям, переносилась на других, они в этом специализировались, так как им было необходимо изучить человеческие элементы, проявляющиеся в социальной психологии.
Франсуа был типом политика и духовника; Христина, по характеру своему, была более склонна учреждать рабочие ульи, чем синдикаты. Будучи человеком толпы и, вместе с тем, одиноким создателем, он не смог бы ни организовать, ни использовать крупное промышленное предприятие, тогда как она, не чувствуя призвания к роли трибуна и оратора, умела управлять работой и знала во всех его тонкостях механизм производства. Более снисходительная, чем брат, к неспособным и немощным, нерешительным и даже алкоголикам, она безумно привязалась к иерархии способностей, ей хотелось, чтобы эта иерархия была отмечена собственностью и властью.
Высказав случайно это убеждение, она встретила возражения со стороны Франсуа. Помимо их воли завязался спор. Будучи более резкой, Христина примешивала к своим аргументам презрение, горечь, сарказм; она высказывала глубокое презрение к тем, кто мечтает о спокойствии, безопасности и, в сущности, о счастии.
Вернувшись однажды неожиданно домой, Франсуа застал Христину, об'яснявшую маленькому Антуану картинки какой-то книги. Приятный аромат чая носился над столом. Шарль Гарриг просматривал брошюру – "Красная перевязь"; старая Антуанетта, по обыкновению, бродила по комнатам. На всем лежала печать невыразимого очарования. Франсуа поздоровался почти шопотом и опустился в кресло, чтобы насладиться зрелищем. Сойка дремала. Слышен был только голос молодой девушки, рассказывавшей ребенку историю одного потока. Она увлекала маленького Антуана на облака, на вершины гор, к подземным озерам, к глетчерам, источникам, ручьям, потокам, озерам и топям. Она рассказывала ему о разрушающихся горах, о глыбах, сталкиваемых бешеными потоками и превращаемых в валуны, булыжник, песок, глину; она сопровождала поток в его беге через леса, луга, кустарники, вплоть до ревущей пучины моря. Так как она тонко чувствовала природу, то находила свежие и простые легенды, которые запечатлевались в воображении ребенка. Он сидел, прижавшись к ее теплой юбке, чувствуя легкое опьянение от красоты Христины, и Франсуа, внимательно прислушиваясь к ее словам, умилялся. Призрак счастья стоял подле него, призрак неуловимый, готовый исчезнуть при малейшем дуновении. И коммунист невольно связывал его с Христиной. Никогда он не ощущал так ясно присутствия женщины. Тело Христины казалось таким же здоровым, как и прекрасным, кровь в ее жилах должна была быть по качеству равной румянцу щек, огню взглядов, перламутру маленьких зубов.
Он еще лишний раз пожалел, что она не революциюнерка. Он предвидел положение, когда она перестанет одиноко бродить среди толпы. Однако, по своему назначению он презирал семью: вдохновитель восстаний, сторонник размножения вообще, он видел в семье приманку, мираж мертвого общества. Одно материнство казалось ему естественным: по его мнению, ему суждено широкое распространение в новом обществе, жизнь в котором будет легка, в котором каждый ребенок найдет кров, пищу и заботливый уход. Но отцовство, искусственное, эгоистическое и вредное для будущего, но семья с ее детьми, с узкими инстинктами и жалкой солидарностью не должны получить санкции и, вообще, не должны пользоваться никакими привилегиями. Без сомнения, общество будущего не станет восставать против длительного союза мужчины и женщины; оно ограничится игнорированием такого союза; оно не будет признавать никаких обязательств ни мужчины к женщине, ни женщины по отношению к мужчине, никакого права детей или родителей. Противница развода, как гибели брака, противница обогащения по праву наследования, Христина, тем самым, предоставляла семье трудную роль.








