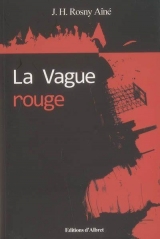
Текст книги "Красный вал [Красный прибой]"
Автор книги: Жозеф Рони-старший
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
После короткой паузы Ружмон сказал:
– У вас, кажется, имеется переплетная мастерская? Я ничего не имею против того, чтобы приходить туда иногда, но вообще я работаю на дому и, кроме того, я должен предупредить, что бывают периоды, когда на меня рассчитывать нельзя.
– Ничего не имею против. Нам важно только знать, что вы можете нам дать в две недели?
– Мне кажется, что самое важное, чтобы я хорошо исполнял работу – сказал вождь, улыбаясь, – вы еще не знаете, может быть, мой первый же переплет у вас окажется никуда негодным, хотя по существу я знаю свое дело хорошо.
– Отлично сделаете, – воскликнул Делаборд, ненавидящий все пессимистическое, – человек, который переплетал Рабле, Монтефиере, переплета не испортит. А теперь не хотите ли взглянуть на мои мастерские, потому что вы знаете, что я в себе совмещаю и издателя, и типографщика, и переплетчика. Да, я создал нечто, чем могу гордиться.
– Не вы одни, все это создали, – возразил Ружмон больше по привычке во всех вопросах становиться на революционную точку зрения.
– Как это не один? – закричал Делаборд и даже запрыгал от негодования, – кто же это по вашему мне помогал?
– Хотя бы машинисты, наборщики, переплетчики, граверы, иллюстраторы.
– Ах, вы про этих, – с презрением усмехнулся Делаборд. – При чем они тут; да ведь каждый из них знает только один свой винтик в общей машине… и какой машины, другой такой нет во всей Франции. Нет, это просто смешно. Да знаете ли, что я плачу рабочим высшую ставку. Художники-переплетчики составляют себе здесь у меня имя. Граверы и иллюстраторы, работая у меня, работают и на себя, потому что, кроме высокого гонорара, через посредство моих изданий они имеют громадную рекламу. О нет, это дело моих рук, моего ума и воли моей. Отрицать это-то же, что отрицать, что мое тело – это мое тело, на том основании, что ему, чтобы существовать, необходимы продукты питания, одежда, воздух, кров. К тому же вам известно, гражданин, что я трижды раззорялся. Да, я потерял четыреста тысяч франков, эксплоатируя народ, как это вы изволите называть на вашем наречии. И сейчас еще я не знаю, на пути ли я к тому, чтобы составить себе состояние, или, напротив, поплачусь своей грязной шкурой буржуя. Идем смотреть "мои" мастерские.
Они снова очутились на той же галлерее, откуда с высоты птичьего полета, Франсуа видел этот улей Бульвара Массенэ. Галлерея была окружена перилами светлого дуба. Вдоль стен в просторных шкафах стояли мириады томов, тут их были тысячи, сотни тысяч. Делаборд указал на них, точно священнодействуя. Потом, закручивая кончики своих прокуренных усов, воскликнул:
– Это житница. Взгляните вниз: там пашут, сеют, жнут.
В глубине зала вращались два огромных колеса, широкий безконечный ремень, источник их жизни, тянулся между ними. Другие ремни, слегка вздрагивая, бежали к маленьким прессам, все кружилось, поднималось, опускалось, кусало, дрожало, резало, проглатывало, и это было то чувствительное и могучее чудовище, которое называется машиной. Первое впечатление было чего-то хаотического, и только постепенно Франсуа понял, насколько все это было строго закономерно, насколько каждый маленький винтик был связан с общим механизмом. Взгляд его с машин и большого пресса перенесся на ряд маленьких прессов, уставленных под одной из сторон галлереи. За этими прессами, на известных, определенных расстояниях работали накладчицы листов.
– Вы смотрите на мои маленькие прессы? – спросил Делаборд и продолжал:– на них я печатаю исключительно роскошные, художественные издания. Они так совершенны, эти маленькие, что в их печати, даже под микроскопом не найти ни одного дефекта. На этих машинах печатаются все издания, на которых мы проставляем мою марку: золотой сверчок или ящерицу зеленой бронзы. Все остальное печатается на большой машине, которая, так сказать, служит у нас одной прислугой. Она тоже очень совершенна, но все же, благодаря большому диаметру, в ней не может не быть кое-каких неточностей, для глаза профана, конечно, незаметных.
Ружмон еще раз посмотрел на эти малые машины, за которыми работали молодые, аккуратно причесанные накладчицы листов, с золотыми сверчками в волосах. Потом взгляд его остановился на рыжем геркулесе, распоряжающемся обрезкой бумаги, на наборщиках, на тощем механике. Последний вертелся, как волчок: то, как ястреб, впиваясь в машину глазами, то, как на добычу, налетая на нее с щипцами или отверткой. Челюсти и подбородок его выдавались, как гористые острова. Цвет лица у него был шафрановый, борода черна, как деготь, руки – фокусника или ловкого мошенника.
– Это ваш машинист? – спросил Франсуа, заинтересованный этой подвижной фигурой.
– Помощник старшего мастера, Марсель Деланд, человек невероятной активности, удивительно прямой и здравомыслящий.
– Ну, конечно, – воскликнул агитатор и засмеялся, – ведь, это один из ваших водолазов.
– Таких водолазов среди рабочих было бы много больше, если бы они могли понять, в чем именно должно быть их благополучие, и где они должны его искать.
Ружмон ничего не ответил. Он вдруг увидел у окна, под зеленой ящерицей, в рядах брошюровщиц золотистую головку. Он сразу узнал эту смелую и чувственную линию шеи, эти глаза сицилианки или испанки. Рука молодой девушки пронзала иглой листы тем же сухим точным движением, каким брат ее работал щипцами.
– А, – засмеялся Делаборд, – теперь вас заинтересовала сестра. Они стоят друг друга. Здоровая, хорошая семья. Ловкие, золотые, неутомимые руки. Она может изучить хоть тридцать шесть ремесл, и все она будет знать в совершенстве.
– Жажда наживы?
– На деньги не плюет, знает им цену. Но Деланды не из скупых, они умеют и давать.
– Тоже эксплоататорские замашки, – грубо сказал Ружмон.
– Как и у меня. Они умеют направлять и использовать человека. Составит ли себе Марсель состояние – я не знаю, он уж очень увлекается политикой. Что же касается сестры его, то я не сомневаюсь. При всем этом она хорошо образована, и вкус у нее есть. Посмотрите, что она выделывает из этого хлама, ведь, это самые простые переплеты, а, между тем, как они хороши.
В голосе Делаборда Ружмон чувствовал ту особую вибрацию, которая говорит о старческом увлечении. Все жилки на щеках его при этом вздувались, веки дрожали, вздрагивал нос, и в глубине рыжих глаз его пылал сладострастный огонь. Это почему-то взбесило Ружмона, он оборвал разговор и уже молча следовал за Делабордом.
Они проходили около большой машины. Это чудовище пожирало и выплевывало листы однообразным, неустанным движением. Делаборд посмотрел на нее свысока.
– То ли дело маленькие, – сказал он, – точно бабочки машут крыльями. – Он подошел к одной из маленьких, у которой работала девушка-подросток. Машина деликатно хватала подсунутый девушкой лист, сверху падала рама и таким же движением снова поднималась, в то время как девушка ловким движением подхватывала уже печатный лист и подсовывала чистый.
– Как работает-то! – восторгался издатель. – Чисто, каждая буква сохраняет свой характер, и как мягко нажимает, совсем не скребет бумаги.
Он с чувством рассматривал бегущие по ровным линиям буковки, рисунки, врезающиеся в текст и набегающие на поля. Вдруг ему попался один неудачный лист, он с досадой отбросил его и сказал:
– Одна у меня есть слабость: на хорошую бумагу скуп. Мне больно, когда пропадает лист такой хорошей бумаги, как эта, ведь, это веленевая, она тоньше голландской, но хуже японской, для печати высший сорт.
Накладчица приостановила работу и посмотрела на обоих мужчин. Глаза у нее были табачного цвета, разрез узкий и длинный, в них была какая-то таинственная нега и беззаботность, щечки у нее были детские, свежие и с налетом загара, рот какой-то ленивый. От этой девушки веяло сладострастием; конечно, ей не избегнуть преждевременных порывов страсти, которые так часто губят прекрасные цветы полей, девушек из народа. Но в жизни она не пропадет, несмотря на всю свою легкомысленную беззаботность. Потому что ее расплывающаяся, очаровательно-аморальная душа, чуждая всяких чувств, даже чувства ревности, даст ей возможность перепархивать с одной любовной связи к другой.
Она прищурила глаза так, как это делают близорукие, зная, что действует на мужчин, потом воскликнула:
– Ого, да это молодец с красивой бородой, что так красно говорил в кабачке "Дети Рошаля".
Она посмотрела на него с томным вызовом. Он подумал, что эта хорошенькая маленькая самка заставит не одного молодого с горячей кровью рабочего забыть свою ненависть к буржуазии. Она даст ему безвозмездно столько наслаждения, что он и завидовать буржуазии не будет. И даже тогда, когда она его бросит, он станет искать ее образ в толпе других работниц – так сильно будет обаяние, отрава ласк ее.
Любовные увлечения, особенно увлечения легкого характера, были всегда противны синдикалисту. Такая любовь слишком индивидуальна, она боится всякой коллективной мечты, коллективных чувств, она живет моментом.
– Он самый, – сказал Ружмон и не мог не улыбнуться этой аппетитной красотке.
– И мастер же вы болтать. Я как-то в суде была, свидетельницей по делу Софьи Бушерон вызвали, там адвокат говорил, и знаменитый адвокат, так вот он не лучше вашего болтал и сочинял. А вы точно сами этими своими историями увлекаетесь.
– Увлекаюсь и хочу увлекать ими других, для их блага стараюсь.
– Для их блага, ну, это вы врете, как сапожник. Прежде мир перевернется, чем исполнится все то, что обещают такие, как вы. Мне на это все начихать, я только верю в удачу и неудачу. Кому кирпич на голову должен упасть, тот его получит.
Она вдруг замолчала и посмотрела на Делаборда. Не то что бы она его боялась, но все же он был ее хозяином.
– Я заболталась, – сказала она, – простите.
– На этот раз сойдет, – сказал Делаборд, – но чтобы это не повторялось, Жоржетта,
– Я ведь только к тому, чтобы сказать, – поспешно заговорила она, – что с катастрофой в Жентильи еще не кончено. Все еще не откопали тех, что завалило. И не знают даже, живы ли они еще. Хоть и говорят, что как будто, один отвечал на сигналы. Если и выудят их оттуда, то все же не раньше, чем через шесть, семь часов.
Она почти совсем закрыла глаза, и они чуть светились, необ'яснимо чаруя.
– Я это к тому, – закончила она, поворачиваясь к своей машине, – что, если вам хочется еще проповедывать народу, то там его еще много.
– Благодарю, – сказал он, – непременно воспользуюсь.
– А мне так очень хотелось бы их видеть живыми или мертвыми, – сказала она так, как будто ей предстояло с'есть что-то вкусное.
Она облизнула рот своим тонким язычком и пустила в ход машину. Делаборд и Ружмон пошли дальше.
– Ну, эта никогда не будет революционеркой, – весело сказал Делаборд.
– Не будет, – с оттенком презрения в голосе сказал Франсуа, – революция разврату не на-руку.
– Она не развращеннее других. Если вы будете мекать своих адептов среди монашествующих, вы вашей революции не скоро дождетесь. Все эти девушки любят любовь и легко даряг свои ласки.
В этот момент какой-то неистовый голос закричал:
– Мерзавка, сволочь, негодяйка! На этот раз ты вылетишь у нас.
Это кричал Деланд на одну из работниц с шершавым, потресканным лицом. Ее желтые хитрые глаза так и бегали, она поджала свои потрескавшиеся губы, ее волосы были похожи на красную шапку, от них шел запах дешевой помады. Худая, угрюмая, с синими ногтями, она издала нечто в роде свиста.
– В чем дело, Деланд? – спросил издатель.
– Дело в том, что я только-только успел выдернуть из-под машины ее руку, еще секунда – и рука была бы раздроблена, и ей бы удался этот маневр.
– Какой маневр? – спросил Ружмон.
– Рентный! – сардонически крикнул Деланд. – Вот уже неделя, как я это подозреваю… так по всем ее повадкам видно было. И хотела и не решалась, не так-то и легко, хуже, чем зуб выдернуть.
– Это неправда, он врет, – завизжала женщина. – А ты сыщик.
– Неправда? Да стоит только взглянуть на твое лицо. Меня не проведешь. Да я знаю, как это делается, по движению руки знаю, когда это делают нечаянно, а когда нарочно. Ну-ка посмотри мне прямо в глаза и скажи, что ты не нарочно совала руку под машину.
Он пронзал ее желтые зрачки своими строгими повелительными глазами. Голова женщины закачалась, она плюнула на пол и закричала:
– Я плюю на пол только потому, что здесь наш хозяин, а то плюнула бы тебе прямо в рожу!
– Не посмела бы.
Ружмон смотрел на Деланда с неприязненным любопытством. Инстинкт вождя говорил ему, что Деланд не ошибся. Но, несмотря на то, что и женщина казалась ему хитрой и негодной, он все-таки жалел ее. Если в борьбе с буржуем допустима всякая уловка, как можно осуждать эту несчастную женщину, которая хочет купить себе жалкую ренту такой дорогой ценой.
И он сказал:
– Как вы можете взводить обвинение с такими малыми доводами. Какое вы имеете право судить даже не за поступок, а за предполагаемое вами намерение совершить этот поступок?
Деланд обернулся к Ружмону, и его глаза так же остро впились в него, как впивались в машины.
– Я ее знаю, а когда я знаю человека или машину, я знаю, что она может дать.
– Вы неправы, – едко возразил, Франсуа. – Пусть человеческие поступки так же определенны, как движения машины, но вы забываете, что машину пускает в ход человек, и для того, чтобы судить эту женщину, вам надо быть настолько же выше ее интеллектуально, насколько она выше этой машины.
– Совсем этого не нужно. Достаточно того, что я могу судить ее по прежним поступкам. Да посмотрите на нее, если вы физиономист, вы не можете со мной не согласиться.
– Я не стану на нее смотреть, потому что не сужу никого по виду. Всякий порядочный, честный судья отлично знает, что по виду судить нельзя.
Он говорил с горячностью, но в глубине души все больше убеждался, что женщина виновата. Она слушала со вниманием лукавого зверька. Она как-то извивалась и ежилась, не то, как белка, не то как куница. Отвратительная улыбка обнажала десны ее зубов.
– Да, я это знаю так же хорошо, как и господа судьи. И тем не менее я утверждаю, что, если вы умеете разбираться в характрах, вы не проработаете и недели с этой женщиной: вам станет совершенно ясно, что она такое, и что можно от нее ожидать.
Он резко вздернул плечами, его живое лицо вдруг сделалось каменным, и он сказал совершенно спокойным голосом:
– Наш патрон рассудит сам, я только сказал то, что считал своим долгом сказать, а затем я умываю руки.
И он кинулся к ближайшей машине. Делаборд обратился к женщине:
– Вы слышали, Элиза, – сказал он, надувая щеки. – Вы, видно, сами себе враг, и боюсь, что рано или поздно сыграете с собой какую-нибудь злую шутку.
– Что он врет, что я хотела себе лапу разможжить! – захныкала она. – Это клевета.
– Остановите вашу мельницу. Слушайте, даже если он зря вас осуждает, он ведь все-таки спас вашу руку, которая была бы вдребезги разбита. А за это вам надо быть ему очень и очень благодарной. Ну-с, за работу и помните, что за вами наблюдают и, если вы с вашей лапой попадетесь, вам не дадут никакого возмещения, ни франка не дадут.
И он повел Ружмона дальше, продолжая ворчать:
– Вы, конечно, понимаете, что мне на это наплевать, потому что я, конечно, застрахован. Но платится страховое общество. Это Деланд разыграл сторожевую собаку просто инстинктивно. Как сторожевой пес, он и с вами разговаривал, от вас же так волком и несло.
– Это верно, – согласился Франсуа, улыбаясь, – если он собака, то я, конечно, волк.
Они входили в брошюровочную мастерскую, когда из большой стеклянной клетки, где, склонившись над конторками, сидели двое плешивых мужчин, вышел молодой человек.
– Мосье, я по поводу счета Ларош… все оспаривают наши цифры.
Ружмон вспомнил, что видел это лицо, в кабачке "Дети Рошеля". Грифельные глаза этого юноши смотрели с доверчивостью молодого щенка.
При виде синдикалиста он вспыхнул, как мальчуган. Делаборд не обратил на это внимания и сказал:
– Наши цифры правильны, Бессанж, и надо их отстоять.
– Слушаю, – ответил тот, не сводя глаз с Франсуа. "Хорошая почва для пропаганды", подумал коллективист.
Он улыбнулся юноше, "как своему брату". Какое впечатление произведет эта улыбка, он уже знал по богатому прежнему опыту.
Они вошли в брошюровочную мастерскую. Вокруг длинного стола, в серебристом свете овального окна, женщины и молодые девушки складывали, собирали и прошивали листы. Шелест бумаги, ее белизна, красивые иллюстрации придавали этой мастерской какой-то нарядный, праздничный вид. Работницы пели, то была песня парижанок, обрывающаяся, тихая. Там, где итальянки смело взяли бы в терцию, они старались только петь в униссон. Они пели: Как вы прекрасны, О ангел мой белокурый?
И это было сладко, нежно и трогательно. И в голосах этих женщин слышалась страсть, любовь, неугасимая жажда счастья и все то неуловимое и захватывающее, чего так жадно ищет человек ощупью в этой всемирной игре в прятки. Среди этих женщин красивых было две: Христина и другая высокая, похожая на молодую лошадку, с глазами распутными, но прекрасными и со ртом, похожим на пион. Остальные работницы были невзрачны, у них были короткие талии, лица наглые, или тупые, но у всех прекрасные волосы. Это были все больше молодые девушки и женщины бледные, но свежие, улыбка то и дело озаряла их лица, по губам скользила мечта, зарождая порыв к идиллии. К плебейскому запаху трудового пота примешивался одуряющий аромат молодого тела, пахло женщиной.
Все свои сокровища к вашим ножкам кладу.
Вы так прекрасны и хороши.
Они не сразу перестали петь. Они пели не без игривости и не без лукавства. Они замолкли постепенно, послышались смешки и шопот, – наконец песня оборвалась совсем, и кое-кто из девушек слегка повернулся к вошедшим мужчинам. Только высокая, похожая на молодую лошадку, прямо уставилась на Ружмона и заявила:
– Вот это так красивая борода.
Она фыркнула, как бы глотая свой смех, когд Делаборд сказал:
– Эвлалия, индюшка ты этакая.
И по всей зале зашуршал смех. Потом все сразу затихло, слышно было только дыхание, шелест складываемой бумаги и звук пронзающей бумагу иголки.
Делаборд остановился около Христины. Красавица была вся залита ярким светом, и в этом свете кожа ее была нежна, как бледно-розовый цветок шиповника, глаза ее меняли оттенки, смотря по повороту головы и соответственно движениям век. Ее чудные волосы производили впечатление какого-то богатства природы, великолепия, чего-то беспредельно прекрасного и даже грозного. Как и говорил издатель, это была сама "стройность", все у нее, все в ней, до платья включительно, было одно к одному.
Даже Франсуа, который рассматривал ее критическим взглядом, не мог этого отрицать. Это была прекрасная дочь народа, но уже немного отшлифованная. Будь черты лица ее тоньше, в ней не было бы этой свежей прелести полей.
Она на секунду остановила работу и на поклон агитатора ответила кивком головы. Щеки Делаборда заколыхались, и это волнение возмутило Франсуа: у него не было никакого снисхождения к любовным чувствам стариков; ему не приходило в голову, что это одна из величайших драм жизни; он презирал, потому что он не чувствовал, насколько это трогательно и вместе с тем жалко. Несмотря на то, что ему было уже тридцать три года, он не мог себе представить всего ужаса того момента, когда перед стареющим человеком опускается завеса на мир, вчера еще полный радужной мечты и ярких переживаний, и он лежит, как Иов на своем гноище. Он еще рвется к жизни, полет воображения все также неукротим, но жизнью он уже отброшен. Ему старческая любовь казалась гнусностью и мерзостью. Он не делал даже исключения для стариков полных сил, могущих дать несравненно лучшее потомство, чем тысячи молодых неврастеников, алкоголиков, страдающих туберкулезом и экземами всякого происхождения.
– Мадемуазель Деланд, – сказал Делаборд, – к сожалению, вы единственная, которой я должен сделать замечание за то, что вы работаете слишком усердно. Вы утомляетесь.
– О, нет, если бы я почувствовала утомление, я бы отдохнула.
Она прибавила с легкой улыбкой:
– И отдохнула бы без всякого угрызения совести, потому что я знаю, что обязанности свои я исполняю.
– В ваши обязанности вовсе не входит злоупотреблять своим здоровьем и силами для того, чтобы "установлять рекорды" на пользу патронов, – заметил язвительно Франсуа.
Она повернула к нему свое счастливое и смелое лицо.
– Подобный узкий взгляд на вещи не способствует развитию энергии и инициативы в работе. Каждый работает по своим силам и способностям. Можно помогать слабым, если они в том нуждаются, но из этого не следует, что нужно быть слабым, – сказала она и гордо прибавила:
– Впрочем, я, лично, работаю не по часам, а сдельно. По-моему это самое правильное, это позволяет продавать свой труд по надлежащей цене.
– Вы забываете о машинах, – насмешливо возразил Ружмон. – В будущем работать будет одна машина, человек же будет состоять при ней в качестве контрольного аппарата.
– Я ничего не забываю, но это все-таки неверно. Для человека умного и энергичного, одаренного работа всегда найдется и помимо изображения им из себя контрольного аппарата при машине.
– Такая работа найдется для одного на тысячу. Успокойтесь, машина произведет то всеобщее уравнение, которое так вас пугает.
– Не произведет.
– Вам никогда не приходилось бывать на больших фабриках?
– Я знаю, что вы сейчас скажете: разделение труда? Этот аргумент недостаточно убедительный, обманчивый.
Она засмеялась:
– Надеюсь, вы не думаете, что я могу его опровергнуть в трех словах.
Она снова принялась за свою работу. Делаборд слушал этот диалог не без чувства внутреннего удовлетворения. Он был доволен, что вот уже второй раз синдикалист получает отпор. И, направляясь в наборную мастерскую, он сказал синдикалисту:
– Неужели у вас хватит смелости сравнить эту прекрасную девушку с ее окружающими: она среди них, как роза на огороде. Где бы она ни очутилась, всюду она будет выделяться. Она, и ей подобные, всегда будут на особом положении, и так во веки веков.
Ружмон презрительно улыбнулся, но ничего не ответил. Они вошли в наборную. Здесь машины и приспособления для работ были и старого и нового образца; часть наборщиков выуживала буквы и набирала руками, на клавиатуре наборной машинки играл наборщик в очках.
– Мне эти машинки противны, – заявил Делаборд. – В них есть что-то неблагородное. У меня культ ручного набора.
Он остановился около маленького человечка с большим распухшим носом и ярко красными прыщами на лбу и в волосах. Глаза у него были тусклые, дрожащие руки выдавали алкоголика. Он только что закончил набор слова, когда Делаборд его окликнул:
– Э, мой милый, Верье, вы опять пьяны?
Наборщик горячо возразил:
– Я только одну рюмочку, для аппетита.
Весь он был какой-то жалкий, опустившийся. Кроме страха остаться без места, он уже ни о чем и не беспокоился и не заботился, а если на него и находило смутное беспокойство, он топил его в вине. Если нельзя было бежать в кабачок, у него всегда имелась бутылочка в запасе, припрятанная где-нибудь здесь у наборного станка, и эта бутылочка была его убежищем, его мечтой, его радостью.
– Ах, Верье, – воскликнул Делаборд, и в голосе его прозвучала какая-то нежность. – вы летите в пропасть, вы обратитесь в тряпку, будете таскаться из больницы в больницу, в глазах запрыгают чортики, вы плохо кончите, мой милый Верье, и мне очень жалко.
Он трепал свою бороду обеими руками, его толстые щеки трепетали, искренняя нежность светилась в его глазах.
– Я готов сейчас дать тысячу франков тому, кто излечит вас от этого недуга. Когда я подумаю, что вот уже восемнадцать лет, как мы с вами работаем вместе… И каким прекрасным вы были наборщиком, можно сказать художником своего мастерства. Поручать вам самые тонкие, трудные работы было одно удовольствие. Вам на ошибки указывать не приходилось, вы сами знали, какова должна быть красивая страница. У вас это было в крови. Теперь вы и в половину не оплачиваете свою ставку. Вы работаете медленно, но все это было бы еще ничего, если бы вы к тому же не саботировали так бессовестно…
Пьяница смотрел на него своими мутными глазами, в которых по временам вспыхивал болотный огонек.
– Слушайте, чорт вас возьми, – ударив по колену кулаком, продолжал Делаборд – почему вы не пьете вино, прекрасную кровь земли?
– Я пью вино, – промямлил наборщик, – и хорошее.
Все наборщики прекратили работать, замолчала и машинка. Тихонько, на цыпочках, подходили накладчицы. Гигант – рыжеволосый Альфред, и тот уставился на наборщика.
– Вино, – насмешливо сказал Делаборд, – это вы пьете только за обедом, все же остальное время тянете горькую. Да вот я держу пари, я готов заплатить всей мастерской дневной заработок, если где-нибудь здесь не найдется припрятанной бутылочки этой отравы.
– Головой детей своих ручаюсь, что нет никакой припрятанной, – клялся Верье.
– Сейчас увидим.
Делаборд пошарил опытной рукой в ящиках, и вытащил отпитую на половину бутылку абсента.
– Вот она, – сказал он.
Наборщик покачал головой, как лошадь и, подняв дрожащую руку, сказал:
– Как же это, вот уже не могу понять, откуда она взялась. Хоть убейте, а я ее сюда не приносил.
– Так кто же ее принес?
– Почем я знаю, кто-нибудь подшутить хотел.
Делаборд вспыхнул от гнева, но гнев этот прошел прежде, чем он успел сказать слово, и он с глубокой нежностью и грустью проговорил:
– Несчастный старик.
И он поторопился уйти отсюда, совершенно забывая похвастать тонкими наборными приспособлениями и еще раз выругать ненавистную ему линотипную машинку.
– Ну вот, скажите мне, – сказал он, провожая агитатора. – Что может дать ваш социализм этому несчастному алкоголику?
– Алкоголизм создали капиталисты, социализм его уничтожит, – ответил Франсуа.








