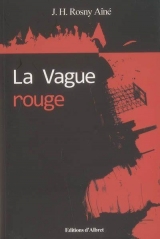
Текст книги "Красный вал [Красный прибой]"
Автор книги: Жозеф Рони-старший
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
– Надо его убить!
Это была та упаковщица, которую Делаборд однажды утром застал за фабрикацией "несчастного случая". Она повернула к Делаборду лицо цвета желтой бумаги, глаза мертвеца, полные сухой ненависти. Пена выступила в углах ее рта.
– Мерзавец! И к тому же коварный!.. Он из тех людей, у которых вид добряков, но которые на самом деле хуже всех! Они дают два су, чтобы иметь возможность украсть десять франков; они мило вам улыбаются, чтобы ударить вас сзади, и потом они же еще обвиняют бедных людей… Бейте его! Он только этого и заслуживает.
Она оцарапала его ногтями. Кровавый след избороздил лоб Делаборда. Упаковщица, подняв свои желтые руки, в позе старой кошки, выла и плевала от бешенства.
Эта сцена подействовала на Ружмона… Стыдясь своего поведения, он появился перед толпой, готовый наброситься на нее с упреками. Но он не успел это сделать, показалась женщина с крылатой походкой победительницы. Она испустила громкий крик, и рабочие, подняв голову, увидали пламенную шевелюру и сверкающее лицо Христины. Она подбежала к Делаборду:
– Ах, подлые!.. Ах, подлые!
Она отбросила упаковщицу и, устремив на толпу сверкающий огонь своих глаз, заговорила:
– Какой позор! Как вы, Альфред, вы, которого я считала таким мужественным и честным, как вы могли допустить эту подлость? И вы, Бергэн, семье которого он так часто помогал? И вы, вы, жалкий Верье! Ведь, он вас держал целых пятнадцать лет, хотя вы работаете не больше ребенка! И вы, Дюшаффо, чьи долги он заплатил… И вы, Бюрга, которого он взял из сострадания. О, я не хотела бы быть на вашем месте! Я презирала бы себя!
Альфред, совершенно бледный, не способный ответить ни одним словом, опустил голову, Бергэн тупо ухмылялся, Дюшаффо свистел с ошалелым видом; Верье спрятался. Бергэн ответил с наглостью:
– Так что же? Я ударил… за себя и за других. Может быть, мне его нужно благодарить?…
– Разорвать ее! – выла упаковщица. – Это грязная девка! Это соломенный тюфяк хозяина!
Громовой голос пронесся над толпой:
– Вы делаете ошибку, товарищи!
Появился Франсуа Ружмон. Он был страшно бледен. Он с жалостью смотрел на несчастное, старое исцарапанное, лицо, по которому еще текла слюна. Унижение становилось победой. А он, Франсуа Ружмон, в силу обстоятельств, должен был завершить свое собственное поражение.
– Вы делаете ошибку, – повторил он хриплым голосом. – Это насилие не только не полезно для вашего дела, око вредно. Вы можете достигнуть победы только сознательным сопротивлением, обдуманной волей, но никак не поступками, которые являются отрицанием самой идеи синдикализма.
Он говорил, не думая, предоставляя фразам следовать друг за другом, в зависимости от автоматической ассоциации, он был весь полон безграничного отвращения. И, однако, его слова сохраняли тот оттенок искренности, благодаря которому они покоряли толпу. Они пробуждали раскаяние в сердце Альфреда, они будоражили души Дюшаффо, Бергэна, Верье и других, они трогали даже Бюрга, который, медленно склонив свою голову, мужественно скрестил руки на груди; они очаровывали женщин и подействовали даже на оборванцев.
Франсуа не видел никого, кроме Делаборда и Христины. Она взяла типографа под руку, она его поддерживала, как дочь. А он, еше бледный, еле держащийся на ногах, постепенно выходил из своего остолбенения; он не сводил с сиявшего негодованием лица Христины взгляда, полного обожания, он был наполовину в царстве грез, в котором смешивались страх и счастье. Когда он понял, что забастовщики успокоились, он глубоко вздохнул и вытер щеку платком. Затем его охватил внезапный гнев:
– Вы можете гордиться тем, что вы гнусные скоты, – залаял он странным голосом, голосом, выходившим, казалось, откуда-то изнутри. Я вас принял с полным доверием, совсем один… больной… не приняв никаких предосторожностей. Какие свиньи! И какие подлецы! И вы хотите, чтобы ваше положение улучшилось? Ваше положение слишком хорошо для ваших грязных душ… ваших обезьяньих душ…
Христина уводила его. Он покорился. Он бормотал, он качался, он размахивал своей свободной рукой. Дойдя до верхушки большой лестницы, он закричал, наклонив свое багровое лицо к толпе:
– Я клянусь… я клянусь своей честью, что никто из присутствующих здесь не будет принят мною обратно на работу. Никто! Вы слышите, никто, никто!
И на пороге своей конторы, снова обретя свой резкий голос, он крикнул.
– Убирайтесь тотчас же… или я позову полицию!
– Мы уйдем, но не раньше, чем разнесем твое грязное логовище, – промычал Мешап-Высокое Плечо.
– Нет, товарищи, – серьезно сказал Ружмон, – вы не совершите новых насилий. Достаточно вы уже скомпрометировали стачку, которая была прекрасна, справедлива и которой был обеспечен успех. Рабочие печатного дела еще более других, быть может, должны подавать пример рассудительности и сознательной дисциплины. Вы забыли это! Не забудьте же это вторично, против вас будет общественное мнение… вы позднее сами упрекнете себя за это. Уйдем отсюда, товарищи!
На его лице отразилась горькая печаль; его голос звучал так патетично, что вызывал слезы на глазах женщин. Все покорились иллюзии симпатии, необыкновенной любви к их делу. Альфред не мог удержаться, чтобы не сказать:
– Это правда, мы плохо поступили… надо было поговорить и уйти.
– Это Бюрга виноват!
– Виноваты вы все, и меня это приводит в отчаяние!
Франсуа Ружмон бежал вдоль взрытых холмов. Это было бегство побежденного. У него было к самому себе страстное презрение и глубокое сострадание. Он понял своей душой оптимиста беспорядок, вечную угрозу, бесчисленные ловушки, которые пессимист открывает в глубине обстоятельств. Он снова и снова видел перед собой худую и грязную женщину, царапающую своими ногтями Делаборда, и тот луча света, появившегося, чтобы его освободить. Как завидовал он старику! Какое для него было блаженство видеть не боявшуюся забастовщиков Христину, и быть спасенным ею.
– Ну, и поделом! – прошептал он. – Эта забастовка не могла быть удачной. Ты не послушался своей совести: она воспротивилась бы этому. Франсуа, Франсуа, ты несешь ношу человеческих душ, ты не должен был без достаточного основания рисковать хлебом насущным этих бедняков, ты повиновался дурному чувству… и самому худшему – личной злобе.
Он бичевал себя, его прямодушное, наивное сердце мучительно страдало. Если иногда он и разжигал страсти толпы, то это случалось редко и только в пылу борьбы против капитала. Здесь же, – он это чувствовал слишком ясно, – он забыл толпу.
– Ты был жалким человеком, Франсуа Ружмон. И следовало бы радоваться твоему поражению, еслибы только этим несчастным не пришлось из-за этого страдать!
Он снова увидел образ Христины. Знал ли он ее? Она отталкивает его всеми своими убеждениями; она мечтает только о борьбе личностей, о властвовании. Это враг. Он должен был бы ее ненавидеть, и в общем разве он не ненавидит ее? Будет ли он обрадован или опечален ее смертью? Он скрежещет зубами, он чувствует, как кипит в нем скрытая жестокость, как подымается грубая сила… Но он вспоминает сверкающую копну ее волос, улыбку, игравшую на ее устах, когда она сидела подле маленького Антуана, тот вечер, когда она говорила… и вселенная исчезает, окутанная густым туманом: он опрокинут любовью.
Я уже был здоров, вздыхает он… или выздоравливал. Она пришла, и я снова в ее власти…
Перед ним шлагбаум Орлеанской железной дороги. Ружмон мечтает о другой стачке, о стачке на Аокейльских заводах. В нем ожил вожак. Он смотрел на тяжелые трамваи, поезда и на трубы, выбрасывавшие клубы дыма. Там труд, тяжелый труд, усталость, нищета; химера счастья пролетариата снова оживала, оживало и сознание долга; образ Христины отодвигался на второй план.
– Надо, чтобы эта забастовка удалась, – страстно подумал пропагандист, переходя через заставу. – Я буду следить за ней до конца.
Солнце начинало желтеть в глубине предместья, но шоссе продолжало быть таким же горячим, как печь булочника, пыль и дым набивались в легкие людей и животных. В поезде Ружмон не чувствовал пота, струившегося по его затылку; он был охвачен жаждой дела, он был как бы во сне…
Появились заводы Аокейля, три башни Молоха; дымилась только одна. На дороге и на поле, покрытым углем, топтались стачечники. Множество полицейских охраняло вход на завод.
Какой-то человек взобрался на кучку кокса. В одном порыве стачечники сгрудились; была только одна сплошная масса, вокруг которой бродили зеваки. Оратор – Барро, по прозвищу Селедка, выпаливал слова, как из пушки.
– Вот! необходима физическая расправа! Дайте мне трех или четырех "желтых" главарей, разденьте их и пустите в ход ноги и ремни! Вот прямое воздействие!
Эти слова развеселили толпу. Раздался взрыв хохота.
Это был один из тех моментов, когда стачка походит на благонравного ребенка; дома кипели котелки, и было приятно бродить, атмосфера слабости и надежд окутывала рабочих. И если им не нравилось выслушивать слова осуждения, то, все же, у них не было ни малейшего желания схватиться в рукопашную с полицейскими или "желтыми".
– Эти не наделают глупостей, – подумал Франсуа Ружмон.
И он вскочил на кучку кокса.
Его приветствовал довольный шопот, все признавали его истинным творцом забастовки.
– Товарищи, – начал он. – Вы правы. Сейчас не момент решительного выступления, необходимо только потушить эту трубу, там, наверху, а не рисковать попасть в лапы полиции. Все дело в том, чтобы привлечь еще семь или восемь человек. Я уверен, что среди рабочих, не забастовавших, найдется не один колеблющийся.
– Вы правы, – заметил один из товарищей.
– В таком случае, идемте и подождем их у входа. Я с ними переговорю, но почему не поговорить с ними и Семайлю, и Барро? Жак Ламотт заставит их посмеяться. Им поднесут стаканчик винца, я даю на это угощенье двадцать франков. Им укажут, где правда и лучшая жизнь. Если это нам удастся, эксплоататоры будут вне себя! Они были бы довольны, если бы мы, рабочие, передрались! Идем же, – вскрикнул пропагандист. – Но остерегайтесь затрагивать шпиков.
– По семеро в ряд! – кричал Семайль, любивший дисциплину.
В толпе виднелись и веселые, и мрачные лица; некоторые рабочие сдвинули на затылок свои широкополые шляпы, другие надвинули глубже фуражки или надели их набекрень; у большинства были соломенные шляпы. От них исходил запах вина, пота, металла… Среди золы, пепла, мусора и на серой дороге они образовали род процессии. Во главе их шел Ружмон.
– Внимание! Шпики!
Четверо полицейских прогуливались по дороге. Один из них, с лицом бульдога, подошел к процессии.
– Будьте спокойны, – сказал им Франсуа. – Мы не собираемся поджигать завод. Мы мирный народ.
Полицейский обвел толпу большими желтыми глазами и не увидел ничего, кроме веселых лиц.
– Хорошо. Только не приближайтесь к мастерским и не производите беспорядка!
Стачечники скользнули между двумя домами, с незаконченными крышами и грубо заделанными бумагой окнами, и, пройдя вдоль маленьких платанов, появились перед главным фасадом завода. Там они предались созерцанию полицейских. Это были агенты предместья, низкорослые и щуплые, так как полиция Парижа вбирает в себя всех людей высокого роста и распыляет атлетов по центральным бригадам. Рабочие заводов, с мускулистыми руками и мощной грудью, презирали этих слабосильных шпиков. Один из рабочих демонстрировал свои мускулы, другой, курчавый, ухмылялся, ударяя себя по плечам. Но все это делалось с самым благодушным видом.
– Внимание! – воскликнул Селедка.
Раздался пронзительный звук сирены; все полицейские одновременно повернули головы. Вскоре закопченные дымом силуэты появились на пороге мастерских.
– Вот что мы сделаем, – предложил с лукавым видом один рабочий. – Главная часть отряда останется здесь, чтобы занять внимание полицейских, а в это время двадцать других отправятся поговорить с товарищами; когда разговор пойдет на лад, тогда мы все соединимся.
Ружмон, делегат Конфедерации, и некоторые другие, известные проворством своего языка и веселым характером, незаметно разошлись во все стороны. Агенты, загипнотизированные толпой, не заметили этого маневра. Они выстроились, чтобы охранить свободный проход для "желтых", которые приближались, полные подозрительности. Впереди шел высокий, сухопарый рабочий в замасленной блузе. Другие следовали за ним с угрюмым или воинственным видом, вдоль решоток. Некоторые шли с победоносным видом. Их было около тридцати. Их грубые башмаки сгребали пыль, по временам кто-нибудь из них поворачивал к забастовщикам выпачканное углем лицо. Постепенно эскорт полиции становился все малочисленнее. Когда "желтые" перешли через пустырь, они очутились на дороге вместе с четырьмя полицейскими. Тогда из-за одного навеса на открытом воздухе показалась делегация стачечников. Жак Ламотт приветливо подмигивал в знак хорошего приема, Баржак бросил: "Добрый день, товарищи!". Лабранш махал почти белым носовым платком, и Ружмон обратился к ним:
– Мы пришли, – проговорил он ясным голосом, – поговорить с вами, друзья мои…
Но "желтые" остановились, полные недоверия. Четверо полицейских стали плечом к плечу. Жамблу, рабочий-ретроград, ходивший в церковь, человек с сухой мускулатурой и лицом финна, закричал замогильным голосом:
– Это ловушка! Другие нападут сзади!
– Товарищи, верьте мне, мы здесь без задних мыслей… от чистого сердца, занятые исключительно нашими общими интересами! – возразил Ружмон.
– Ведь вас обманывают, – поддержал Баржак.
– Вон другие вам это подтвердят, – уверял Жамблу, указывая на подходивших товарищей.
"Желтые" и не заботились о том, чтобы проверить его слова. Собравшись позади полицейских, они приняли угрожающую позу.
– Места! – сказал коренастый человек с туловищем кабана. – Не о чем говорить!
– Вы здесь для того, чтобы нас защищать, – сказал Жамблу полицейским, – не бойтесь, у нас есть кулаки!
– Посторонитесь, – повторил один из полицейских.
– Это идиоты! – рассердился Мерлан. – Они родились рабами, рабами и подохнут.
Он перестал размахивать своим платком парламентера и с презрительным видом сунул в него свой нос.
Полицейские подходили твердыми шагами. Сердца рабочих наполнились ненавистью.
– Свиная кожа… клистир для свиней! – рычал с яростью Жак Ламотт, явившийся сюда с намерением "распотешить" товарищей и не имевший возможности это сделать.
В своем бешенстве он поднял камень. Один из полицейских, маленький человечек с щетинистыми усами, с руками красными, как раки, бросился на Ламотта и схватил его за горло.
– За что! Я ничего не сделал!.. Ты не имеешь права меня арестовывать!
– Посмотрим еще, имею ли я право!
Кузнец, бывший сильнее, хотел вырваться. Тогда к нему бросился второй полицейский, а третий подал тревожный свисток.
Дело становилось серьезнее. Треска собирался освободить Ламотта. Жамблу и несколько "желтых" предложили полиции свою помощь; враждебные действия начинали разгораться, и Франсуа Ружмон, захваченный неожиданностью происходящего, ощущал в себе самом мутный гнев. Он старался сдержать его:
– Это неразумно – никто не хочет ссоры. Отпустите нашего товарища, и мы все уйдем в полном порядке.
Но, видя, что полицейские ожесточились против Ламотта, рабочий, по прозвищу "Человек с угрями", об'явил твердым голосом:
– Пусть меня повесят, но я не позволю так подло арестовать моего товарища!
Прибывало подкрепление. По дороге гимнастическим шагом бежали двадцать полицейских. Небольшими группами по полям и дорогам бежали стачечники.
– Один, два… три… четыре… – считал "Человек с угрями". При каждой цифре товарищи подходили со свирепым видом.
– Шесть… семь… восемь… девять… десять… Вы его не отпустите? Нет?
И он бросился на растерявшийся отряд.
– Ко мне, если вы не трусы!
Жамблу и восемь человек встали стеной перед синдикалистами. Раздался звук пощечин, в воздухе мелькнули дубинки. Драка была в полном разгаре, когда появилась главная масса полицейских. Они яростно бросились в атаку. "Желтые" раздвинулись; "красные" рассыпались; шесть сильных рук бешено трясли Жака Ламотта.
Лабранш не уступал, он хриплым голосом призывал стачечников, он танцовал какой-то причудливый танец мертвецов.
– Они его не получат!.. Скорее я оставлю здесь свою шкуру!.. Вперед, товарищи! Не дадим себя одурачить плюгавым шпикам. А, вот и ты, Катишь… Иди-ка, ты один опрокинешь десяток!
Рабочий, прозванный "Человеком-Свая", прибежал вместе с авангардом запыхавшихся стачечников. Атмосфера страха, беспорядка, бунта делала их неловкими. Но душа толпы, еще распыленная, уже спаивалась от криков Лабранша и Жака Ламотта.
– Катишь, Катишь, – почти выл Треска, – если ты сегодня не покажешь себя, то ты никогда себя не покажешь!
Человек-Свая слегка побледнел, затем он надулся, выгнул поясницу и свободным движением ощупал свою грудь.
– Я иду! – сказал он.
И он пошел. Одной рукой, не торопясь и почти нежно, он отшвырнул двух полицейских. Другой рукой он обхватил Жака Ламотта. И внезапно появилось единение: стачечники спаялись воедино. Освободили своих товарищей и отступили в полном порядке с победными криками. Идя напрямик через поля, они достигли "Встречи каменоломщиков", кабачка времен Людовика Филиппа. К нему примыкал большой, недостроенный пустырь, на котором, заказав бесчисленное количество литров, и сгрудились забастовщики.
– Полицейские подходят!
Этот крик прервал опорожнивание бутылок.
– Пустяки! – успокаивал Огюст Семайль. – Пустырь принадлежит кабачку. Мы у себя. Если шпики войдут, мы их убьем.
– Нас триста, а их меньше тридцати!
– Товарищи, – вмешался Ружмон, – остережемся ловушки. Серьезная стычка с полицией будет на руку хозяевам!
Все случившееся глубоко огорчило его. Печально смотрел он на угрюмую группу приближающихся полицейских. Слышен был топот толстых подошв. Малорослые, слабосильные, они были сильны только своим престижем власти. Этот престиж держался упорно. Многие мускулистые пролетарии смотрели на них с невольной дрожью; даже наиболее экзальтированные не осмелились бы встретиться с ними в открытом поле. Но против условности престижа была выдвинута условность неприкосновенности территории.
Агенты были близки. Еще два шага, и они достигли сгнившего забора. Тогда Барро, просунув свою запачканную углем бороду в щель между досками, об'явил:
– Берегитесь! Что вам здесь нужно? Мы здесь у себя, на частной земле, если вы на нее проникнете, вы нарушите право жилищ. Вы предупреждены!
Высокомерный голос возразил:
– Вы должны выдать арестованного!
– Иди, возьми его, верблюд! – крикнул из толпы Лабранш.
Несколько полицейских трясли забор; брошенная кем-то бутылка описала параболу над головами и упала на дорогу; звон разбитого стекла разжег души; десять других бутылок полетели вслед за первой; один из полицейских, с окровавленным лицом, выхватил револьвер и выстрелил. Раздался протяжный, жалобный крик: подмастерье Клеман поднял обе руки, сделал три шага назад и упал. Потом еще раз жалобно вскрикнул и затих.
– А, свиньи, они его убили! – закричал Баржак.
– Убийцы! Смерть им! Смерть шпикам! Смерть кровопийцам!
Еще дюжина бутылок полетела на улицу. Крик Клемана заставил полицейского офицера, испугавшегося "дела", отозвать солдат и отступить перед растущим возбуждением стачечников; не будь забора, завязалась бы смертельная схватка. Но был забор. Он ставил преграду. Группы, рассеянные у забора, лишенные связи с остальными, той связи, которая вдохновляет толпу отвагой, ограничивались бросанием камней и руганью. Полицейские заняли позицию в двухстах метрах от пустыря. В сумерках они образовали черную массу, казавшуюся более компактной и грозной, по мере того как погасал день.
– В атаку! – крикнул Огюст Семайль.
Царило уныние. Смерть, сначала воспламенившая души, легла на них тяжелым гнетом; угрюмое любопытство притягивало стачечников к синеватому лицу и распростертому телу Клемана. Всем хотелось отложить столкновение до завтрашнего дня, у всех была смутная надежда, что синдикаты и Конфедерация пришлют подкрепление. Приход доктора установил на время тишину. Всем хотелось видеть, как он, склонившись над трупом Клемана, подробно осматривал его, и когда он поднялся, по толпе пробежал печальный шопот. Затем четыре атлета подняли труп; все повторяли фразу, вызвавшую общее одобрение:
– Мы все вместе проводим его!
Четыре носильщика прошли через кабачок, там они соорудили нечто в роде носилок, и затем кортеж выстроился в пурпурном свете заката. Толпа медленно и печально направилась к заводам, а полицейские, заняв поперечную улицу, застыли в бесстрастной неподвижности. Слышались только топот подошв, шорох тканей и боязливые голоса; мрак падал так медленно, что, казалось, сумеркам не будет конца.
Ружмон вспоминал другие апрельские сумерки в этом же предместье и тот вечер, когда он увлек толпу к трупам. Тогда он был свободен, как морской ветер. Он чувствовал только свою молодость, свою силу и надежду на великие народные дни; любовь была часом волнений, путешествием в страну экзальтации, откуда возвращаются с большим запасом мужества… Ах!.. А теперь… Познает ли он когда-нибудь ту страсть к приключениям, благодаря которой его душа первобытного человека сливалась с жившими в нем стремлениями к старой цивилизации?
Франсуа шел вместе с толпой. Он не будет больше удерживать стачечников; он предоставит действовать их инстинктам; кровь уже пролита, пусть она еще льется! Она вызовет ненависть, а ненависть – благо: она творит упорные легенды, она дает людям горькое утешение и создает железные учения, которые заставляют людей повиноваться себе.
Подошли к кузнецам. Носильщики остановились. Наступила глубокая тишина, затем раздались неистовые крики. И воинственная песня, казалось, достигала облаков.
«Вставай, проклятьем заклейменный!»…
Через поля и дороги сбегались толпы народа, привлеченные трагической вестью. Всем хотелось видеть белое лицо мертвеца. Их сердца отверженных париев жаждали кровавой мести.
Факелы бросали красный свет, свет, некогда освещавший голодных Жаков, и проклятия потрясали стены завода. Ветер революции проносился над толпой.








