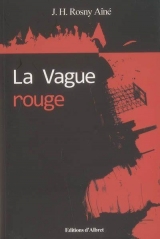
Текст книги "Красный вал [Красный прибой]"
Автор книги: Жозеф Рони-старший
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Однако, в глубине его души горело мистическое пламя; он был человеколюбив и бескорыстен. Он не придавал большого значения деньгам. Он не пожалел бы своей заработной платы на какое-нибудь мифическое предприятие, если бы не мадам Фаландр. Она заботилась о его карманных деньгах: каждый день Фаландр находил у себя в кармане двадцать пять су на вино, табак и на милостыню. Так как он курил и пил мало, то мог иногда одолжить несколько су бедному товарищу.
Мадам Фаландр была женщина сухая, нервная. Из-под ее короткой юбки виднелись ноги, похожие на лапы старой курицы. У нее было лицо длинное, строгое и серое, как у старого солдата; верхняя губа выдавалась над нижней; глаза были круглые и неподвижные, как у селедки, и она могла молчать целыми часами, так как ее язык был настолько же ленив, насколько ее руки деятельны. Эта женщина работала без устали целый день. По три раза в день она чистила одну и ту же вещь. Каждый день неизменно она варила на завтрак похлебку из мяса, баранину с картофелем, брюквой, морковью, сельдереем, луком. Все это было изготовлено очень вкусно. Каждую субботу она покупала живую курицу, резала тут же на дворе.
Фаландры имели двух дочерей. Старшая, светлая блондинка с заячими глазами, была женой механика Гулара. Этот механик приобрел славу своей чрезмерной чистотой. Несмотря на свое ремесло, он отличался чистыми руками, его борода завивалась в кольца, надушенная пахучим бергамотным маслом. Он относился также заботливо к своему костюму: выходя из мастерской, он надевал темно-синий костюм и хорошо вычищенные ботинки. Кумушки останавливались, чтобы посмотреть на него и говорили между собой: "Как он опрятен, как он чист". Мальчишки ходили за ним с уважением, а Гулар, зная о своей доброй славе, шел прямо, выставляя вперед свою бороду.
Вторая дочь Фаландров вытянулась, как тростинка. Она была почти так же зябка, как и ее отец, а потому ее щеки были зимой фиолетового цвета. Большие глаза смотрели пугливо. Гибкая, хрупкая и почти прелестная, она была создана из нежного материала, краснела при каждом слове и дрожала перед грубыми мужчинами, проходившими по тротуару. Ей было, видимо, предназначено умереть старой девой.
Ипполит Гуржа, прозванный Иерихонской трубой, обладал даром имитировать самые разнообразные звуки. Еще ребенком он не мог слышать трещотки, шелеста, скрипа двери, мяуканья кошки, без того, чтобы сейчас их не воепроизвести. С годами он укреплялся в своем призвании. Старые женщины пугались, слыша доносившиеся с площадок лестниц вой своих подыхающих собак, рожок невидимого трамвая заставлял подпрыгнуть астмическую даму; мычал бык, ревел осел; ночью слышались жалобы человека, схваченного апашами. Гибкий и сильный голос Гуржа обеспечивали ему существование: его наперерыв приглашали на балы, свадьбы, праздники, банкеты. Не было ни одного кабачка, который не предложил бы ему выпивки, ни одного ресторана в предместьи, который не накормил бы его с радостью до отвала. Но Гуржа принимал только то, что можно принять. Он не хотел зарабатывать себе жизнь своим талантом. И он добывал себе пропитание работой на кожевенном заводе, владельцем которого он мог стать сам, если бы согласился жениться на Фелиции Паскеро, дочери и внучке кожевников. Но он предпочел Филиппину Бертрикс, молодую особу с толстым носом и густыми ресницами.
Она обладала не поддающимся определению очарованием. У нее был аппетитный рот, глаза цвета золота и лазури, как у женщины Востока, но при этом холодный и необычайно недоброжелательный взгляд. Никогда Ипполит не вызывал в ней какой бы то ни было чувственности. Ей нравились его звукоподражания, но она возненавидела их через девять дней после свадьбы. Когда он отваживался на какую-нибудь из своих штук, лицо Филиппины выражало такое презрение, что он сразу останавливался. Ее ядовитые слова, ее оскорбительные манеры заставляли неметь бедного Ипполита. С той поры, как ей минуло сорок лет, она решительно отказалась от своего пола. Кроме того она высказывала в присутствии свидетелей позорные намеки, обвиняла Гуржа в немощности и всячески унижала его: по ее словам у него не было больше левого легкого, от него исходило зловоние; его пот портил полотно, так что нельзя было отмыть его даже жавеловой водой. Еще двадцать лет после свадьбы Ипполит продолжал страдать от этих оскорблений; когда он слышал издевательства этой дьявольской женщины, его левая рука дрожала. Почти всегда он отвечал ей смиренно, раздражение накоплялось в нем целыми днями, полными покорного терпения. Тогда голос его гремел, он проникал сквозь стены, он несся вдоль тротуаров и мостовых. Филиппина отвечала на него смехом, напоминающим свист хлыста. Мощный голос слабел, и неукротимая Филиппина осыпала его оскорблениями, упреками и жалобами. Гуржа бежал из своего дома и скитался; он грезил о доброте, тепле, уюте, он искал родственную душу, убежище, возможности поделиться мыслями, но как только он появлялся в кабачке или семейном доме, его заставляли подражать быку, свинье или индюку, кларнету, аккордеону или трамваю. Если он начинал говорить в тоне искренней откровенности, все ожидали, что он развеселит их новым подражанием и, подобно тому, как слон погибает из-за своих клыков, а бобер из-за своего меха, так и Гуржа погибал из-за своего таланта.
Пьер Август Дютильо, человек раздражительный и все преувеличивающий, поражал чрезмерной подвижностью своего лица. При самом легком волнении, его брови прыгали, щеки надувались, как у волынщика, или становились пустыми, как полоскательная чашка, ноздри трепетали, как крылья, морщины бороздили лоб. Его глаза сверкали возмущением. Подобно собакам, бешено натягивающим свою цепь за изгородью, так и он бросался на невидимого врага. Этому наивному человеку противники его представлялись не иначе, как бесчестными людьми, все друзья являлись для него чистыми, героическими и великодушными личностями. Его часто можно было видеть бегущим вдоль улиц с развевающейся курчавой бородой. Он походил тогда на мстителя или человека, увлеченного преследованием.
Дютильо жил один в двух маленьких комнатках. Он громоздил книги и брошюры на полу и на мебели; он читал книги с какой-то дикой страстью. С течением времени ему удалось образовать себя. В его мозгу роилось множество понятий, он правильно конструировал свои фразы, он отличался вежливостью, столь же стремительной, как его гнев, при поклоне его шляпа падала ниже колен, а сам он сгибался, точно охваченный резью; у него было предубеждение против тех, кто недостаточно вежливо отвечал на его поклон. Он не был несчастен, так как был внутрнено убежден, что правосудие в конце концов свершится, но он все же страдал, не встречая настоящего человека. Он верил в Пикара, в Золя, в Жореса и даже в отца Комба: они обманывали его ожидания, но, чем именно, он не мог об'яснить ни себе, ни другим.
Леонард Топэн, колодезный мастер, жил со своей матерью, старой прачкой времен второй империи. У него были черные кудри, блестящие от сала, и на голове своей, твердой, как камень, он разбивал орехи, ломал дубинки, раскалывал доски, разрывал веревки. В его круглых глазах выражалось веселье и спокойствие, он не знал прошлого, игнорировал будущее, вертелся в настоящем, как веселый щенок, и начинал находить все прекрасным с самого рассвета, когда старуха подавала ему его чашку кофе и тартинки с маслом.
Он любил и солнце, и дождь, и если иногда работа надоедала ему, то гораздо чаще он испытывал гордость от сознания, что он мощными ударами разбивает комья земли. Так как он был небольшого роста, то сила казалась ему особенно ценным даром. Во всем он соблюдал порядок и меру, которая заключается в том, чтобы не слишком изнуряться работой, так как рабочий не должен давать "обезьянам" больше, чем позволяет мудрость. Те, кто старается чрезмерно работать, были, по его мнению, предателями. Таким образом день Топэна был полон очаровательных перерывов. Он то смотрел, как работает его сосед, то давал им советы.
Леонард, будучи завсегдатаем кабачков, проводил вечера в приятной атмосфере алкоголя, трубок и папирос, там он тихонько варился в собственном соку и не знал ничего более прекрасного, чем конторка, свет электрических лампочек, бокалы и бутылки, похожие на рубины, топазы и гранаты. Чаще всего Топэн хранил молчание; он пил белое вино, по двенадцать су за литр, но никогда не выпивал более трех полуштофов. Иногда он соглашался перекинуться в карты. Ему часто в разговорах приходилось высказывать свое мнение: он не умел говорить спокойно, он ревел, бил себя по коленям, по груди, или ударял кулаком по прилавку, его щеки пылали, его опасная голова описывала круг, как будто он готов был пробить ею животы, но это было только простой мимикой с его стороны.
Семья Боссанжей жила в маленьком домике, прислоненном к маленькому холмику и окруженном невозделанной пустошью. Дом этот был стар, достаточно обширен и неудобен. Собственник в течение многих лет ждал выгодного покупателя и сдавал его за низкую плату, лишь бы только не требовали ремонта. Боссанжи занимали верхний этаж, а Перрего нижний. Эти две семьи были в родственных отношениях, благодаря тому, что мадам Боссанж и мадам Перрего были сестрами.
Адриен Боссанж страдал от необходимости носить кривые, потерявшие свой блеск, башмаки. Он менял рубашки по субботам, а не по воскресеньям, считая это более аристократичным. Ни один человек не доводил так далеко искусство не загрязнять своего пластрона. Он чистил свой костюм желчью быка и знал десятки секретов, чтобы поддержать "внешний вид". Семь или восемь раз в день он мыл руки. Столько усилий не проходило даром: даже когда его жакет начинал блестеть, как листовое железо, даже тогда Адриен казался чистеньким, как кошка. Этот мелкий служащий происходил из медленно разорявшейся семьи. Его предки были крупными коммерсантами и промышленниками. Его деды были еще богаты, но не имели уже состояния своих предшественников: банк одного из них медленно разорялся, другой не мог поддержать благосостояния прядильной фабрики. Отец Боссанжа умер, оставив долги, так что Адриен в двадцать два года остался под угрозой нищеты. Он был дельным работником. Так как он охотно подчинялся дисциплине, то Патрю, хозяин торговли семенами, к которому он поступил на службу, скоро привязался к нему и начал его выделять. В принципе Боссанж решил занять место среди буржуазии. Благодаря Патрю, его сбережения к двадцати семи годам оказались в три раза больше, чем он ожидал. И он отыскал в предместий Сен-Жак прелестный магазин семян, в котором два увечных старика торговали очень бойко, благодаря соседству садовников, птицеводов, куроводов и любителей голубей.
Адриен детально изучил дело, приобрел магазин частью на наличные, частью в кредит и был в двух шагах от счастья. В глубине лавочки виднелись мешки с турецкими бобами, горошком, овсом, конопляным семенем, рожью, просом, луковицами гиацинта и тюльпанов, мешечки с семенами, овощами или фруктами, пучечки ржи, гречихи, маиса, сухих трав, корней и клубней. Дверь быда низенькая, выкрашенная кармином и закрывавшаяся только вечером. Под низким потолком царил запах гумна.
Боссанж помогал добрякам с большим проворством, делая пакетики и насыпая их полной мерой. У него был тонкий слух и драгоценный дар понимать нескольких людей, говорящих одновременно. Он нравился аккуратностью своего серо-рыжого костюма, подобранного под цвет растительной пыли, и своим лицом, которое, несмотря на слишком короткое расстояние между круглым подбородком и круглым черепом, не было лишено приятности, благодаря подвижности черт и самому удивительному репертуару улыбок.
Это были восхитительные дни. Адриен любил семена; по вечерам он покуривал трубку, зимой у печки, летом на пороге, откуда он смотрел, как опускались вечерние сумерки. Накапливая день за днем гроши, он возвращался понемногу к социальному положению своих дедов-буржуев. Цифры танцовали ему сарабанду и пели ему свои сказки. И тут он совершил гибельную ошибку.
В одно веселое воскресенье Адриен обольстил красивую девушку, Адель, дочь ремесленника, при таких обстоятельствах, когда было довольно трудно этого не сделать. Он поправил дело, и это было началом катастрофы. Муж и жена не имели ничего общего, их вкусы были так же различны, как их язык; Адель безумно любила резкие духи, ее движения были не ритмичны, и хотя она мечтала о буржуазности, ее честолюбие мирилось с таким оркестром идей и желаний, который наводил уныние на Боссанжа.
Он не смел принимать у себя людей своего класса. В отдаленном кафе он встречался с несколькими приятелями, скучными и однообразными, подле которых он наслаждался прелестью общения с равными себе.
Если бы пришло богатство, Адель без сомнения изменилась бы внешне и научилась бы держать вилку. Но судьба преследовала их. Торговля квартала переживала критический момент, появилась конкуренция, и со времени своей женитьбы Адриен стал меньше нравиться своим клиентам. Разорение приближалось все быстрее.
Пришлось продать лавочку и после долгих мытарств поступить счетоводом на шоколадную фабрику некоего Жоффара.
Приближался четвертый десяток, опасные сумерки, когда вырисовываются черные дыры. Появились и дети, семья обитала в угрюмом вертепе. Адель сохранила свой необузданный нрав. Безразличная к пыли, привыкшая к запаху горшков, неряшливая, плохо одетая, она плыла по течению, как корабль без руля и без ветрил. Несколько чашек кофе, немного анисовой водки, несколько пирожных на сале погружали ее в состояние блаженства.
С появлением на свет первого ребенка, она перестала уделять время своей прическе, эта дикая растительность признавала, казалось, только удары граблей и заставляла сгибаться шпильки. Когда Боссанж делал ей замечание, она не сердилась, она даже извинялась. Но на слова мужа она не обращала никакого внимания, они отскакивали от нее.
Дети были здоровыми мальчуганами. Старший, Арман – мальчик с большим чистым лбом и карими глазами, в которых светилась жизнерадостность и особенная проницательность, до двенадцати лет был грубым животным, другом бродячих собак. Младший брат, Марсель, более дикий и буйный, всегда принимавший участие в заговорах маленьких индейцев предместья, обращал на себя внимание необычайной величины глазами. Они раскрывались, как глаза льва и в полутьме блестели, как светляки. Чтобы не быть побежденным в борьбе, этот маленький мальчик применял самые жесткие приемы, он, казалось, мог убить своего противника. Очень бледный, но одаренный железным здоровьем, с острыми зубами и готовый всегда сыпать сарказмами и оскорблениями, он обладал добрым сердцем и героически защищал слабых.
Но и дети и мать лгали безудержно. Адриен, правдивый до слабости, понял, что открытая борьба не приведет ни к чему. Надо было покориться. Он переносил смрад лжи, как он переносил и неряшливость и грязь.
Сначала Боссанжу повезло на новом месте. Хозяин, видя аккуратность и расторопность его, прибавил ему жалованье. Боссанж получил возможность поместить семью в маленькой квартирке; детей отдали в лицей; неопределенное чувство респектабельности овладело и Аделью; в течение сорока месяцев удача была неизменной, Боссанж принимал даже участие в барышах дела. Но Жоффар внезапно умер. Скупые наследники, находя должность Боссанжа слишком щедро оплачиваемой, отказали ему от места. Боссанж в сорок пять лет очутился в том же безвыходном положении, в котором он был раньше. Удача больше не возвращалась к нему.
В это время мать Адели овдовела, и ее содержание легло на плечи Боссанжа и Перрего, последний и Адель наняли за низкую цену старый дом на улице Брилла-Саварин. Эта сделка давала возможность предоставить мастерскую Перрего и еще глубже погружала Боссанжа в среду ремесленников. Он молчаливо переносил присутствие ужасной матери Бургонь, пахнувшей старым коровьим маслом, яростно прочищавшей нос и не перестававшей восстанавливать Адель против Перрего и Перрего против Боссанжей. Ему приходилось выносить еженедельные обеды по воскресным вечерам, когда Перрего, его жена и дети покрывали землю плевками, проявляя грубую фамильярность.
Альфонс Перрего был плотно сложенный волосатый человек, почти без шеи, с насмешливыми глазами, голубыми, как севрский фарфор, и крупным лицом цвета смородины. У него был саркастический голос и несдержанный характер со вспышками ярости и чванства. У него была свободолюбивая душа. Он никогда не снимал с головы свою фуражку и никогда не заискивал перед хозяевами. Хотя революционные собрания и лекции и доставляли ему удовольствие, тем не менее его убеждения не отличались прочностью. В общем он требовал уничтожения крупного производства, мелкое же то превозносил, то хулил, в зависимости от того, уменьшились или увеличивались его шансы устроиться самостоятельно.
Перрего был женат на сестре Адели, грузной женщине, повиновавшейся, как собака, Альфонсу; она была даже опрятной, если бы он того требовал, но он на этом не настаивал. Она подарила столяру двух сыновей, коренастых, краснощеких и голубоглазых, замечательных своим упрямством и железным здоровьем.
Сближение обеих семей было сначала в глазах Боссанжа совершенным несчастием. Адель, подобно сестре своей, подчинялась страшному Перрего. Счетовод, дряхлеющий, инертный начинал думать, что его раса целиком растворится в плебее. Но случилось нечто неожиданное. Арман, когда ему исполнилось шестнадцать лет, отделился от сыновей Перрего. Начав уже учиться, он почувствовал отвращение к жизни простого рабочего и начал посещать вечерние курсы. Этот юноша собирал, где мог, знания, не всегда точные, но всегда восхищавшие его. Для него образование было как бы религией. В нем горел тот возвышенный, не знающий пресыщения энтузиазм, который во всей своей полноте ведом только людям бедным. Молодой Боссанж терялся в бесконечности, мир лежал перед ним диким, девственным и беспредельным. Все вечно рождалось, все старело только для того, чтобы возродиться в новой молодости.
Он отрывался от своих книг угрюмый, охваченный чудесным головокружением. Он шел к Густаву Мельеру и Эмилю Пурайлю и изливал перед ними свой восторг в многословных, неясных и противоречивых словах. Они принимали это каждый сообразно своему характеру. Но оба черпали представление о красоте живущего. Для Эмиля это была пыль. Она падала песчинками, сверкала блёстками, сверкавшими в часы нежности и тревоги, вихрями, беспорядочно кружившимися на поверхности однообразной жизни. В сердце Густава медленно и прочно закладывались чувства, полные грустного очарования, в котором энтузиазм поднимался, как водяные лилии поднимаются над поверхностью пруда. Эти разговоры вызывали у них отвращение к труду рабочего, все трое безнадежно мечтали о положении чиновника. Арман нашел место конторщика в книжной лавке. В силу известного атавизма он отказался от простонародного наречия матери, старался подражать манерам отца и проявлял заботливость к чистоте своего костюма, стараясь во всем соблюдать аккуратность и порядок. Он лгал осторожно и ловко, он боролся с неряшеством Адели и грязью жилища, проявляя силу и настойчивость, которых не было у отца. Порядка он не установил, это было невозможно, но квартира их стала немного чище и опрятнее.
VII
С этих-то людей Ружмон начал свою пропаганду. Они играли для него роль фонографа: он знал, что, настойчиво повторяя одно и то же, они распространят это так же, как ветер и пчелы разносят цветочную пыль. Через других он достигал целей более глубоких и прочных; он создавал пропагандистов того же типа, что и он сам, но только меньшего размаха. И еще одну великую радость познал он – трогать сердца и видеть зарождение веры. Пурайль и Дютильо были ближайшими адептами его. Колодезный мастер с разинутым ртом глотал слова пропагандиста. Они укладывались в его мозгу и поддерживали в нем спасительное оживление. Исидор повторял слова Ружмона на лесном дворе и в окрестных кабачках. Они выскакивали у него беспорядочно, по случайным поводам, исковерканные синтаксисом пьяного человека. Но и в таком виде, укладываясь в глубине других умов, они заменяли собой обычные представления и подготавливали зарождение новых. Пурайль служил также рупором: он повторял имя Франсуа, он подстрекал товарищей итти слушать его речи, он возвещал наступление великих событий и волновал этим сердца.
Викторина Пурайль, относившаяся сначала довольно холодно к человеку с русой бородой, заявила Фифине, что он наверное попытается вытянуть у нее денег, и приняла строгие меры предосторожности.
Фифине пропагандист нравился. Ей нравилось, что он смотрел с нежностью на увядающую юность, на сутуловатую спину ее, на скверную ее обувь; он разговаривал с ней без стеснения, но вместе с тем щадил ее тщеславие, острое и мнительное.
Фифина заметила, что по субботам отец был менее пьян, и это наблюдение поколебало недоверчивость госпожи Пурайль. С этих пор обе принимали Ружмона одинаково благосклонно. Фифина разносила разрушительные речи среди маленьких работниц, шьющих воротнички и рубашки, но Викторина сохраняла свои аристократические убеждения. Эмиль колебался: то он изрекал проклятия заведению Файль и К°, дымившему своими тремя трубами у моста Толбиак, то высказывался против революционеров.
Дютильо сначала относился к Франсуа с недоверием. Он был уверен, что тот при удобном случае займет у него несколько десятков франков. Поэтому, он принимал самый воинственный вид, как только входил пропагандист. Его лицо собиралось в складку, точно гармоника, взгляд загорался недоброжелательством. Потом, однажды вечером, когда Ружмон ответил вежливо на одно из его грубых замечаний, он как бы получил смертельный удар. Три дня спустя он кричал:
– Это – человек.
С этих пор он следовал за Ружмоном, как верная собака. Он слушал его речи с криками энтузиазма, об'являя, что последняя схватка близка, и возбужденно размахивал своей огромной дубинкой. В уме этого неофита убеждения были подобны струе расплавленного металла. Он жадно глотал фразы, но любил их повторять, перевирая все слышанное, и ругался в ответ на малейшее из тех возражений, которые так добродушно умел отражать Ружмон. Дютильо с округлившимися глазами, двигая челюстью, предавался своей склонности к изысканным оскорблениям или перечислению казней обидчику и предлагал противнику на выбор удар кулаком, палкой или стоптанным башмаком.
Приходилось придумывать хитрые уловки, чтобы заставить его замолчать.
Франсуа удалось достигнуть этого только после того, как он придумал прибегать к условным знакам. Когда Дютильо начинал стучать палкой или собирал в складки щеки, Ружмон чертил кресты, треугольники, или напевал какую-то таинственную мелодию. Польщенный этим сообщничеством с таким человеком, простак чувствовал, как падает его раздражение; энтузиазм карбонария или террориста наполнял его душу, и он с благожелательными сожалением смотрел на противника.
Зябкий человек оказал больше сопротивления. У него была великодушная душа; но он был апатичен. Он не знал ни вероломства, ни жадности эксплоататоров. Его жалованья ему верно хватало с избытком. По правде говоря, он страдал только от холода: зато в виде компенсации он испытывал радость пресмыкающегося, сидя перед огнем своей печки, или когда ему удавалось занять хороший уголок в кабачке. Он долго, молча, слушал Франсуа. Из вежливости он одобрял те общие мысли, которые плывут, подобно туману, над отдельными мнениями. Когда дело шло об организации синдикатов, о борьбе за три восьмерки и об антимилитаристской кампании, Фалландр осторожно курил. Он ничего не возражал, но и не соглашался.
Это молчание подзадоривало Франсуа, который, в поисках лучшего способа, шел ощупью. У него всегда было предубеждение против молчаливых; в детстве он их боялся. Для того, чтобы принудить его к ответу, он прибегал к хитрости, шуткам и целому арсеналу простых вопросов. Антуан, хотя и не отличавшийся лукавством, отвечал, как нормандец. Но слова Франсуа, наконец, повлияли и на него. Однажды вечером, набив себе трубку, он сказал:
– Я не работаю даже восьми часов в день. Я праздную воскресенье и понедельник, каждые три месяца я получаю отпуск на три недели; мне хорошо платят, мой хозяин честный человек. Что я буду делать в синдикате?
– То же, что делаю в нем я, – ответил Франсуа, – я тоже получаю большое жалование, я отдыхаю, когда хочу, у меня длительные отпуска, но меня интересует жизнь ближних.
Эта реплика привела в замешательство зябкого человека. Он обдумывал ее в часы своего оцепенения и проводил бесконечное время в кабачке, слушая с удовольствием речи пропагандиста. В душе его медленно поднималась радость; он сознавал успокоительные мечты альтруизма: вражда умирала, люди переставали смотреть друг на друга с холодностью или недоверием, массы становились великодушной силой, хлеб насущный переставал быть ужасающей загадкой и старость – черной дырой забвения. Фаландр возбуждался фразами Ружмона, они жгли, как июньское солнце, они произносились с силой и искренностью, они трепетали, они были полны мощной жизнью.
Этьена Бардуфля Франсуа покорил легко. Он знал, что с этим человеком надо говорить очень осторожно, и поэтому терпеливо помогал зарождению идей в его голове осторожными пояснениями, делая их более законченными.
Бардуфль, видя, что его слушают, испытывал страшное удовольствие. Его смутные идеи и туманные понятия кристаллизировались вокруг доктрины синдикализма. Он принимал каждый принцип своего учителя по мере того, как он становился ему понятен; он сделался революционером, как был бы националистом или даже буддистом, если бы того захотел Франсуа. Его убеждения не были от того менее прочны, они являлись как бы осадком его первой дружбы, они были заключены в образе того, кто отнесся к нему с таким вниманием. Все, что говорил Ружмон, врезывалось, как алфавит врезается в мозг ребенка, и становилось для него неопровержимым. Этьен был набит афоризмами, которые с меньшей гибкостью и большим разнообразием сохраняли тон, живость, интонации оригинала. Оставаясь наедине с самим собой в своей берлоге, толстый человек весело смеялся; он выказывал более нежное внимание своей любовнице и даже делал ей подарки в виде юбки голубино-серого цвета, подол которой был украшен веселеньким арабеском из кумача.
Еще легче было покорить Ипполита Гуржа, прозванного Иерихонской Трубой. Эта победа была одержана почти в один сеанс. Придя как-то слишком рано к "Детям Рошаля", Франсуа застал там Гуржа, желчного, пасмурного. Бесчисленные оскорбления Филиппины, выкрикиваемые перед раскрытым окном на потеху улицы, перевернули ему сердце. Дома, как всегда, Ипполит заткнул уши двумя салфетками. Пот струей лился с его лица на бороду. Несколько раз он испускал рычания, Филиппина безудержно смеялась, а собравшаяся у их дома толпа громко потешалась над ним.
Как всегда, кожевник принужден был обратиться в бегство. У него не хватило мужества дойти до кожевенного завода; он зашел в кабачок. От бешенства и горя он выпил подряд пять кружек пива. Из его груди вырывались жалобы, на которые не обращали внимания ни отец Крамп, по прозвищу "Обезьяний зад", ни двое посетителей в блузах, замазанных растительным маслом. Несколько мальчишек стояло у порога. Все надеялись, что Гуржа начнет имитировать ржание лошади, визг раненой собаки, кваканье лягушки или турецкий барабан. Он хорошо знал это, и поэтому скорбь его еще более росла. Он разговаривал сам с собой:
– Да, дед, тебе стоило только слово сказать, и у тебя была бы барышня Паскеро и кожевенное заведение; у тебя были бы радости и деньги. Что было в ней, в этой Филиппине Бертрикс! За ней не было ни одного су, она сама худая, с еврейским носом… носом, в который можно засунуть весь табак из табакерки и еще ее самое в придачу… А, госпожа Жиро, кто сказал бы, что вы создадите мое несчастье! Это вы толкнули меня на это… Без вас я бы с ней слова не сказал, вы предложили нам вашу гостиную, госпожа Жиро, и я стал несчастнее всех на свете.
Так говорил бедный Труба. Его горе разрывало ему сердце, но оно не доходило до сердца других; он с горечью чувствовал, что человек всегда одинок среди людей. В нем кипело негодование, и он старался утопить свой гнев в пиве.
Когда он бывал в таком настроении, он глядел куда-то вдаль, он не слышал и не видел смеявшихся людей. Но по мере того, как его ярость ослабевала, он начинал их видеть и слышать. Тогда его душа наполнялась стыдом. И он мешал этот стыд вместе с пивом.
В кабачок вошел Ружмон. Он сел против Гуржа и осведомился с интересом:
– У вас грустный вид, товарищ.
Ипполит, подняв глаза, увидел соболезнующий взгляд и не устоял:
– А если я печален, то это пустяки. У меня огорченья, которые кончатся только с моей смертью.
Франсуа обратился к нему с расспросами, и Гуржа стал удачнее подбирать свои слова и разбираться в своих воспоминаниях. После долгого разговора, Франсуа об'явил:
– Не может быть худшего зла, я искренно вас жалею.
Потом, видя, что приближается час, когда товарищи наполнят кабачок, он добавил:
– Если хотите, прогуляемся.
Это предположение растрогало Гуржа до слез. Теперь, в свою очередь, заговорил Франсуа; он повел Ипполита за укрепления, указывая по дороге на окружавшую нищету.
– Утешение состоит в том, чтобы заботиться о других, – говорил он. – При этом у человека как бы вырастают новые силы. Без сомнения, свое горе не уничтожишь, но его можно в некотором роде утишить.
Затем он рассказал несколько случаев из жизни, он знал их невероятно много.
Погода стояла мягкая, красивые облака плыли над пригородами, и когда Ружмон сказал все, что было нужно сказать, он снова стал задавать кожевнику вопросы. Так прошел час, и когда они возвращались, уже окутанные сумерками, в мире стало больше одной душой, готовой восстать за счастье масс.
Маленький Топэн не интересовался будущим, он с трудом его себе вообще представлял. В словах он видел западню. Когда с ним разговаривали, глаза его бегали во все стороны, он задыхался. Без сомнения, он хотел, чтобы его жалованье увеличили, и он был готов горланить вместе с другими в дни стачек, но он считал, что без хозяев невозможно обойтись. Он опорожнял свой стакан, слушая Ружмона, Пурайля, Дютильо. Тем не менее, Франсуа не был ему неприятен. Они обменивались рукопожатиями, и он подмигивал Франсуа. Когда Франсуа обращался лично к нему, он говорил:
– У меня в голове каша!..
– Но вы знаете, все-таки, что вас эксплоатируют?
– Это в моем вкусе. Я создан для того, чтобы быть эксплоатируемым, и мне даже доставляет удовольствие видеть эксплоататора.








