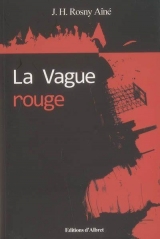
Текст книги "Красный вал [Красный прибой]"
Автор книги: Жозеф Рони-старший
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
V
Катастрофа глубоко взволновала предместье. Там всю ночь было стечение народа. Бесчисленные восковые свечи, принесенные соседями и соседками, горели у изголовья большого Александра и Прежело. Мастерская, где были выставлены останки Мориско, походила на часовню, в которой совершают отпевание. Народ стекался толпами от вокзала, с улиц Гобеленов, Жентильи, с большого и малого Монруж, из предместья Сен-Жак. Хаотическая масса двигалась по улицам, идущим вдоль пустырей. Она перепрыгивала через заборы или проникала через отверстия в них; подростки-оборвыши бегали, словно волки между травами, чертополохом, крапивой и грязными отбросами; небольшие группы державшихся за руки людей ревели мятежные песни, и в обширном пространстве полутеней, при ослабленном свете фонарей на неровной поверхности, где острова и заливы домов чередовались с грязными участками, где дровяные склады и угольные депо, груды бревен, заводы и фабрики имели вид то вертепов, то замков с башнями – эта толпа казалась фантастичной; казалось, она случайно появилась из городов и лесов, в ней были живы дух революционного движения, бешенство шаек, идущих на грабеж. Некоторые зажигали соломенные факелы, многие размахивали венецианскими фонарями, иные из оборванцев с мрачными криками раскачивали фонарями из красного стекла, террасы ночных кабачков выносили на улицу шум возбужденных разговоров. Толпа стекалась к дому, где лежали тела мертвых. Исидор Пурайль приглашал желающих войти посмотреть на тело его двоюродного брата; двое товарищей отдали последний долг телу Мориско: венки и охапки цветов были кучами нагромождены на ложах, свет восковых свечей золотил спокойное лицо Прежело и трагический профиль Жана-Батиста.
Это зрелище очаровывало толпу. Сострадание, чувство солидарности, само негодование искали проявления вовне, отражались на манерах и жестах.
Женщины творили крестное знамение, на мгновение лица всех принимали отпечаток серьезности.
В своей лачуге, где большой Александр лежал распростертым при свете двенадцати восковых свечей, мать Шикоре принимала толпу. Соседки нанесли ей с'естных припасов, вино, кофе и свежий виноград в бумажных тюбиках. Вдова, созерцая холодное тело своего сожителя, не баловавшего ее при жизни, была ему благодарна за его ужасную смерть, так как она теперь должна была получить субсидию и даже маленькую ренту: с тридцатью су в день жизнь ее потечет восхитительно. Таким образом, Александр своей смертью давал ей то, чего он не давал ей в то время, когда он сгибал и разгибал свой сильный стан, теперь он не будет больше бросать ее ради мясистых прелестей других женщин. Теперь она любила его страстно, она вспоминала с нежностью те редкие минуты, когда, будучи еще молодой, она получала несколько франков и несколько поцелуев; маленькая слезинка появлялась время от времени на конце ее желтых век; она бормотала "Отче наш" с жаром и искренностью. Социалистические журналы подняли шум. "L'Humanite" – требовала вмешательства государственной власти, "Маленький Демократ" открыл у себя подписку, "Социалистическая Война" спрашивала, было ли это все, чем отечество платит рабочим, а "Голос Народа" посвятил два столбца статье "Преступление капиталистов": одна из иллюстраций изображала трех огромных хозяев, осушающих маленькие стаканчики шампанского и балансирующих сигарами величиной с дубину, в то время как колодезные мастера с проломленными черепами, с вырванными внутренностями агонизировали под блоками, балками и землей. Погребение также носило грозный характер. Дефилировали две тысячи колодезных мастеров и землекопов с кровавыми иммортелями в петлицах, делегации каменщиков, каменотесов, плотников, маляров и бесчисленное количество зевак…
Секретарь синдиката пробормотал хрипло речь, делегат Генеральной Конфедерации Труда предрек близость репрессий, но слава дня выпала на долю Франсуа Ружмона; он обрисовал горькую долю людей, которые буравят колодцы, роют траншеи, копи и каменоломни. Непрестанно страдая то от холода, то от сырости, то от ядовитых газов, становясь жертвами всесокрушающих обвалов, они расходуют силу своих рук в борьбе с твердыми скалами, тяжелой землей и обманчивыми песками, и за весь этот труд получают мизерную плату, пищу, не восстанавливающую затраты мускульной силы, и пользуются презрением тех, кто черпает из нищеты несчастных радость, роскошь и почести… Так жили Фелисьен Прежело, Александр Пугар и Жан-Батист Мориско. Это были люди, с любовью созданные природой. Каждый из них обладал мощною грудью, неутомимыми членами, телом здоровым и красивым, обещавшим им долгую жизнь; они были терпеливы, рассудительны, полны мужества. И, благодаря низости хозяев, развращенных, испорченных наживою и равнодушных к человеческим страданиям, а также по вине тупого бессмысленного общества, Жан-Батист Мориско, Александр Пугар, Фелисьен Прежело легли навеки в эту землю, источник их страданий, их нищеты. Но приближается время, когда народ потребует у палачей отчета в их преступлениях, когда любовь, знания, нежная заботливость сменят невежественность, братоубийственную войну и ужасающую беспечность буржуазного общества. Заключение речи, подобно гарпуну, вонзилось в души двух тысяч землекопов, которые ревели, как стадо буйволов. Их крики, поднимаясь над множеством толпившихся на кладбище людей и над меланхоличным предместьем, заставляли дрожать огородников, среди их овощей, цветоводов на их полях роз, возчиков на большой дороге и поваров в глубине задних дворов.
Незадолго до вечера, Франсуа ускользнул от приветственных криков и бесчисленных рукопожатий, вернулся домой. Открыв дверь, он услышал стон маленького Антуана.
– Малютка поранился, – об'явила ему заплаканная бледная бабушка.
У нее был тот трагический тон, который она принимала при малейшей капли крови.
– Кровь… кровь… о, как она течет… она будет течь, пока маленький Антуан не умрет…
И, стуча зубами, она подняла свои костлявые руки. Франсуа уже вошел в столовую. Он увидел маленького Антуана; он лежал с закрытыми глазами и не переставал стонать. Христина Деланд, сидя на табурете, придерживала его плечо, на котором виднелся глубокий порез. Кровь все еще лилась, и молодая девушка осторожно обмывала рану. Ловкие движения Христины, ее внимательный взгляд и решительное лицо внушали доверие.
Ружмон очень любил маленького Антуана. Он с тревогой смотрел на окровавленную руку.
– Это опасно? – спросил он.
– Нет, – ответила Христина, – ничего не повреждено, кроме вен и маленьких артерий. Я сделаю временную перевязку до прихода врача.
– О, не надо доктора, – запротестовала Антуанетта. Малютка повторил с ужасом:
– Не надо доктора! Не надо доктора!
У старой женщины был вид человека, застигнутого катастрофой, ребенок дрожал так сильно, что Христина решительно заявила:
– Постараемся обойтись без него.
– Вы сделаете ему перевязку лучше всякого доктора, – страстно заявила Антуанетта. – Разве есть у кого-нибудь из них такие маленькие нежные руки.
Она почти повеселела при мысли, что не увидит страшного человека, с суровым лицом, наводящим ужас на бедняков. С ним несчастье становилось чем-то официальным. Теперь же присутствие девушки с искусными движениями и веселым лицом придавало ему интимный, почти семейный характер.
– Право, можно сказать, что вы фея, – шептала старая женщина.
Франсуа тоже был растроган. Он, очарованный, наблюдал эту сцену, в которой смешивались страдание, чувство солидарности, женская грация.
– Это правда, что она в высшей степени очаровательна, – подумал он и почувствовал то же доверие к девушке, какое было и в старой Антуанетте.
Перевязка приближалась к концу. Христина перевязывала полотном маленькую руку. Дитя замолчало, и сойка, спустившись со своего насеста, повернула осторожно голову, потом, охваченная внезапным возбуждением, вспрыгнула на плечо Франсуа, крича:
– Бочки! бочки! бочки!
Затем она запела:
Всегда ля-ля, всегда ля-ля,
Моя красавица, красотка.
– Ты можешь еще петь, гадкий апаш, – проворчала Антуанетта. Она принялась рассказывать приключение:
– Я послала маленького к Монгроллю за пол-литром уксуса. Когда он возвращался с бутылкой в руке и уже входил, эта черная колдунья вдруг выскочила из какого-то тайника, крича, как человек. Никогда еще у нее не бывало такого голоса; хотя малютка и привык к таким шуткам, он от неожиданности поскользнулся и упал вместе с бутылкой, которая разбилась и порезала его.
Она прервала свой рассказ, чтобы поцеловать щеку Антуана и руку Христины.
– Тотчас же появилась кровь… О; сколько ее было… как на бойне… Я так одурела, что наверное дала бы ему умереть, если бы вдруг не вспомнила о барышне Деланд. Едва я постучала к ней в дверь, как она была уже здесь.
Христина поднялась. Луч солнца золотил ее волосы. Перед узким окном ее фигура казалась выше; ее яркие губы пылали. Она улыбалась неопределенной, далекой улыбкой, в которой сверкала радость.
– Какая жалость, что вы не революционерка.
Она посмотрела ему в лицо с насмешкой и нежностью:
– Какая жалость, что вы революционер.
– Вы потерянная сила, – настаивал он.
– Вы бесполезно растраченная энергия.
Она засмеялась смехом, напоминающим звон кристалла и журчанье ручья.
– Разве это не смешно, – заговорила она с внезапной горячностью, – видеть человека, занимающегося таким делом, как вы. Вы кормите этот народ, который вы хотите вести к лучшему будущему, старыми баснями, вы возбуждаете его смешными суевериями, сцена трупов… культ мертвых… Но вы возвращаете нас в Грецию и Рим первых веков.
– Но разве у вас нет культа мертвых?
– Несколько иной: я требую, чтобы их хоронили, как следует, остальное мне кажется нелепым, почти ненавистным. Столько денег напрасно истрачено богатыми и бедными для костей, к которым с презрением относится сама природа, – это варварское безумие, жестокость по отношению к живым несчастливцам. Если бы похоронный бюджет был отдан в пользу наших стариков, ни один из них не знал бы нужды. И еще: в то время, когда вы революционизировали толпу ради трупа колодезного мастера, который при жизни был груб и эгоистичен, почти опасен, я находила, что вы злоупотребляли вашим влиянием, и искренно возмущалась.
– Надо возмущать народ так, как можешь, – с жаром возразил он. – Если для этого могут послужить старые инстинкты, я не пренебрегу ими. Без сомнения, мне не хотелось бы часто прибегать к тем средствам, какими я пользовался в течение этих двух дней; обстоятельства ограничивают возможность их употребления вообще; но я поздравляю себя с тем, что я это сделал. Насильственная смерть полезно воздействует на воображение. Когда она поражает бедных тем же способом, как она поразила их позавчера, она помогает выявлению несправедливости, эгоизма, неспособности тех, кто угнетает и притесняет массы. Я не краснею оттого, что переживаю это впечатление так же живо, может быть, даже еще живее, чем то, которым я его сообщаю. Я был бы плохим вождем, если бы пренебрегал подобными случаями. Тем хуже, если к этому примешивается доля суеверия. Важно, чтобы народ понял яснее необходимость сохранения солидарности. Революционное чувство должно сростись с инстинктом самосохранения.
– Не хорошо соединять то, что должно погибнуть, с тем, что должно жить, этим порождается смущение и подготовляется реакция. Когда вы прославляли тело Мориско, вы заставили меня вспомнить Илиаду: толпа, приветствовавшая вас криками, была настоящей толпой древних времен.
Он не ответил. Их взгляды скрестились. Они смущенно сознавали себя созданными, чтобы нравиться друг другу. Схожие и вместе с тем различные настолько, насколько это нужно было, чтобы соединить их вкусы и повиноваться закону контраста, они обладали также той чистотой крови, которую они предпочитали всем физическим качествам. Оба они в старом обществе, полном уродства, гнили и отбросов, являлись образчиками душевной чистоты.
– Благодарю вас, – сказал он, почти смиренно, – за заботы о моем маленьком Антуане. – Она отодвинулась от окна; ее лицо, переходя от света в полутень, стало загадочным. Сойка приветствовала ее арией горниста. Она медленно провела рукой по волосам мальчика и сказала:
– Я приду тебя навестить завтра утром.
– Но без доктора? – с тревогой спросил ребенок.
– О, нет… нет! – закричала Антуанетта из кухни, – доктор только разбередит рану.
– Все-таки было бы лучше позвать кого-нибудь, – заметила Христина. – Но, видя омрачившиеся лица бабушки и внука, она не настаивала больше.
Когда она вышла, Антуанетта об'явила:
– Видишь ли, Франсуа, если бы я была мужчиной и мне пришлось бы выбирать между Христиной и дочерью английского короля, я бы выбрала Христину.
– Очень жаль, – ответил он с ноткой тревоги и ревности в голосе, – если она выйдет замуж за человека слабого, немощного или больного – это было бы отвратительно!
VI
После сцены с трупами, Франсуа Ружмон стал методически изучать окружающую местность. Он мог с удовольствием вести это дело пропаганды, которое стало необходимостью его жизни. Он нисколько не гордился этим. Он искал радости действовать самостоятельно, влиять непосредственно на людей, с которыми он жил. И это настроение мешало ему сделаться одним из главных вождей Федерации. Он работал над переплетами по утрам перед окном, из которого виднелись черепицы домов, кирпичи и невозделанные поля. Иногда маленький Антуан примащивался у цветной кожи, у щипцов, у инструментов для шлифования, подравнивания, у горшка с клеем. Он любил эти утра; сладкая свобода наполняла его грудь.
И он радовался тому, что может работать. Человек праздный уже не человек. Он становится животным. Ручной труд есть настоящий символ апостолов новой веры. В трудящихся руках заключается начало нашего могущества, источник нашей красоты. В полдень, за завтраком, он испытывал невинное удовольствие. Ему всегда казалось, что пища есть прекрасная действительность. Он с удовольствием вдыхал запах жаркого, свежесть овощей, аромат кофе; с утра он справлялся с меню. И так как Антуанетта была искусной кухаркой, то он отрывался от работы, как только били полдень часы на соседней башне.
Попивая кофе, он перелистывал газеты, брошюры и мечтал. Для его оптимистической души час этот был прекрасен. Сойка прогуливалась между чашками. С насмешливым видом бросалась на сахарницу, стучала клювом по кофейнице. После кофе Франсуа продолжал мечтать и читать. Он выходил только тогда, когда на тротуарах сгущались тени. Смотря по капризу, или по обстоятельствам, он проходил в мастерскую, заходил на биржу труда, где функционировала Генеральная Конфедерация. Он входил в кафе "Дети Рошаля", пил сиропы, иногда пиво, или легкий алкоголь. С шести с половиной часов там собирались Исидор Пурайль, Жакен, прозванный Омаром, и Антуан Бардуфль с телосложением пещерного медведя. Он отличался чрезвычайной зябкостью. Сидя на диване, завернутый в дорожный плащ, он стучал зубами от холода. У него были большие и глупые глаза. Кабачок гражданина Бигу привлекал к себе также каменщиков, красильщиков и плотников. Туда приходил отец Мельер с надтреснутым голосом, два сына Бессанжа, Эмиль Пурайль, заходил с опаской и маленький Мельер, в день получки в субботу вечером показывались девушки и женщины. Отец Бигу стоял за прилавком вместе с мадам Бигу. Это был жирный человек, глядевший на людей с видом жирного теленка. Три пука волос венчали его голову. Его обвисшие щеки, казалось, были обтянуты сафьяном, нос его походил на клюв лебедя. Этот безжизненный человек понимал свою пользу. Он старался, чтобы кабачок его был комфортабельным, умел распознавать хорошего и плохого плательщика и укрощать жен своих завсегдатаев.
Голова его жены походила на желтоватую свиную голову под мохнатой шапкой волос; у него были быстрые движения, цепкие и грубые руки. Ее маленькие треугольные глаза занимались усиленным надзором за потребителями и за Жюлем, прозванным "калека", – лакеем, человеком с большим самомнением, соединявшим в себе ловкость с нахальством. Ружмон, естественно, любил кабачки. В них есть что-то притягательное. Там инстинкты проявляются с трогательной откровенностью. Ружмон проводил там прекрасные часы. Он сожалел, что алкоголь есть яд; в дни усталости и печали, как хорошо было бы отдаться этому возбуждению, источник которого так же невинен, как мед пчел! Хотя он и был воздержанным человеком, но ему случалось поддаваться приятной отраве. Тогда его пропаганда становилась более горячей, более задушевной.
Он получил большое влияние на Исидора Пурайля, на Жакена Омара, на двух сыновей Боссанжа и многих других. Его влиянию менее поддавался отец Мельер и Ипполит Лебук. Ни малейшего влияния он не имел на Тармуша желтого, на Кастенья, по прозванью Томас, на Бутресека, ремесленника-механика, занимавшегося изобретениями. Но мадам Бигу обращала нежные взгляды на его бороду, и лакей Жюль радостно осклаблялся, когда появлялся революционер.
Ружмон обладал искусством слушать и понимать людей. Таким образом он быстро постиг характер, вкусы, злобу, похождения, стремления Пурайля, Антуана Бардуфля, Гуржа и сыновей Боссанжа. Ему было труднее с молодым Мельером, маленьким Топеном, так как они любили молчать, стесняясь разговаривать. Что касается до отца Мельера, он относился к Франсуа крайне сдержанно, устремляя на него недоверчивый взгляд и излагая свои осторожные мысли. Ипполит Лебук держал себя очень скрытно. Тармуш только спорил. Бутресек, скрывая, с хитростью китайца, свои идеи и свое честолюбие, улыбался по временам улыбкой, в которой расчет растворялся в презрении. Бигу спал; Жюлю было запрещено разговаривать. Жизнь Исидора Пурайля проходила бессмысленно. И полный воспоминаний, о прошлом, он все события своей скитальческой жизни топил в алкоголе. Пьянство не могло убить его мускулов; он энергично работал лопатой и мотыгой. Еще давно, насколько он мог помнить, он кричал, возмущался против хозяев, мастеров и мечтал о социальной революции. От своего воспитания, полученного в кабачках, он сохранил в памяти скверные слова и сальные анекдоты. Он обладал свойством приходить в ярость, которая овладевала им внезапно и от которой надувались жилы на его лбу. Он произносил угрозы, но дрался с женой редко. Фифина была неприкосновенна, она была свежим источником, один вид которого отрезвлял Пурайля. Один Эмиль получал подзатыльники и встряску.
Викторину, хотя она и походила на старую клячу, Исидор любил. Она была старше землекопа на десять лет. Она принесла ему, кроме трехсот пятидесяти франков сбережений, еще маленького мальчика, неуклюжего, слабого и смешного, отпрыск какого-то бедняги, уехавшего куда-то далеко, на Мадагаскар.
Тот сошелся в первый раз с Викториной на шестом этаже меблированных комнат, на улице Буланже. Этот бедняга, такой же безобразный, как его любовница, наводил вокруг себя, как и она, скуку. В то время как она ходила ежедневно шить, он занимался продажей курток и брюк в "Экономном Работнике". Они виделись на лестницах, шептались в узких проходах. Это была молодость, это была любовь. Дыхания их смешивались, они дрожали под узкими одеялами. И, когда Август Кюлон уехал на колониальном судне, Викторина почувствовала горечь утраты. Она воспитала маленького Эмиля, происхождение которого она не скрывала: она этим гордилась. Это была легенда печальная и благоговейная. Когда Викторина встретила Пурайля, она рассказала ему все так, что в конце концов сама этому поверила. Рассказ понравился землекопу. Он его развил. Эмиль сделался сыном графа, убитого на Мадагаскаре отравленной стрелой, когда он сражался во главе французских войск.
Однако, испытывая муки ревности к прошедшему, Исидор оправдывал графа; это был важный барин, безработный и расточительный, у которого ростовщики расхитили все его богатство. По мере того как Пурайль укреплялся в легенде, его любовь росла. Викторина на первых порах замужества была предметом нежности Пурайля и раз навсегда сделалась идеалом его чувственности. Он приобщился через нее с людьми высшими; он никогда не чувствовал себя ровней с Викториной.
– Ты думаешь о своем типе, – ворчал он по вечерам.
Она никогда не отрицала этого, покашливая, вместо всякого ответа,
Хотя Исидор любил мать, но он ненавидел маленького. Эта ненависть была благоговейна. Хотя он издевался, хотя он изливался в ругательствах, но всегда с удовольствием говорил: "это сын графа". Со временем его пыл остыл. Он был из тех людей, любовь которых кратковременна. Исключая припадков похотливости, повторяющихся все реже и реже, он не выходил больше из алкогольного тумана. Его ничтожная жизнь проходила в кабаке, где он напивался каждую субботу и каждое воскресенье. Так как он в пьяном виде был очень весел, распевал песни и к тому же был кривоног, он обращал на себя внимание уличных мальчишек и девчонок. Он часто возвращался домой с вымазанными навозом глазами, с привязанными на спине кастрюлькой, костью, мышью, иногда его шляпа была вымазана испражнениями. Это приводило в отчаяние Викторину. Ее культом были порядок, чистота и бережливость. Она осыпала ругательствами пьяницу. Когда он бывал очень пьян, он ее не слушался; когда он был в веселом настроении духа, он смеялся. Но бывали дни, когда под влиянием алкоголя он колотил Викторину, давал оплеухи сыну графа. Он не дрался больно, его собственные крики приводили его в хорошее настроение. После потасовок, он засыпал. Появление на свет Фифины значительно уменьшило давнюю ревность Пурайля, гордого тем, что он напек хлеб в той же печке, что и граф.
После пятнадцатилетнего замужества, Викторина оплакивала свои деньги, растраченные Пурайлем в кабаке. Она, однако, приняла свои меры, чтобы пополнить дефицит. В маленьком, ветхом домике, она содержала крохотную лавченку, где можно было найти мелочные товары, конфеты, бисквиты, серьги, резиновые мячики, хлысты, волчки и несколько коробок простых игр. Выгода от торговли была достаточно мала, но зато и расходы были малы. Викторина бралась за все работы, в том числе и за стирку белья; она знала время, когда нужно заготовлять картофель, покупала самого плохого качества рис, фасоль и кофе, она варила такие супы, которые наполняли желудок, но тяжело переваривались; рано утром она бежала покупать хлеб в лавочку, где он был дешевле, чем у булочников; у нее можно было достать по дешевой цене цикорий. Как хороший пьяница, Исидор ел мало, Викторина и сама голодала и хотя была щедрее к детям, все же не баловала их хорошей пищей. А дети были от рождения хилыми.
Фифина была худой бледной девочкой, с искривленным спинным хребтом, с редкими, короткими, светлыми волосами, с серыми, цвета пепла, глазами; они бывали иногда привлекательны, когда краска возбуждения выступала на ее лице, но в большинстве случаев взгляд ее был пасмурен и печален. Между тонкими, потрескавшимися и часто воспаленными губами виднелись зеленовато-желтые зубы. Чуть ли не с детских лет она начала проявлять свою скупость, вкладывая имевшиеся гроши в сберегательную кассу. Нрава она была невоздержанного и раздражительного. Она убивала себя за работой. Большей частью на ее губах блуждала улыбка, полная горечи. Бедная девушка хотя и отличалась честностью, но вместе с тем была недоброжелательна и скрытна.
Эмиль не был вполне нормальным. Его поступки и речи были беспорядочны. Никогда нельзя было предвидеть, скажет ли он что-либо остроумное или какую-нибудь глупость. Он то неожиданно ворчал, то упорно молчал; то он проходил целые мили, то сидел, запершись в своей каморке в продолжение целых дней; то поглощал пишу с жадностью, то не дотрогивался до еды. Он легко раздражался. Благодаря физическому недостатку, нос его был всегда заложен, и он дышал с трудом. Это опять-таки влияло на его умственные способности: он не мог сосредоточиться на чем-либо, не мог долго ни писать, ни читать, ни слушать. Его мысли прыгали, как блохи, он обрывал людей на середине фразы, чтобы сделать какое-нибудь замечание, совершенно не относящееся к предмету разговора,
Пурайли были соседями с Мельерами. Отец Мельер был жестяником. Благодаря ремеслу, у него был серый цвет лица и надтреснутый голос. Выражение лица у него было задорное, глаза свирепые, усы были похожи на старую, облезшую зубную щетку. Он надоедал своим детям криками, ругательствами и наставлениями. Вся его философия, полная фатализма, выражалась в одной фразе: "всегда одно и то же". Это слабое существо на все события реагировало только фразами.
Настоящей хозяйкой в доме была жена жестяника Жанетта. Это была женщина с обильными формами, у нее были нежные и коварные глаза. Она не отказывала в своих ласках никому из знакомых, а, иногда, смотря по обстоятельствам, и продавалась. Целый день в столовой у них толпились знакомые, которых она щедро угощала.
Обыкновенно по субботам и воскресеньям вся заработная плата жестяника поступала в желудок семьи и приглашенных гостей. После этого нужно было пополнять дефицит. Жанетта занималась этим с нежной грустью, то, обращаясь к сапожнику Маргиту, завзятому холостяку, то, перехватывая деньги у первого попавшегося, а иногда у женщин, боящихся родов, которым она помогала то советами, то лекарствами; реже всего она зарабатывала что-либо трудом.
Она не любила этот последний способ, хотя была очень дельной работницей. Нельзя было сказать, знал ли Мельер о поведении своей жены. Этот нетерпеливый человек был удивительно снисходителен к Жанетте. Он терпеливо переносил ее отсутствие, ее опаздывания, ее мотовство. Уже давно Жанетта не имела детей. Но раньше они у нее были, когда она была молода и неопытна; их было четверо. Ее ужасающая плодовитость являлась угрозой хозяйству. Благодаря советам одной благодетельной женщины, она приняла раз навсегда необходимые меры.
Житейская мудрость явилась в лице одной дамы Лепельер, которая раздавала благодетельные рецепты. Мадам Лепельер посещала больницы и акушерок; она обладала ловкостью потаскушки. Это была маленькая старушенка, похожая на куницу, с узкими в виде щелок глазами, с желтой кожей, потомство наводило на нее ужас. Она испытывала род опьянения "освобождать дам" и практиковала не только даром, но даже тратила свои деньги. Это пахло каторгой, так как ее операции отправили трех женщин на кладбище.
– Но, – говорила она, – я помешала тысячи несчастным явиться на свет!
Маленькие Мельеры были прелестны, отличались ласковым характером, нравились другим детям и многим взрослым. Старший, Густав, был коренастый мальчик с короткими ногами, с янтарными глазами, по большей части полузакрытыми. У него были мягкие волосы цвета соломы, которыми он любил встряхивать, они как бы освещали все его гицо. Это была натура мягкая, пленяющая, грустная, полная молчаливого энтузиазма. Его пугливость спасала его от всяких мерзостей. Густав обладал разного рода достоинствами, прекрасными, невыразимыми, туманными, понятными только тем, кто знал его хорошо. Жоржетта Мельер, как бы самой природой предназначенная для ранних увлечений, однако, в шестнадцать лет была девушкой. Глаза цвета табака, волосы медного цвета, золотистый загар, соблазнительные движения, полное тело – все это указывало на страстную и здоровую самку. В общении с собой она заставляла других забывать о застенчивости и стыде; каждый становился животным подле ее беззастенчевой страстности. Однако, она возбуждала во всех симпатию. Она обнаруживала мягкое сердце и была всегда готова поделиться с ближним. Ее маленькое тело дышало сладострастием, и, если она потягивалась или чесалась, присутствующие краснели. Ее спасало только то, что она не любила мальчиков своих лет. До шестнадцати лет она сохраняла свои тайные ласки для взрослых мужчин. Эти люди имели мало случаев видеть ее, одну, потому что мать все-таки наблюдала за ней и не раз удовлетворяла страсть тех, которые пленялись дочкой.
Этьен Бардуфль помещался в маленькой комнате, на шестом этаже большого доходного дома, который назывался "квадратный батальон". Этот человек с громадными бедрами, с жестами обезьяны, с вялыми мускулами, жалкий и грузный, был землекопом. Хотя он посещал кабачок, но жил обособленно. В голове у него был всегда сумбур, ему никогда не удавалось привести в порядок свои мысли. Лицо его походило на застывшую маску с большими, тяжело ворочащимися глазами. Так как он понимал с трудом и никогда не отвечал, товарищи избегали с ним разговаривать. Бардуфль испытывал поэтому скуку. Он сидел неподвижно, стараясь с величайшим напряжением схватить смысл слов своих собеседников, привести в порядок свои мысли, но это ему никогда не удавалось. У Бардуфля не было друзей. Единственно Исидор иногда дружески хлопал его по спине, но все же тяготился им. Остальные довольствовались тем, что подсмеивались над ним, но делали это с опаской, так как у него бывали приступы злобы; однажды, схвативши каменщика, он перекинул его через забор. Любовь не являлась для него утешением. Женщины слушали его еще меньше, чем мужчины; он им не доверял, будучи несколько раз нагло обманут. Он довольствовался одной тюфячницей, зрелой женщиной, похожей на Наполеона I, которой он делал деликатно визит каждое воскресенье. Она молчаливо принимала его и предлагала ему свое жесткое, багровое тело. На пасху, в праздник всех святых, на Новый год, в день ангела она удовлетворялась подарком: юбкой, шерстяной кофточкой, ботинками, двумя сотнями углей или полбоченком сидра. Таким образом жил Бардуфль. Терзаемый стремлением к идеалу, он искал его с грустью; он не забывал его никогда, он работал лопатой, иногда он ударял мотыгой, иногда он пил желтое пиво, черное вино или хлебал молочную кашу.
Зябкого человека звали Антуан Фаландр. Будучи живописцем-декоратором, он хорошо зарабатывал. Это был ловкий и добросовестный рабочий. Антуан работал пять дней в неделю и через каждые три месяца брал отпуск. Он жил со своей женой и одной из своих дочерей на углу улицы Кусе, в первом этаже. Громадная фаянсовая печь обогревала их столовую. Он топил ее с начала рктября до июня месяца. У печки стояли маленький столик и рабочее кресло. Фаландр присаживался в кресло и любил сидеть, ничего не делая. Читал с трудом. Иногда, после долгих размышлений, он подвигал маленький мольберт и рисовал пейзаж: обыкновенно он изображал горный поток, крест среди развалин, пальмы вокруг храма, раскаленную пустыню, реку с обильной тропической растительностью. Не только реалистическая живопись, но и всякая живопись с натуры приводила его в ужас. Он редко оканчивал свои маленькие полотна: он раздавал их случайно, кому попало. Его жизнь проходила в бездействии. Растянувшись возле печки, как крокодил, он лежал с лицом мертвеца, засунув руки в карман своей порыжевшей одежды, и малейший сквозняк выводил его из себя. Это была счастливая натура. Он не боялся завтрашнего дня, не думал ни о безработице, ни о болезни; тепло доставляло ему неисчислимые радости; никаким самолюбием он не мучился; равнодушный к мнению людей, он не пускался на споры, не держал пари, не принимал участия ни в чем и ни в ком.








