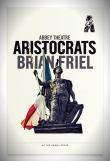Текст книги "Жизнь способ употребления"
Автор книги: Жорж Перек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Все остальное в комнате выглядит более сурово: голые стены, одежда, разбросанная по водянисто-зеленому линолеуму. Стул, стол с клеенкой, остатки трапезы – жестяная банка из-под какого-то напитка, серые креветки на блюдце – и вечерняя газета, раскрытая на огромном кроссворде.
Глава LVI
Лестницы, 8
На седьмом этаже, перед дверью в кабинет доктора Дентевиля, ждет посетитель; это мужчина лет пятидесяти, по виду военный, эдакий покоритель североафриканских гор: волосы ежиком, серый костюм, галстук из набивного шелка с крохотным бриллиантом, солидные золотые часы-хронометр. Под левой мышкой у него ежедневная утренняя газета, на которой можно рассмотреть рекламу чулок, анонс скорого выхода на экраны фильма Гейта Фландерса «Любовь, Маракасы и Салями» с Фай Долорес и Санни Филипс в главных ролях, и заголовок «Княгиня де Фосиньи Люсенж вернулась!» над фотографией, где разъяренная княгиня сидит в кресле модерн, в то время как пять таможенников с превеликой осторожностью вынимают из большого ящика, испещренного иностранными печатями, самовар цельного серебра и тяжелое зеркало.
Возле половика установлена подставка для зонтиков: высокий цилиндр из крашеного гипса, имитирующий античную колонну. Справа – кипа перевязанных бечевкой газет, предназначенная для студентов, которые периодически заходят в дом за макулатурой. Доктор Дентевиль остается одним из их наилучших поставщиков даже после изъятий бюваров с картинками, практикуемых консьержкой. Верхняя в кипе газета – не медицинский печатный орган, а журнал по лингвистике следующего содержания:

Глава LVII
Мадам Орловска (Комнаты для прислуги, 11)
Эльжбета Орловска – Прекрасная Полячка, как ее называет вся округа, – женщина лет тридцати, высокая, величественная и солидная, с копной светлых волос, чаще всего взбитых в высокую прическу, синеглазая, белокожая, с дородной шеей на округлых, почти пухлых плечах. Она стоит приблизительно в центре комнаты и, подняв руки, протирает маленький светильник с ажурными медными перекладинами, который кажется уменьшенной копией люстры в типичном голландском интерьере.
Ее крохотная комнатка тщательно убрана. Слева – придвинутая к стене кровать, узкая тахта с подушками и встроенными внизу ящиками для белья; затем белый деревянный столик с портативной пишущей машинкой и разными бумагами, а также другой, меньший размерами складной металлический столик, на котором умещаются газовая плитка и кухонная утварь.
У стены справа стоит кроватка с решетчатыми стенками и табурет. Другой табурет, находящийся рядом с тахтой и занимающий узкое пространство, отделяющее ее от двери, служит прикроватной тумбочкой: на нем соседствуют лампа на витой ножке, восьмигранная фаянсовая пепельница белого цвета, маленькая сигаретница из резного дерева, по форме напоминающая бочку, объемистое эссе под названием «The Arabian Knights, New Visions of Islamic Feudalism in the Beginnings of the Hegira» некоего Charles Nunneley и детективный роман Лоуренса Уоргрейва «Следователь-убийца»: X убивает А таким образом, что убежденные в его виновности судьи не могут выдвинуть ему обвинение; тогда один следователь убивает Б таким образом, что подозрение падает на X; подозреваемого X арестовывают, признают виновным и казнят, а он ничего не может сделать, дабы доказать свою невиновность.
Пол покрыт темно-красным линолеумом. Стены, увешанные полками с одеждой, книгами, посудой и т. д., окрашены светло-бежевой краской. Их оживляют прикрепленные на стену справа, между детской кроваткой и дверью, две красочные афиши: первая – портрет клоуна с шариком от пинг-понга на носу и морковно-красной челкой, в клетчатом костюме, гигантской бабочке в горошек и длинных плоских туфлях. На второй афише изображены шестеро мужчин, стоящих в ряд: у первого – большая черная борода, у второго – толстое кольцо на пальце, у третьего – красный пояс, у четвертого – разорванные на коленях штаны, у пятого открыт только один глаз, шестой скалит зубы.
Когда у Эльжбеты Орловска спрашивают, в чем смысл этой афиши, она отвечает, что это иллюстрация очень популярной в Польше считалочки, которую рассказывают маленьким детям на сон грядущий:
– Я встретила шестерых мужчин, – говорит мама.
– Каких мужчин? – спрашивает ребенок.
– У первого – черная борода, – говорит мама.
– Почему? – спрашивает ребенок.
– Да потому, что не умеет бриться, чтоб его!.. – говорит мама.
– А второй? – спрашивает ребенок.
– У второго – кольцо, – говорит мама.
– Почему? – спрашивает ребенок.
– Да потому, что женат, чтоб его!.. – говорит мама.
– А третий? – спрашивает ребенок.
– У третьего штаны на ремне, – говорит мама.
– Почему? – спрашивает ребенок.
– Да потому, что иначе спадут, чтоб его!.. – говорит мама.
– А четвертый? – спрашивает ребенок.
– Четвертый разорвал свои штаны, – говорит мама.
– Почему? – спрашивает ребенок.
– Да потому, что слишком быстро бежал, чтоб его!.. – говорит мама.
– А пятый? – спрашивает ребенок.
– У пятого открыт только один глаз, – говорит мама.
– Почему? – спрашивает ребенок.
– Потому что засыпает, как и ты, мое дитя, – очень ласково произносит мама.
– А последний? – шепотом спрашивает ребенок.
– Последний скалит зубы, – почти неслышно шепчет мама.
Самое главное, чтобы ребенок не повторил свой вопрос, так как если на свою беду он спросит:
– Почему? —
то мама рявкнет:
– Да потому, что, если ты не будешь спать, он тебя съест, чтоб тебя!

Эльжбете Орловска было одиннадцать лет, когда она впервые приехала во Францию. Это произошло в детском лагере под Парсэ-ле-Пен, в департаменте Мен и Луара. Лагерь находился в ведении Министерства иностранных дел и принимал детей, чьи родители были министерскими служащими и посольскими работниками. Маленькая Эльжбета поехала в этот лагерь, потому что ее отец служил консьержем при посольстве Франции в Варшаве. В принципе лагерь был скорее интернациональный, но в тот год получилось так, что маленькие французы оказались в подавляющем большинстве, и редкие иностранцы там чувствовали себя несколько скованно. Среди них был маленький тунисец по имени Бубакер. Его отец, мусульманин традиционного толка, почти никак не связанный с французским присутствием в Тунисе, никогда бы и не подумал отправлять мальчика во Францию, но на этом настоял его дядя, архивист из Министерства иностранных дел с набережной д’Орсэ, убежденный в том, что таким образом его юный племянник сумеет лучше всего узнать язык и культуру, которые новому поколению отныне независимых тунисцев было непозволительно игнорировать.
Очень быстро Эльжбета и Бубакер стали неразлучными друзьями. Они сторонились других детей, не принимали участия в их играх; они ходили вдвоем, держась за мизинцы, смотрели друг на друга, улыбаясь, и рассказывали друг другу – каждый на своем языке – бесконечные истории, которые и он и она радостно слушали, ни слова не понимая. Остальные дети их недолюбливали, над ними жестоко подшучивали и даже подкладывали им в кровати мертвых мышей, но взрослые, приезжавшие провести день со своими отпрысками, восторгались этой парой: она – пухленькая, белокурая и светлокожая, как куколка из саксонского фарфора, и он – худенький, гибкий как лиана, с матовой кожей, курчавыми смолистыми волосами и огромными глазами, исполненными ангельской кротости. В последний день лагерной смены они укололи себе большие пальцы и, смешав капельки крови, поклялись, что будут любить друг друга вечно.
Последующие десять лет они не виделись, но дважды в неделю писали письма, которые становились все более пылкими. Эльжбете удалось довольно быстро упросить своих родителей обучить ее французскому и арабскому языкам, поскольку она все равно решила переехать в Тунис к своему будущему мужу. А вот Бубакер столкнулся с большими трудностями: несколько месяцев ему пришлось убеждать отца, который его всегда тиранил, что он ни за что на свете не перестанет его уважать, что он сохранит верность традициям ислама и заветам Корана, и что он вовсе не намерен одеваться по-европейски и переезжать во французский район города только потому, что женится на европейке.
Но труднее всего было получить все разрешения, необходимые для поездки Эльжбеты в Тунис. Более восемнадцати месяцев тянулась административная волокита, как с тунисской, так и с польской стороны. Между Тунисом и Польшей существовали договоры о сотрудничестве, согласно которым тунисские студенты могли ехать в Польшу и учиться на инженеров, а польские дантисты, агрономы и ветеринары могли служить в тунисских Министерствах здравоохранения и сельского хозяйства. Но Эльжбета не была ни дантистом, ни ветеринаром, ни агрономом, и в течение целого года все ее прошения о выдаче визы, какие бы объяснения она к ним ни прикладывала, возвращались с отметкой: «Не соответствует критериям, определенным вышеуказанными соглашениями». Понадобилась целая серия невероятно сложных комбинаций, – в результате которых Эльжбета сумела обойти официальные каналы и рассказать свою историю помощнику замминистра, – чтобы через каких-то шесть месяцев администрация признала ее диплом лиценциата по арабскому и французскому языкам и наконец-то разрешила ей занять должность переводчицы при польском консульстве в Тунисе.
Она прилетела в аэропорт Тунис-Карфаген первого июня тысяча девятьсот шестьдесят шестого года. Ярко сияло солнце. Она светилась от счастья, свободы и любви. Среди толпы тунисцев, которые с балкона махали вновь прибывшим пассажирам, она искала глазами своего жениха. Неоднократно они посылали друг другу свои фотографии: он – на футбольном поле, в плавках на пляже Саламбо, в джелабе и вышитых бабушах рядом с отцом, которого уже успел перерасти на целую голову; она – на лыжах в Закопане или верхом на лошади. Она была уверена, что сумеет его узнать, и все же, увидев его, на какой-то миг засомневалась: он стоял в зале, сразу за кабинами полицейских, и первое, что она ему сказала, было:
– Да ты совсем не вырос!
Когда они познакомились в Парсэ-ле-Пен, то были одного роста; но если он вырос всего лишь на каких-нибудь двадцать-тридцать сантиметров, то она вытянулась как минимум на шестьдесят: ее рост составлял метр семьдесят семь, а его – от силы метр пятьдесят пять; она была похожа на подсолнечник в разгар лета, он же казался засохшим и скукожившимся, как лимон, забытый на кухонном столе.
Прежде всего Бубакер повез ее к своему отцу. Тот был общественным писарем и каллиграфом и работал в крохотной лавке Медины; там он продавал ранцы, пеналы и карандаши, но чаще всего клиенты просили написать их имя на дипломе или справке, а также вывести священные строчки на пергаменте, который они могли бы повестить на стену в рамке. Там Эльжбета впервые увидела этого человека: в очках с толстыми, как стаканное дно, стеклами, он сидел по-турецки, положив доску на колени, и с важным видом точил перья. Это был низкорослый худой мужчина с зеленоватым цветом лица, лживым взглядом и отвратительной улыбкой, чопорный, очень скованный и молчаливый в присутствии женщин. За два года он обратился к невестке не больше трех раз.
Первый год был самым ужасным; Эльжбета и Бубакер провели его в доме отца, в арабской части города. У них была своя спальня – каморка без освещения, где умещалась одна лишь кровать, – отделенная от комнат братьев тонкими перегородками, которые, как ей представлялось, позволяли за ней не только подслушивать, но еще и подсматривать. Они даже не могли питаться вместе; он ел с отцом и старшими братьями; она должна была молча им прислуживать и уходить на кухню к женщинам и детям, и свекровь надоедала ей там своими поцелуями, объятиями, сластями, изнурительными сетованиями на живот и поясницу, а также более чем неприличными вопросами о том, что с ней делает и что хочет от нее получить в постели ее муж.
На второй год, после того, как она родила сына, который был назван Махмудом, она взбунтовалась и втянула в свой бунт Бубакера. Они сняли трехкомнатную квартиру в европейской части города на Турецкой улице, холодно безликую, с высокими потолками и уродливой мебелью. Несколько раз их приглашали европейские коллеги Бубакера; несколько раз она устраивала дома тоскливые ужины для скучных специалистов, командированных в Тунис; все остальное время ей приходилось неделями уговаривать мужа поужинать вместе в каком-нибудь ресторане; всякий раз он находил повод, чтобы остаться дома или выйти без нее.
Он отличался на редкость стойкой и дотошной ревностью; каждый вечер, возвращаясь из консульства, ей приходилось описывать ему свой рабочий день в мельчайших подробностях: перечислять всех мужчин, с которыми она виделась, вспоминать, сколько времени они проводили в ее кабинете, что они ей говорили, что она им отвечала, куда ходила обедать, почему так долго разговаривала по телефону с такой-то, и т. п. А когда им случалось вместе идти по улице, и вслед ей, красивой блондинке, оборачивались прохожие мужчины, Бубакер, не успев зайти в дом, устраивал ужасные сцены, как будто она была виновата в светлом цвете своих волос, белизне своей кожи и синеве своих глаз. У нее было такое чувство, что он хочет ее заточить, навсегда скрыть от посторонних взглядов, хранить для удовольствия лишь своих глаз, лишь для своего немого и лихорадочного обожания.
Ей понадобилось два года, чтобы осознать, сколь велик был разрыв между мечтами, которые они питали в течение десяти лет, и жалкой действительностью, к которой отныне свелась ее жизнь. Она начала ненавидеть мужа; она перенесла всю свою любовь на сына и решила с ним бежать. При пособничестве нескольких соотечественников ей удалось покинуть Тунис тайком, на борту литовского судна, которое доставило ее в Неаполь, а уже оттуда, по суше, она добралась до Франции.
По чистой случайности в Париж она приехала в самый разгар майских событий 68 года. В той атмосфере эйфории и ликования она пережила страстную, но кратковременную связь с молодым американцем, певцом folk-song, покинувшим Париж в тот вечер, когда у восставших был отбит театр «Одеон». Вскоре она нашла себе эту комнату; до нее там жила Жермена, кастелянша Бартлбута, которая в тот год вышла на пенсию, но которую англичанин так никем и не заменил.
Первые месяцы она таилась, опасаясь, что Бубакер может внезапно появиться и отобрать у нее ребенка. Позднее она узнала, что, уступая требованиям отца, он позволил свахе женить его на какой-то вдове, матери четверых детей, и вернулся жить в Медину.
Она стала вести простую, почти монашескую жизнь, целиком выстроенную вокруг сына. Чтобы заработать на эту жизнь, она нашла место в конторе по экспорту-импорту, которая торговала с арабскими странами и для которой она переводила инструкции по применению, административные правила и технические описания. Но предприятие довольно быстро обанкротилось, и с тех пор она живет на гонорары ГЦНИ за составление резюме арабских и польских статей для «Библиографического Бюллетеня» и в дополнение к этой скудной зарплате эпизодически подрабатывает уборкой чужих квартир.
В доме ее сразу полюбили. Даже сам Бартлбут, хозяин ее комнаты, – чье безразличие ко всему происходящему в доме все всегда воспринимали как данность, – отнесся к ней с симпатией. Не раз – еще до того, как болезненная страсть навсегда приговорила его к полному одиночеству – он приглашал ее поужинать. А однажды – что не случалось ни с кем и никогда ни до, ни после, – он даже показал ей пазл, который собирал в очередной двухнедельный срок: это была рыбачья гавань Хаммертаун на острове Ванкувер, белый от снега порт с низкими домишками и горсткой рыбаков в меховых полушубках, вытягивающих на отмель длинную светлую лодку.
Не считая друзей, появившихся у нее в доме, Эльжбета почти никого не знает в Париже. Она растеряла все контакты с Польшей и не общается с польскими иммигрантами. Лишь один из них приходит к ней регулярно; мужчина скорее пожилого возраста с живым взглядом, неизменным белым фланелевым шарфом и тростью. По ее словам, этот человек, как казалось, утративший интерес ко всему, был до войны самым популярным клоуном в Варшаве, и именно он изображен на афише. Она познакомилась с ним три года назад в сквере Анны де Ноай, где ее сын играл в песочнице. Мужчина сел на ту же скамейку, что и Эльжбета, и она заметила, что он читает «Дочерей огня» на польском языке – «Sylwia i inne opowiadania». Они подружились. Два раза в месяц он приходит к ней ужинать. Так как у него совсем не осталось зубов, она поит его теплым молоком и кормит заварным сливочным кремом.
Он живет не в Париже, а в деревушке под названием Нивиллер, в Уазе, около Бовэ, в длинном одноэтажном доме с низкой крышей и окошками из маленьких разноцветных стеклышек. Именно туда маленький Махмуд, которому сегодня исполнилось девять лет, уехал на каникулы.
Глава LVIII
Грасьоле, 1
Предпоследний потомок владельцев дома живет со своей дочерью на восьмом этаже, в двух бывших комнатах для прислуги, перестроенных в маленькую, но уютную квартирку.
Оливье Грасьоле сидит перед складным столиком, покрытым зеленой суконной скатертью, и читает. Его тринадцатилетняя дочь Изабелла стоит на коленях на паркетном полу; она выстраивает карточный замок, конструкцию, в высшей степени амбициозную и неустойчивую. Перед ними, на экране телевизора, который ни один из них не смотрит, на фоне уродливых декораций в духе научной фантастики – блестящие металлические панно, разукрашенные ура-патриотическими аббревиатурами, – ведущая, затянутая в эдакий космический комбинезон, представляет на табличке восьмиугольной формы, что предположительно соответствует очертаниям Французской Республики, программу вечерних передач: в двадцать часов тридцать минут – «Желтая нить», детективно-фантастический фильм Стюарта Винтера, повествующий о том, как в начале века один дерзкий похититель ювелирных украшений укрылся на плоту, среди древесины, сплавляемой по Желтой реке; в двадцать два часа – «Серп златой на звездной ниве», камерная опера Филоксанты Шапска по стихотворению Виктора Гюго «Уснувший Вооз», впервые представленная по случаю открытия фестиваля в Безансоне.
Книга, которую читает Оливье Грасьоле, – история анатомии: лежащий на столе фолиант открыт на развороте, где представлена репродукция работы Джорджо да Кастельфранко, ученика Мондино ди Луцци, с приложенным описанием, которое спустя полтора века Франсуа Бероальд де Вервиль включил в свою «Картину ценных сведений, сокрытых благодаря ухищрениям любви и представленных в „Hypnerotomachia Poliphili“»:
«Труп еще не разложился до состояния скелета; слипшаяся с землей плоть сохранилась, образовав подсохшую и как бы спрессованную массу. Однако то тут, то там частично выявляются кости: грудная клетка, ключицы, коленные чашечки, большие берцовые кости. Передняя часть – коричневато-желтая; задняя часть – черноватая и темно-зеленая, более влажная и заполненная червями. Голова склонена на левое плечо, череп покрыт седыми волосами, слипшимися с комками земли и спутавшимися с клочками половой тряпки. У надбровной дуги отсутствует кожный покров; в нижней челюсти имеются два желтых и полупрозрачных зуба. Мозг и мозжечок занимают приблизительно две трети полости мозговой части черепа, но органы, из которых состоит энцефалон, идентифицировать невозможно. Твердая мозговая оболочка наблюдается в виде мембраны голубоватого цвета; можно сказать, что она сохранилась почти в нормальном состоянии. Спинной мозг отсутствует. Шейные позвонки видны, хотя частично покрыты тонким слоем охристого цвета. На уровне шестого позвонка находятся омыленные внутренние мягкие части ларинкса. Две стороны груди кажутся пустыми, если не считать небольшого количества земли и нескольких мелких мушек. Они черноватые, закопченные и обугленные. Живот опущен, покрыт слоем земли и хризалидами; уменьшенные в размерах органы брюшной полости не идентифицируются; гениталии разрушены до такой степени, что определить пол невозможно. Верхние конечности расположены по бокам вдоль тела таким образом, что руки, предплечья и кисти составлены вместе. Лежащая слева кисть – серовато-коричневого цвета и, кажется, сохранилась целиком. Кисть справа – более темная, и многие из ее костей уже отвалились. Нижние конечности, похоже, сохранились целиком. Короткие кости не намного более омылены, чем в нормальном состоянии, но более сухие внутри».
Оливье нарекли именем брата-близнеца его деда Жерара, который погиб 26 сентября 1914 года под Перт-лез-Юрлю, в Шампани, во время тыловых стычек, последовавших за первой битвой на Марне.
Жерар – тот из четверых детей Грасьоле, который получил в наследство сельскохозяйственные угодья в Берри и продал почти половину из них, чтобы попытаться, вместе с братом Эмилем, продававшим по частям дом, помочь третьему брату, Фердинану, а позднее его вдове, – имел двух сыновей. Анри, младший, так и не женился. В 1934 году, после смерти отца, он взял хозяйство в свои руки; попробовал модернизировать технику и методы, и даже взял ипотечный кредит, чтобы закупить оборудование, но после его смерти в 1938 году – а умер он от удара лошадиным копытом – осталось столько долгов, что старший брат Луи, отец Оливье, предпочел просто отказаться от наследства, чем взваливать на себя управление хозяйством, которое было бы еще долгие годы нерентабельным.
Луи отучился в Вьерзоне и в Туре, затем поступил работать в Лесное ведомство. В самом начале войны юноше, которому едва исполнился двадцать один год, поручили создать один из первых природных заповедников Франции, в Сен-Трожан д’Олерон, где – как и на обустроенном в 1912 году архипелаге Сет-Иль, в акватории Перрос-Гирек, – требовалось принять все меры для сохранения местной флоры и фауны. Итак, Луи переехал на Олерон, где женился на Франс Лидрон, дочке кузнеца, старого чудака, заполонившего весь остров художественно выполненными решетками из кованого железа и позолоченными бронзовыми изделиями одно агрессивно-уродливее другого, которые пользовались неизменной популярностью.
Оливье родился в 1920 году и практически вырос на пляже, в те времена чаще всего пустынном, а десяти лет был определен пансионером в один из рошфорских лицеев. Питая стойкую ненависть к интернату и к наукам вообще, он всю неделю томился на последней парте, мечтая о предстоящей воскресной прогулке верхом. В третьем классе лицея он остался на второй год и четыре раза проваливал экзамен на степень бакалавра, после чего отец махнул рукой на учебу и отпустил сына работать подручным в конюшни под Сен-Жан-д’Анжели. Эта работа ему нравилась и, быть может, в ней он нашел бы себя, если бы через два года не разразилась война: Оливье был призван на передовую, взят в плен под Аррасом в мае 1940 года и отправлен в лагерь военнопленных под Хофом, во Франконии. Там он провел два года. Тем временем сын Фердинана, Марк, сумевший еще ранее, после банкротства и исчезновения своего отца, получить звание агреже для преподавания философии, устроился в комитет Франция-Германия и 18 апреля 1942 года поступил на службу в аппарат Фернана де Бринона, незадолго до этого назначенного госсекретарем второго правительства Лаваля. Получив от Луи письмо с просьбой о содействии, Марк уже через месяц сумел без особого труда добиться разрешения об освобождении своего двоюродного племянника.
Оливье приехал жить в Париж. Франсуа, другой кузен его отца, управляя совместным жильем собственников и все еще владея, вместе с женой Мартой, примерно половиной квартир в доме, устроил ему трехкомнатную квартиру прямо над своей (ту самую, в которой позднее жили Грифалькони). Оливье просидел там до конца войны, спускаясь в подвал, чтобы послушать радиопередачу «Французы обращаются к французам», а затем выпускать и распространять с помощью Марты и Франсуа сводки для различных групп Сопротивления, что-то вроде ежедневного бюллетеня с информацией из Лондона и шифрованными сведениями.
В 1943 году от бруцеллеза умер отец Оливье, Луи. На следующий год при так и не выясненных до конца обстоятельствах был убит Марк. В 1947 году скончалась последняя дочь Жюста, Элен Броден. Когда в 1948 году, при пожаре в кинотеатре «Рюэль-Палас» погибли Марта и Франсуа, Оливье остался последним живым представителем рода Грасьоле.
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ
ДРЕВО
СЕМЬИ ГРАСЬОЛЕ
ФИГУРИРУЕТ
НА СТР. 96
Оливье со всей ответственностью принял на себя бремя домовладельца и представителя домового комитета, но через несколько лет его вновь подкосила война: в 1956 году его отправили в Алжир, там он подорвался на мине, и ему ампутировали ногу выше колена. В военном госпитале в Шамбери он влюбился в медсестру Арлетту Криола и женился на ней, хотя девушка была на десять лет моложе. Они переехали жить к ее отцу, владельцу фермы по разведению лошадей, и Оливье, вспомнив свое давнее призвание, взялся вести бухгалтерию.
Реабилитация шла медленно и стоила дорого. На Оливье испробовали прототип полного протеза, настоящую анатомо-физиологическую копию ноги, которая учитывала самые последние разработки в области мышечной нейрофизиологии и была снабжена координирующей системой, помогающей уравновешивать сгибания и растяжения. После нескольких месяцев тренировок Оливье уже мог управлять своим аппаратом до такой степени, что ходил без палки и даже, как-то раз, со слезами на глазах, сел в седло.
И хотя ему пришлось продать одну за другой унаследованные им квартиры, сохранив лишь две комнаты для прислуги, те годы были несомненно самыми прекрасными в его жизни, благим временем, когда краткие поездки в столицу сменялись длительными пребываниями на ферме тестя, посреди заливных лугов, в низком светлом домике, благоухавшем цветами и воском. Именно там в 1962 году родилась Изабелла, и ее первым воспоминанием была прогулка с отцом на повозке, которую тянула белая в серых яблоках лошадка.
В канун Рождества тысяча девятьсот шестьдесят пятого года, в приступе внезапного безумия отец Арлетты задушил свою дочь и повесился. На следующий день Оливье с Изабеллой переехал в Париж. Он не искал работу и ухитрялся жить лишь на одну пенсию инвалида войны; он целиком посвятил себя дочери; сам готовил, сам перешивал, сам штопал и даже сам учил ее читать и считать.
А теперь вот настала очередь Изабеллы ухаживать за отцом, который болеет все чаще и чаще. Она ходит за покупками, готовит омлеты, чистит кастрюли, ведет хозяйство. Эта худая девушка с печальным лицом и меланхолическим взглядом часами просиживает перед зеркалом и сама себе тихо рассказывает страшные истории.
Оливье уже почти не двигается. Ему больно носить протез, но средств на корректировку столь сложного механизма у него нет. Большую часть времени он сидит в пижамных штанах и старой клетчатой кофте в своем кресле с подголовником и весь день, несмотря на строгий запрет доктора Дентевиля, потягивает из рюмочки ликер. В дополнение к своим скудным доходам он рисует – очень плохо – ребусы и отправляет их в еженедельник, посвященный тому, что помпезно именуется «гимнастикой ума»; ребусы щедро оплачивают – когда берут – по пятнадцать франков за штуку. На его последнем ребусе изображена река; на носу лодки сидит роскошно одетая женщина, вокруг нее – мешки с золотом и приоткрытые ларцы, наполненные драгоценностями, вместо ее головы нарисована буква «S»; на корме в роли перевозчика стоит мужчина в графской короне; на его плаще вышиты буквы «ENTEMENT». Ответ: «CONTENTEMENT PASSE RICHESSE» [2]2
Сочетание слов comte (граф) + – entement + passe (перевозит) riche (богатая) S (-эс) дает в результате пословицу «contentement passe richesse» (счастье дороже денег). Примеч. пер.
[Закрыть].
Этот пятидесятипятилетний мужчина, вдовец, инвалид с печальной судьбой, исковерканной войнами, вынашивает два грандиозных и утопических проекта.
Первый проект – литературного характера: Грасьоле хотел бы создать героя романа, но героя настоящего; не какого-то там жирного поляка, думающего лишь о том, как бы колбасу кровяную жрать да под корень истреблять, а настоящего воина, героя, защитника вдов и сирот, покровителя обиженных, истинного дворянина, влиятельного сеньора, тонкого стратега, обходительного, мужественного, умного и богатого. Сколько раз Грасьоле представлял себе его лицо: волевой подбородок, высокий лоб, зубы, обнаженные в радушной улыбке, искорку, сверкающую в уголках глаз; сколько раз Грасьоле облачал его в безукоризненно пошитые костюмы и светло-желтые перчатки; украшал рубиновыми запонками, жемчужной заколкой на галстуке, моноклем, тростью с золотым набалдашником; правда, Грасьоле до сих пор не подобрал ему подходящие имя и фамилию.
Второй проект относится к метафизической области: с целью доказать, что, по меткому выражению профессора Г. М. Тутена, «эволюция – это надувательство», Оливье Грасьоле решил составить полный перечень всех несовершенств и недостатков, от которых страдает человеческий организм: так, например, вертикальное положение не может обеспечить человеку идеальную устойчивость; мы стоим лишь благодаря напряжению мышц, а это является постоянной причиной усталости и дискомфорта позвоночника, который, – будучи действительно в шестнадцать раз сильнее оттого, что он не прямой, – все же не позволяет человеку носить на спине значительные грузы; ступни могли бы быть более широкими, развернутыми и специально адаптированными к передвижению, а вместо этого они представляют собой всего лишь атрофированные нижние конечности, утратившие хватательную функцию; ноги недостаточно крепки, чтобы нести туловище, чей вес заставляет их сгибаться, к тому же они утомляют сердце, вынужденное гнать кровь почти на метровую высоту, в результате чего распухают ступни, начинается варикозное расширение вен и т. п.; бедренные суставы хрупки и подвержены бесконечным артрозам и серьезным переломам (шейки бедра); руки атрофированы и слишком тонки; кисти и пальцы слабы, особенно совершенно бесполезный мизинец; живот – как, впрочем, и гениталии – ничем не прикрыты; шея жестко фиксирована и ограничивает поворот головы, зубы не рассчитаны на боковой захват, обоняние крайне ограничено, зрение в темноте более чем посредственно, слух недостаточен; кожа без волосяного покрова и меха никак не защищает от холода… Короче говоря, человек, которого обычно считают самым развитым из всех когда-либо существовавших на свете животных, на самом деле является самым ущербным.