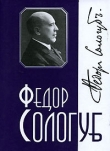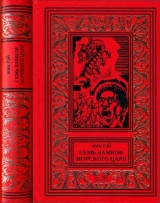
Текст книги "Семь Замков Морского Царя (Романы, рассказы)"
Автор книги: Жан Рэй
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
– Ну, – ответил один из них, – мы как-то не…
Но его товарищ поспешно хлопнул его по спине и воскликнул:
– Причем тут мы? Я буду рад заглянуть в собор! Кто может помешать мне? Не думаю, что эта дрянь…
Проклятый ветер Зунда! Он в этот момент взвыл так громко, что последние слова из фразы каторжника вспорхнули и разлетелись, словно вспугнутые вороны.
В общем, мы зашли в собор.
Но нам не пришлось сделать в нем и десятка шагов! Да что там десяток! Мы не сделали и трех шагов!
– Ты видишь его, ты видишь! – простонал тот, что колебался.
Они дружно завопили и кинулись на улицу. Я последовал за ними. Не могу сказать точно, почему, но у меня возникло смутное ощущение, что я заметил нечто очень нехорошее, что быстро направилось к нам из глубины собора.
Я быстро бежал, чтобы догнать каторжников и разузнать у них, что это могло быть.
Вокруг «Мармор Кирхе» полно улочек, на которых витрины сверкают, словно зеленые фары в тишине, побуждающей к жутким попойкам без разговоров и без песен.
Я не смог догнать беглецов, и только ветер Зунда грубо хихикал за моей спиной.
* * *
В мрачных голландских сумерках я следовал за унылой тенью.
Между нами дымом ложились клочья северного тумана.
Тень вела меня к окраине города по узким еврейским улочкам, мимо бесконечной вереницы ангаров, пропахших крысами.
Скарабеи мельниц неловко пытались вскарабкаться по сетке дождя; тени небольших речных парусников бродили по светлой траве польдеров.
Глядя на этот силуэт, который я видел только со спины, согбенной невидимым грузом беды, я твердил про себя:
– Боже, какой он печальный! Боже, какой он печальный!
Он тащил меня за собой, словно мальчишка, который тянет на веревочке игрушечную мышь, но эту черную веревочку увидеть было нельзя.
По обеим сторонам нашей дороги валялись груды отбросов, лежали развалины сгоревших домов и хижины из пропитанного смолой картона, превратившегося в грязь; сорняки постепенно захватывали проезжую часть. Внезапно существо остановилось и толкнуло какую-то дверь, на которой было написано имя.
Имя, которое уже много лет сеяло тревогу в моей душе!
Я с ужасом понял, что существо, тащившееся передо мной под дождем, было Судьбой.
Моей судьбой нищего, бродяги дальнего плавания, давно превратившегося в тень, воплощающую нищету и страдание.
Моя судьба, остановившаяся под дождем перед этим именем, как останавливаются отчаявшиеся создания перед пропастью, перед окном на верхнем этаже, или перед парапетом ночной реки: ДЖАРВИС.
* * *
И я тоже толкнул эту дверь.
Теперь я знал – или считал, что знаю.
* * *
Когда мы устаем от ругани бармена, которому мы уже давно не платили, когда идет слишком холодный дождь и когда эти мерзавцы полицейские слишком часто появляются у твоего ночного убежища, вас встречает Джарвис.
Это таверна без вывески.
Здесь вы должны быть особенно осторожны; это жуткие места без имени, где вокруг вас окажутся призраки, скрывающие пустоту, в которой исчезают любые преступления.
Здесь вы увидите высокую стойку из темного дерева, из-за которой доносится странная суматоха, но никто никогда так и не смог понять, что там происходит. И к чему беспокоиться? Очутившись там, твое несчастье все равно окажется таким огромным, таким всеобъемлющим, что все остальное, находящееся вне его, уменьшится, съежившись, словно подмороженное яблоко.
Время от времени лица Джарвиса или Фу-Манга, кельнера-китайца, появляются из-за стойки, словно лица бродяг, заглядывающих через стену в сад рантье.
– Что закажут господа, пришедшие с моря? Виски, или замечательные напитки из дальних стран? – спросил Джарвис.
Я смутно разглядел лицо, чем-то похожее на лицо Джарвиса, и почувствовал приятный запах голландского табака.
Вот тебе и на! Холтема!
Что теперь?
Даже если мы зверски напьемся – что, разве он потребует с нас деньги? Нет, конечно!
Так как же мы расплатимся? Очень просто – мы обманем его!
Не смейтесь, может быть, когда-нибудь нам придется заплатить – разве можно знать это заранее?
Такие предательские мысли мелькали у меня в голове.
Я пью у Джарвиса, сколько хочу, пью – и никогда не чувствую себя пьяным, хотя в виски Джарвиса таится жгучий огонь.
Опьянение остается за дверью, на тротуаре, словно несчастная женщина, ждущая отца своих детей и оплакивающая нас.
Так кто же выпивает у Джарвиса?
Я знаю их всех, начиная с матроса без гроша в кармане, и кончая служащим фрахтовщика, у которого патрон в самое ближайшее время собирается проверить кассу.
Они пьют! Фу-Манг наполняет стаканы, негромкие голоса что-то бормочут за стойкой.
Входят все новые и новые посетители, и каждый чем-то похож на предыдущего. Каждый из них охвачен невыносимым отчаянием, и каждый из них пришел сюда под дождем, следуя за призрачной фигурой, согбенной и усталой, за своей Судьбой.
Но никто из них не жалуется; когда ты здесь, с тобой остаются только Джарвис, Фу-Манг, виски и твои собственные несчастья; мне кажется, что я должен повторить вам это.
Так проходят дни, недели, может быть месяцы в бесконечном ожидании.
Ожидании чего? Кто знает…
Иногда кто-то встает; на нем неизбежно останавливаются взгляды и мысли остальных. Возможно, к нему тянутся чьи-то руки, пытающиеся остановить его… Он подходит к стойке; Джарвис уже ждет его. В этот момент он выглядит мягким и довольным, словно удачливый нотариус.
Человек произносит несколько слов.
Джарвис в ответ кивает головой и указывает рукой направление, всегда одно и то же. Его тяжелая рука, словно стрелка ужасного компаса, всегда направлена в сторону чудовищного полюса.
Человек возвращается на свое место, бледный, как побеленная стена, и Фу-Манг наполняет его стакан. Потом наливает еще и еще…
Тогда раздается безмолвный крик боли и негодования всех присутствующих, объединенных своим отчаянием, но китаец продолжает ловко разливает виски, и каждый думает, что неизбежно придет и его очередь увидеть руку Джарвиса, протянутую в неизвестность.
* * *
Вечером совсем близко от нас заревела корабельная сирена.
По залу пронеслась волна тревоги, и из многих задрожавших рук выпали, разбившись, стаканы.
Но Джарвис покачал головой, и все вздохнули облегченно. Очередная доза алкоголя быстро позволила забыть о своих бедах.
Этой ночью мы вышли из бара тесной молчаливой группой и сразу же принялись жадно смотреть в конец улицы. Изредка проглядывала луна, отражавшаяся в воде; мрачный пейзаж казался мне странно знакомым…
* * *
Наступили дни, когда ожидание такой тяжестью наваливалось на плечи, что стонали плечи и трещали кости, словно атмосфера была заполнена свинцом.
Потом однажды вечером Джарвис появился среди посетителей бара.
Фу-Манг исчез, и никто не притронулся к стаканам.
В темноте раздавался крик ночных птиц; мы все вышли из таверны, не сводя глаз с рук Джарвиса.
В конце улицы с развалинами зданий в темной воде отражались огни парохода.
Красные и зеленые огни по бортам, желтые на мачте, словно судно находилось в открытом море. Я обратил внимание на фиолетовый фонарь, появление которого, несомненно, связано с чьей-то фантазией.
Все молчали; вокруг меня толпились подавленные, дрожащие люди. Внезапно я воскликнул, охваченный удивлением и ужасом.
Я узнал огни «Эндимиона».
* * *
Я отвернулся и бросился бежать, несмотря на сопротивление дикой силы, гнездившейся в моем сознании.
Я слышал шум шагов моих компаньонов, спешивших в дальний конец улицы; внезапно перед моим внутренним взором возникла жалкая картина стада животных, толпящихся перед входом на бойню.
* * *
Я уже сказал, что я знаю; правда потом осторожно добавил: я думаю, что знаю. Я ничего не знал.
Мое воображение грешит страстью к странным формам в бездне кошмаров.
Вампиры, сухопутные осьминоги, загадочные чудовища, вероятно, живущие в джунглях Гвианы или в бразильской сертао[86]86
Полупустыня с редкими тополями и ивами в Южной Америке.
[Закрыть]?
Мой жалкий разум, бессильно бьющийся, словно раненая птица, в тюрьме моего черепа, чувствующий инстинктом, что существует точка соприкосновения между Джарвисом и чем-то фантастическим, судорожно пытался понять, какое невидимое чудовище находилось в каюте «Эндимиона».
Вампиры, призраки, осьминоги – нет, дело не в них; джунгли и саванны существуют лишь как среда для их отвратительных копий.
Все должно быть иначе, и как я встретил в Копенгагене двух беглых французских каторжников, так и вы тоже сможете встретить других унылых клиентов Джарвиса в одном из портов с мрачными развлечениями.
Они спляшут вам чарльстон для садистов в каком-нибудь заведении Марселя с цветочным названием или сыграют с вами на большие деньги партию в покер-дис[87]87
Игра с использованием специальных пятигранных игральных костей и карт значением от 9 до туза.
[Закрыть] в Барселоне, и нечто жуткое и гнусное будет написано на их невероятно бледных лицах.
Неужели они забыли, как снаружи, за закрытыми ставнями проклятой таверны, поднимался болезненный шум? Можно было подумать, что там бились громадные раненые крылья, охваченные сверхъестественным отчаянием.
Разве им не казалось, что иногда ночами они видели на поросшей травой мостовой преклонивших колени лунных существ, исступленно молящихся звездам?
Возможно, это был всего лишь туман, скользивший мимо бара Джарвиса, способный, тем не менее, переживать сверхчеловеческую тоску.
Но я помню, и снова и снова мой жалкий разум задает свой вечный странный вопрос: кем был невидимый пассажир «Эндимиона»?
Призрак не использует пароход, подобно розничному торговцу-еврею.
Ха-ха! Вспомни-ка бабушкины сказки, которые не давали тебе спать по ночам от страха!
Но кто тогда повернул своей жертве голову на 180 градусов?
Кошмар, на мгновение прояснившийся, снова расплывается, но ужас остается во мне и мой разум сохраняет нечеткий туманный образ, зловещий и жуткий: стада животных, спешащих на бойню.
Я представляю, как мой несчастные товарищи бредут к отвратительному строению, на бойню душ!
Я снова вижу их… Да, я вижу их, моих товарищей по странствиям, моих собутыльников, моих однокашников, влачащих те же, что и я, цепи моряков, всех, кто знаком с улицей, лишенной надежды.
В ваших глазах живет тот же страх, вы стали скупо расходовать годы, дни и секунды, быстро убегающие неизвестно куда.
Угольно-черный туннель тайфуна, сетчатый камень с Цейлона, скорпион в янтаре или коралловая змейка; зловещий австралийский паук катило[88]88
Вид ядовитых пауков из рода чёрных вдов семейства пауков-тенетников, находящийся на грани вымирания.
[Закрыть], берега Азоров, светящиеся сумасшедшим прибоем, все это, когда-то только смешившее вас, теперь сдирает с вас шкуру отвратительным ужасом, потому что все это – Смерть. И вы никогда не уйдете в смерть, словно в спокойный сон.
Дорога для вас продолжается за парусом.
Вы добрались до конца улицы.
Пароходная прогулка при луне
(Mondschein-Dampfer)
Вы подпрыгнете от негодования, и, конечно, воскликнете, что я оскорбляю Париж, Вену и даже Лондон тем, что я люблю Берлин.
Когда после того, как я половину дня продежурил в казарме, поезд доставляет меня на Анхальтский вокзал, и у меня становится радостно на сердце, я чувствую себя душевным антиподом этого сумасшедшего города.
Главная радость Берлина – это постоянный шум, перемешивающий воздух за пределами городских валов и добирающийся до туч. Вы слышите шумное, беспорядочное ликование, но вы не догадываетесь о его причинах.
Мне это безразлично, говорю я вам; даже если я не вижу раскаленного ложа угля, разве я не могу наслаждаться огнем?
И шумное пламя Берлина, танцующее над невидимыми поленьями, ласкает мое сердце.
Кроме того, существует Эллен Кранер.
Эллен Кранер!
Она удивительно похожа на мисс Шпинелли, похожа настолько, что их можно посчитать близнецами. Любое зеркало треснет от злости, не сумев идеально отобразить их подобие.
Мисс Шпинелли обладает головокружительными способностями: она может идеализировать и очеловечить любой предмет – хлыст, плетка или даже лиана в джунглях мгновенно воспроизведут облик Шпинелли, созданный в вашем сознании.
Но она артистка, способная немедленно запечатлеться в вашей памяти и заставить вас забыть любую другую женщину, появившуюся на сцене до нее.
Эллен Кранер, она же фрау Бор, умело управляет хозяйством моего друга Хайнриха Бора; я снимаю у нее комнату в чудесных апартаментах на Мендельсонштрассе.
Я знаю, что мой друг Хайнрих отдает предпочтение двум дамам: фрау оберстлейтенанту Франзен и фрау советнику юстиции Вильц, как известно, дамам крайне некрасивым. Не имея возможности волновать тайные фибры их розовой плоти, он извлекает стоны из подушек в номерах услужливых отелей, куда он завлекает этих дам, благодушно переживающих свои преступления.
Однажды утром, когда Эллен принесла в мою комнату довольно странный завтрак, который она, очевидно, в припадке безумия, украсила селедкой и соленым хреном, я придержал ее за полу домашнего халата с болгарской вышивкой. Опустив свою очаровательную головку на мою пуховую подушку, она как будто хотела сказать: «Да, конечно… В конце концов, почему бы и нет!»
С того утра каждое пробуждение сопровождалось счастливым громом фанфар для моего тела; подлинное волшебство сверкало, словно луч солнца, поджаривающий воспринятую с таким пренебрежением селедку.
Почему-то моя гордость не думает о триумфе ее парижской копии…
Впрочем, все, что я сказал выше, следует поместить в скобки, так как эти сведения мало соответствуют сути рассказываемой мной истории – таким образом я, в какой-то степени, приношу читателю свои извинения. Разве тому, кто сказал, что любит Берлин, не требуется оправдание перед лицом всего мира?
* * *
Я продолжаю с легким чувством стыда: Эллен превратилась в смысл моего существования.
Как она прочитала мои мысли, разгадала этот столь близкий образ, который привел меня к ней?
Потому что она прочитала их…
– Ты действительно любишь меня? Ты говоришь, что любишь Берлин? Нет, я знаю, что ты любишь Париж…
Это не так, я действительно люблю ее; любая мелочь свидетельствует об этом. Например, на ее туалетном столике стоит большой флакон с лебединой шеей; «Fruhlingsduft»[89]89
Весенний аромат.
[Закрыть] – это ее аромат.
Когда прошедшая мимо дама или распахнутая на мгновение дверь парфюмерной лавки овевает мое лицо душистой волной, я тороплюсь на Мендельсонштрассе, чтобы вдохнуть аромат платья или тела моей любимой.
Когда немецкие женщины стараются стать красивыми, они превосходят в этом стремлении всех женщин Земли. Когда вы любите их, то это столь же ужасно, как и любить некрасивую женщину: ваша любовь устремляется к непониманию, вы любите нечто, скрывающееся за вуалью абсолюта, и сверкающее безумие порхает вокруг вас.
Прекрасная женщина – это драгоценный цветок, случайно распустившийся на лужайке жизни, но красивая немка, как мне кажется, незаметно появляется из искусно и коварно созданного парника, в котором под защитой густой тени бережно выращивают мандрагору…
Нет, я действительно люблю Берлин, потому что его воздухом дышит Эллен; я люблю Германию из-за нее и ради нее; я полюбил бы дьявола и дракона Фафнира, будь она их дочерью.
Стоп, стоп!
Что тут заставил меня наболтать мой мозг нетрезвого животного?
Ведь я всего лишь бедолага, которому красавица-кокетка ранит душу и терзает сердце…
* * *
Однажды вечером из тайного сада дохнуло ароматом жимолости и сирени.
Я колебался, не желая нажатием выключателя прогнать из моей комнаты короткое волшебство утренних сумерек, когда легкий стук родился в воздухе, словно моего уха коснулась рука ребенка.
Вошла Эллен; ее короткое платье китайского шелка пульсировало в лучах утренней зари.
– Мой дорогой, – сказала она, – мой дорогой друг (ее «Весенний аромат» – амбра, только что распустившиеся розы, примятая трава, – обеспечивали ее появлению пьянящую атмосферу) – я твоя на всю ночь, потому что Хайнц уехал, и ты можешь похитить меня.
– Похитить тебя, моя Эллен?
– Сегодня вечером на Мюгельзее[90]90
Озеро на востоке Берлина площадью 2,5 на 4,5 км, одно из нескольких десятков озер и водоемов Берлина.
[Закрыть] состоится прогулка на пароходе при лунном свете.
Я знаком с этим странным обычаем ночного плавания, к которому так тяготеет немецкая душа.
Пароход, выключив все огни, скользит по зеркальной поверхности ночного озера; три или четыре сотни пассажиров зачарованно наблюдают, как над береговыми рощами медленно всходит луна.
Пароход почти останавливает машины, и те гудят не громче, чем какой-нибудь счастливый шмель.
Иногда в тишине раздаются печальные звуки гавайской мелодии, исполняемой на банджо и похожей на звон хрустальных кристаллов, а иногда в ночи рождаются звуки старинной итальянской баркаролы; обычно же тишину почти не нарушают вздохи, тихий плеск воды при ловле кувшинок, полный томления шепот…
Только после причаливания к небольшому островку под названием Мюгельвердер, дремлющему на поверхности воды, вспыхивают китайские фонарики, загораются лампочки в фарфоровых цветах над ресторанными столиками, и тишину разрывают мелодии американских дансингов в исполнении известных во всем мире инструментов, вплоть до губной гармошки и тростниковой дудочки.
– Эта ночь для нас двоих, на озере, в свете луны, – шепчет Эллен.
Мне приходится – с жалкой улыбкой – принести жертву меланхоличному германскому божеству.
Около полуночи такси доставляет нас к причалу, у которого дымит большой пароход в розовых лучах театрального прожектора.
В машинном отделении раздается негромкий звонок, и причал начинает медленно отступать к призрачному городу.
Прожектор заиграл красками – желтой, зеленой, фиолетовой, кроваво-красной – и погас.
Облака отделились от мрачной стены прибрежной рощи; луна почему-то не появлялась. Беззвучный кельнер с прикрепленным к жилету карманным фонариком, предлагал пассажирам чашки с горячим грогом. Механик в машинном отделении просвистел несколько тактов парижского танго. Рулевой коротко выругался по громкоговорящей сети.
Потом он замолчал, и из трубы взвился в воздух фонтан искр – раскаленной угольной крошки.
Наши соседи громко зашуршали промасленной бумагой – сильно запахло колбасой, раздались звуки жующих в темноте ртов. Луна все еще не появлялась. Цепочка газовых фонарей на берегу обрисовала контуры бедного пригорода; одна из «хижин» светилась красным.
* * *
Возле острова уже дымил другой пароход любителей лунного света; всеобщее безумное веселье доносилось до нас, и его эхо вибрировало среди наших пассажиров.
Над неподвижной водой песни летели навстречу друг другу. Невидимая глазу суета заставляла пульсировать розовые и зеленые лампионы; несколько римских свечей глухо взорвались в затянутом дымкой воздухе.
– Добро пожаловать! Добро пожаловать! – орали клиенты из-за столиков, залитых фиолетовым светом.
Подойдя ближе, мы разглядели, что палуба парохода была заполнена людьми в масках, восторженно приветствовавших наше появление; забыв о поэтичности лунной ночи, они вели себя, словно вырвавшиеся на свободу дикие звери.
Компания Пьеро и мандаринов увлекла нас в ресторанчик на берегу, где на столиках в бокалах пузырилось слишком розовое и слишком пенящееся шампанское, напоминая мыльную пену.
Какой-то ковбой обнял за талию Эллен и увлек ее в круг буйных танцоров, гулко топтавшихся на досках площадки. Другой персонаж, загримированный под оперного Мефистофеля, звонко чокнулся со мной своим бокалом:
– Прозит[91]91
Застольный тост, пожелание здоровья в западных странах (Ваше здоровье! На здоровье! Будьте здоровы! За ваше здоровье и т. д.).
[Закрыть]!
С этого момента мне приходится совершать заметное усилие, чтобы вспомнить последовательность событий этой ночи.
Прежде всего, Эллен только время от времени появлялась возле меня, чтобы отхлебнуть немного шампанского, протянуть мне пальчики для поцелуя и снова исчезнуть в толпе танцующих.
После ковбоя ее подводили к моему столику и тут же снова похищали то шотландский горец, то корсиканский бандит, то пузатый Будда.
Я не говорил вам, что я не танцую? Память, оставленная пулей.
Очень скоро хоровод стал совершенно беспорядочным, и вскоре суматоха вокруг меня превратилась в буйный калейдоскоп красок.
– Быстрее, быстрее, ускорим вращение, – ухмыльнулся рядом со мной вечный студент, и, как на цветовом диске Ньютона, все вокруг меня стало молочно-белым.
Потом ко мне прицепился Мефистофель, заставлявший пить после его беззвучных тостов. Иногда он останавливал лакея и снимал у него с подноса очередную сигару.
Эллен давно не возвращалась.
Мне казалось, что было очень и очень поздно.
Неожиданно я заметил, что танцы прекратились, и публика столпилась вокруг столиков, усталая и бурно обменивающаяся впечатлениями.
Один из пароходов внезапно включил сирену.
Эллен не возвращалась.
Толпа двигалась к открытым дверям; мощные ацетиленовые светильники заливали светом помещение. Мне кажется, я продолжал звать Эллен, но мне лишь со смехом отзывались пьяные пассажиры.
Ко мне обратился сосед:
– Она не придет.
Я раздраженно посмотрел на него.
Человек пятьдесят выпивох все еще оставалось возле столиков, требуя шампанского; они кричали, что у них достаточно времени.
Тревога войлочным комом застряла у меня в горле. Внезапно я увидел часы, и меня потрясло приближение утра.
Эллен среди окружающей меня толпы не было.
– Она не вернется, – спокойно сообщил мой сосед в маске.
– Что вы можете знать об этом? И, вообще, не вмешивайтесь не в свое дело.
Кажется, я еще что-то говорил, кто-то обращался ко мне; наконец, я понял, что внимательно слушаю этого типа, сбежавшего с Блоксберга[92]92
Название многих гор в Германии, где, по народным поверьям, ночью собираются ведьмы на шабаш.
[Закрыть], и предлагавшего мне отыскать Эллен с помощью «Магии, свойственной его личности».
Остатки так называемого рассудка заставили меня сказать ему:
– Вы просто спятили.
Только теперь я понял, каким он был гнусным типом, так как он неожиданно закричал, обращаясь к толпившейся вокруг столиков публике:
– Идите сюда! Посмотрите на господина, потерявшего свою жену! Подходите, зрелище бесплатное!
«Мне нужно ударить его», – подумал я. Но почему-то я ничего не сделал.
К нам подошло несколько человек, рассчитывавших на последние крохи развлечения.
– Я дьявол, и я готов отдать ему жену в обмен на его душу!
– Душа за женщину, – выкрикнул кто-то из присутствующих, – вам не кажется, что это слишком дорого?
– Ты не возьмешь мою душу за газовую плиту с непрерывным пламенем? – хихикнул какой-то подвыпивший парень.
– Старая комедия, – зевнул толстяк, задрапированный в пурпурный плащ. – Я пошел.
Еще один пьянчужка предложил обменять свою душу на авторучку или, на худой конец, на каминные часы из пластмассы.
Мефистофель даже не посмотрел на него; он энергично размахивал настоящим пергаментом.
– Подписывайте! – гаркнул он, явно под воздействием большой дозы спиртного. – Подписывайте, и вы получите ее.
– Подпишите, раз уж ему так хочется, – обратилась ко мне какая-то женщина. – Не стоит ему противоречить, мало ли на что он сейчас способен.
Короче, публика вокруг нас веселилась от души.
– Он не решится! Нет, он подпишет! Не подпишет! Подпишет!..
Я заставил себя засмеяться, хотя у меня от ужаса волосы встали дыбом.
– Ну, давайте, посмотрим, на что вы способны! – небрежно бросил я.
Мефистофель сунул мне в руку миниатюрную дамскую авторучку, причем с такой силой, что оцарапал ладонь.
Моя подпись оказалась ярко-красной.
– Договор заключен! – заорал он.
В этот момент распахнулся натянутый в глубине помещения занавес; из-за него поспешно выскочил римский воин и появилась Элен, розовая, с растрепанной прической и измятым платьем, откровенно свидетельствовавшем о характере их занятий.
Смеющаяся публика быстро рассеялась, молодой человек радостно приветствовал скандальную ситуацию.
– Вы довольны? – ухмыльнулся мой дьявольский сосед.
– А начальник-то вокзала… ку-ку! – пропел по-французски подвыпивший молодой человек.
На пароходах в последний раз взвыли призывающие пассажиров сирены; отупевшие от бессонницы кельнеры выключили разноцветные гирлянды.
Мы направились к судну, Эллен и я, не держась за руки.
Оглянувшись на слабо освещенный ресторанчик, я успел увидеть жуткое зрелище: Мефистофель выкалывал авторучкой глаза юному французу.
* * *
– Оставьте меня, вы пьяны, – сказала Эллен.
Густой туман опустился на озеро, и мы некоторое время шли сквозь пепельное облако.
Пассажиры спустились на нижнюю палубу, где для них были приготовлены горячие напитки; несколько человек уснули и теперь громко похрапывали прямо на ступеньках трапа. Мы остались одни на палубе.
– Когда вы пьяны, я вас боюсь, – прошипела Эллен.
– Я видел вас, – пробормотал я, и ревность сжала мне сердце.
Но в ярость пришла она; я никогда не думал, что ее восхитительные губки могут выплевывать такие ядовитые фразы.
Ее пальцы с блестящими, словно небольшие лезвия, ногтями уже мелькали перед моим лицом, вблизи от моих глаз.
В этот момент я поднял руку, и этот жест оказался роковым.
Мы стояли перед выходом на наружный трап; предохранительная цепочка не была натянута.
Она отступила; на ее лице распахнулись огромные глаза, такие детские, такие испуганные – она словно хотела произнести молитву, попросить прощения; в последний момент она попыталась найти опору позади себя…
Черная вода приняла ее без всплеска, без крика. Она уходила под воду, почти не касаясь ее, словно хорошо смазанный предмет.
– Женщина за бортом! – заорал я.
Рулевой машинально повернул руль, рухнул головой на чашку, лопнувшую, словно электрическая лампочка, и пробормотал:
– Кто-то за бортом… Где-то за бортом…
В салоне все храпели, устроившись в самых нелепых позах.
Две женщины были почти полностью раздеты; в волосах одной из них дымилась сигарета, распространяя отвратительный едкий запах жженых волос.
– Человек за бортом! – прокричал я в машинное отделение.
Лицо с воспаленными глазами глянуло на меня сквозь решетку.
– Ты пьян, приятель, – пробормотал чей-то голос.
Я снова кинулся в салон.
– Помогите! Женщина упала в воду…
Ко мне, наконец, подошел кельнер.
– Не стоит так кричать, господин, вот ваш напиток. – И он протянул мне бокал с отвратительной розовой пеной.
– Не стоит поднимать шум, я же сказал, что вы никогда не сможете потерять ее! Неужели вы мне не доверяете?
Я увидел рядом с собой Мефистофеля.
Это была все та же маска с острова, но теперь она стала удивительно реальной. От нее исходило ощущение подлинного ужаса.
Внезапно мне показалось, что этот человек был загримирован, и что теперь он постепенно избавлялся от грима.
На его лице появилась не гримаса, искажающая черты, а какие-то жуткие стигматы.
Он поднял на меня желтые глаза, полные мрачной злобы, а потом, уронив стул на спящего, попятился к лестнице.
– Договор подписан, так что волноваться вам ни к чему.
Уродливая рука помахала в воздухе пергаментом, словно прощальным платком.
Над озером разгоралась утренняя заря.
Посыпался частый дождик.
Пароход причалил к мокрому пирсу, официантка в ярко-зеленом плаще мелькала в толпе с подносом, заставленном рюмками со шнапсом.
Отдаленные глухие раскаты грома помогали проснуться городу.
* * *
Я не стал возвращаться на Мендельсонштрассе. Я принялся скитаться.
Трижды я посетил морг, присматриваясь к спящим за стеклом мертвецам.
Эллен среди них не было. Озеро Мюгель не захотело отдать ее тело.
Также три раза я побывал на Анхальтском вокзале, собираясь уехать, и каждый раз я тяжелыми шагами возвращался в сердце Берлина.
Я обнаружил странные улицы с высокими зданиями, из которых, как мне казалось, всматривались вдаль мертвенно-бледные лица.
Другие здания выстраивались в шеренги в гнилой сырости бесконечных пустых улиц, на которых то тут, то там шевелились редкие тени.
Однажды среди гигантских ангаров, своды которых закруглялись на большой высоте над обширными площадями, заполненными тенями, я увидел маленького человечка, скорчившегося на небольшом свертке. Подойдя ближе, я увидел, что он был задушен куском ткани, торчавшем у него изо рта и создававшем впечатление бесконечно клубившегося перед ним облака бурого дыма.
Этот убитый или самоубийца, окруженный одиночеством, показался мне квинтэссенцией ужаса, афоризмом мерзости.
Я тогда сформулировал этот глупый афоризм, впрочем, не имевший никакого смысла, как и вся моя жизнь: «Берлин – это смерть».
Эта фраза – «Берлин – это смерть», – укоренились в моем мозгу: и я с трудом удержался, чтобы не произнести ее официантке, которой заказал картофельный салат с ливерной колбасой.
Чтобы перекусить и выпить, я уединялся в глубине тупиков, истерзавших стены. В них нужно было пробираться наощупь. Чешуя кирпичей при этом касалась сразу обоих моих плеч. Я узнал, как пахнут горячая глазурь в мастерских горшечников и кровь в небольших подпольных бойнях, где изготовляли слишком розовые «деликатесы» и подавали густое красное вино.
Да, немало пришлось мне перепробовать берлинского гуляша с запахом расположенного рядом газового счетчика!
Запах красного вина, которое в сочетании с морским бризом можно пить большими глотками, как ликер, охлажденный льдом, кажется отвратительным в казематах большого города. Он сгущает его атмосферу, он кажется густым, словно кровь мертвеца. Тем не менее, он походит на свежий сок деревьев, погибших тысячу тысячелетий тому назад…
Но он уместен вблизи от моря, где придает пряность воздуху; словно щепотка соли в соусе, он делает его более привлекательным, более приятным. Он кажется вам тошнотворным, подобно тому как в далеких от моря городах запах асфальта кажется ужасным.
* * *
Волна холодного воздуха нахлынула с Балтики. Вы знакомы с резкими похолоданиями в Берлине, которые внезапно поражают город теплым солнечным днем?
Похолодание обычно продолжается час, два или три, очень редко – целый день. Короче говоря, время, достаточное для того, чтобы заполнить больницы пациентами со скоротечной чахоткой. Очень странным кажется то, что несколько льдин, принесенных ветром с Ботнического залива, способны, после того, как потопят одну-две баржи с Аландских островов, довести до смерти от кашля лодочников с озера Мюгель, превратив этих бравых парней в болезненных призраков, выкашливающих свои легкие.
В пыльном парке, где с неба сыпались мелкие снежинки, мы занимали скамейку с чугунными головами геральдических драконов. Мы – это я и польская студентка.
Она листала тетрадь с конспектами.
Холод был таким свирепым, что она скорчилась под своим бежевым плащиком, словно наказанное животное.
Вспыхнувшие за кустами бересклета яркие фонари зала Цилерт подали нам сигнал, словно огни спасительной гавани.
– Пойдемте, выпьем горячего кофе, – сказал я, и она послушно последовала за мной с видом благодарного зверька. В заведении поспешно набивали сухими дровами и кусками угля две больших печки со слюдяными окошками; фиолетовые огоньки уже перебегали по поленьям, политым небольшим количеством керосина.
В зал входили все новые и новые посетителя, которых загнало сюда дыхание севера; они шумно рассаживались за столиками, стараясь оказаться как можно ближе к источникам тепла.
Из пианино полились звуки арпеджио; запели струны, высокие ноты зазвучали за кулисами небольшой сцены, увешанной батиком.
Горячий кофе, жгучий пунш, желтые и розовые бутерброды заполнили столы с керамическими столешницами.