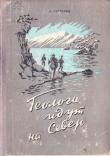Текст книги "Костер в белой ночи"
Автор книги: Юрий Сбитнев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Бреду за нартой, ощущая под снегом подошвой ребристое тело реки. Высокие, по самый пах гурумы, шитые из оленьих камусов, теплы и легки. Через мягкую их подошву слышу неторопливый ход большой воды под молодым покровом льда.
В жизни не носил такой справной, добротной и красивой обуви. Гурумы белые, с темными клиньями серой шерсти, в затейливом узоре бисера, рассыпанного от ступни до голени, с прошивом поверху из красных, синих, белых треугольничков, кружков, квадратиков кожи.
Медленно уходим все дальше и дальше вверх по реке. И кажется, что время, само время, вполне материально, шагает рядом с нами, не вырываясь вперед, не отставая. Мы словно бы слились с ним. Мы часть одного целого, собранного воедино, чего-то громадного, мудрого. И нет ни опасения, ли страха, ни суетни, ни тревоги перед тем, что позади, впереди, обочь нас. Нет – потому, что мы частица одной великой гармонии. Никакая сила не способна сейчас разрушить ее. Мы в ней – крохотная неотъемлемая частица. Время материально, я могу потрогать его рукою. Вот оно, идет рядом с моим сердцем, с током моей крови. Я – одно целое с тем, что породило меня на свет и что снова возьмет в себя в означенный час, хотелось ли этого мне или нет. Я не волен ни в своем рождении, ни в смерти. Даже в смерти. Я – природа. Одно из коротеньких мгновений ее вечного движения и обновления. И сейчас, как никогда, слит с ней, с моей повелительницей. О, это чувство единения, как редко приходит оно к нам, как редко, как редко!.. Чувству этому нет равных из всех прекрасных чувств, которыми так щедро одарен человек и которые часто разменивает он на суету придуманных им же самим забот. Я каждой клеточкой, каждой капелькой крови, каждым самым крохотным ядрышком, что ли, чувствую тебя, моя вечная колыбель – мое мироздание.
Что это? Суеверие? Отречение? Ощущение тайны? Загадка ли студеного Севера? Снега ли ворожат мне? Или это то, чему нет объяснения? Что это? Что?
Молчат белые леса, ночь молчит, оснеженно мудро.
И только по всему миру от края до края:
Кон-ги-лон – кон-ги-лон – кон-ги-лон.
Первая наша остановка в зимовье Урамы – большая гора.
Распрягли оленей. Выпустили их в тайгу кормиться до утра. Мы в переходе, обычай «первой звезды» уже не властен над нами, теперь только движение все дальше, вперед и вперед. Через тайгу, по рекам, озерам, широким безлесным морям, что зовутся тут тундрами. Все дальше и дальше к черным борам промыслового угодья.
Зимовье маленькое, но удобное – все под руками. Аккуратно сложенная смолистая стопка дров в переднем углу; прилаженный у крохотного оконца столик, каменка, широкие нары, по матице густо набиты деревянные клинья, на них развешаны продукты: сухари, соль, сахар, крупа, на свободные клинушки вешаем для просушки одежду, обувь. На столике чуть чадит густой копотью керосиновая лампа, трещат поленья в подтопке, и мягкие отблески огня шарят по чисто выскобленному полу.
Хорошее зимовье у Макара Владимировича. За дверью по всем четырем стенам высокие поленницы заготовленных на зиму дров, пиленных и аккуратно расколотых в плашку. Живи хотя бы месяц безвыходно в зимовье, все под руками, все приготовлено загодя. Таких зимовий на пути к Усть-Чайке три. Рубил их Макар Владимирович еще до революции вместе со ссыльным поселенцем Иваном Рыжовым и двумя его товарищами. Поселенцы тогда в тайге основали заимку – три избы, лабазы над рекой Тетеркой. Туда и просекли путь, срубили зимовья. На заимке в любое время припас приобрести можно было. Охотникам большая помощь вышла. Купцам, что в Буньском торг вели, плохо. Пошла пушнина, минуя их руки на Тетерку в товарищество, так звали поселенцы свое предприятие.
Первый рассказ Ганалчи, услышанный мной в зимовье Урамы
Три года торговал Иван Рыжов со товарищи, три года откочевывали после промысла на Тетерку охотники.
На четвертый, летом, потянуло по тайге дымом, ухнули, раскололись, понеслись по-над водой выстрелы. Пошел гудеть да яриться по тайге огонь, отпугивая подальше к большой воде зверя, сгоняя с кочевий семьи охотников. Только через месяц пробрался на Тетерку по жарким, еще курящимся кислым дымком пепелищам Макар Владимирович. Все вокруг слизал огонь, все прибрал, испепелил в серый прах избы, лабазы, добрых людей. А может быть, и успели уйти от лихой беды люди?
Не ушли.
Обгоревшие кости двух из них нашел охотник на береговом каменистом свалке, там, где когда-то буйно кустились тальники. У каждого в черепе дыра – след винчестерной пули. И третьего нашел Макар Владимирович – друга своего Ивана Рыжова. Лежал Иван, на каменистом островке протоки, охватив землю раскинутыми руками, уткнувшись кудрявой головой в ноздреватый серый камень. Закольцевал его огонь на малом островке, не выпустило по реке узкое, заросшее деревьями горло протоки. Жив был Иван, ранен только, по ногам хлестнул его свинец. Когда уходил он в ночь от горящих изб. А может быть, и специально перешибли ему ноги, бросили на островок – заживо сгорай. Так оно и было, прихвачен Иван за шею стальною цепкой к серому ноздреватому камню. От жары, от потери крови умер в огненном аду.
Схоронили прах Ивана Рыжова сотоварищи среди пепелища, где стояли на взлобке избы. Поставили три близнеца-креста. Для порядка, для того, чтоб отметить место памятью. До сих пор там чахлая, так и не оправившаяся за полвека тайга – бадара – пожарище. А вот зимовья по пути к Тетерке целы, служат людям.
Тогда в тайгу нагрянуло начальство. Взяли пятерых охотников. Макара Владимировича искали, не нашли, далеко откочевал он с семьей за Авлакан-реку к тундрам на Олимпею. Те пятеро домой не вернулись. А тот, кто учинил черное дело летней ночью на Тетерке, тоже недолго по тайге шастал. Узнал его по винчестеру, по следу пули в черепе да на ногах Ивана Рыжова, узнал Макар Владимирович.
Приказчик купеческий Левка Сом никто не знает куда канул.
Знает один только Макар Владимирович да Дормидонт Палыч – друг Рыжова. Ему все рассказал охотник, все как было, не видел того, да только точно знает. Ганалчи зря не скажет. Ганалчи зря не обидит.
Во всем признался Дормидонту Левка. Сам со страху в петлю залез. Сам чурбачок из-под себя выбил. Так и истлел среди гиблой мари на сухой лиственке. Ни зверь, ни птица не тронули нелюдя. Сгинул, как будто и не было его на земле. Только зло осталось. Зло живуче.
Запись XII
Усть-Чайка
Семь оленьих переходов позади. Семь коротких зимних дней, семь голубых ночей с коротким сном, с отдыхом, пока кормятся, копытят вокруг привала снег олени.
Кожа на лице моем словно бы подсохла. Туго обтянула скулы. Пообветрились губы, щеки зачернели, прихваченные студеным ветром дороги, чуть пощипывает и заметает слезой глаза – продымились у каменок и костров, не свыклись еще с белым покровом тайги, но во всем теле легкость, какая-то обретенная вдруг пружинистая, сила, ясность в сердце, радость в крови.
Несколько недель мы будем промышлять одни в черно-хвойных, без предела, Усть-Чайкинских урманах, пока не подойдут к нам, охотясь дорогой, Дарья Федоровна с внуками и Гошкой. Легли урманы по земле, густые, то синие, то аспидно-черные, то изумрудно-светлые, легли по земле хребтиками и сопками – словно бы накатистые волны моря-океана. Замерли окованные тишиной ельники, кедровники и сосновые мяндачи – трудно стоят на земле ствол к стволу, крона к кроне. И только у речушек да заметенных по береговой срез ручьев расступятся несколько, потеснится, дадут побелеть чистым телом березам, поиграть мерным серебром ольховникам, вспыхнуть накоротке синему с едва уловимой лиловенькой многоветвью черемух, и снова сомкнутся непроглядной могучей стеной.
Встали мы кочевьем в широком распадке двух хребтов – Малого и Большого Аянчу. Аянчу, объясняет Макар Владимирович, – добрый, хороший.
Хороши хребты – окатисто ушли в небо; Малый, только одно что так называется, под стать Большому. На кочевье три больших чума, белыми вулканами стоят друг против друга. Два потухших, один вытянул в зенит ровный столб сиреневого дыма. Не шелохнется дым, не дрогнет, медленно по прямой уходит ввысь, тает в небе.
Забираюсь все выше и выше по Малому Аянчу. Гляжу вниз. Слушаю, как чем-то постукивает в нежилом чуме Макар Владимирович. Звук, как расколовшаяся льдинка, долго скользит в тишине и замирает едва различимым тоненьким перезвоном в тайге за распадком. Солнце, отяжелевшее, укутанное в белый малахай стужи, легло на вершинный ельник, чуть заметно подрагивает, готовое вот-вот снова скатиться за черную закраинку горизонта. Шуршит под камусным подбоем лыж снег, шуршит, пощелкивает вокруг возмущенный движением воздух.
Покой в мире. Покой.
И только громко, на всю тайгу, бьется мое сердце. Но и в нем покой должного движения. Удар за ударом, удар за ударом – ничто не мешает отстукивать время в груди, проталкивать к каждой клеточке тела живое тепло крови. Удар за ударом…
Я уезжал из дому. Спешил к автобусу, потом к самолету. Мчался над миром, перегоняя время, летел навстречу утру, и стремительно белело небо под дробный рев турбин. Толкался в сутолоке аэровокзала уже далеко от родного города… И снова, уже с меньшей скоростью, пролетал над белой землей, а потом несли меня четыре крыла хлопотливой стрекозки – «Антона», – и снова принимала к себе на грудь земля, и бежали олени Авлакан-рекой, Демой, одной и другой безымянными речушками, озером, тундрами, и снова рекою, и бубном звенела в стеклянном небе луна, и тонко взвизгивал под нартой чуюр – прибитый передними упряжками снег, и весело покрикивал на оленей Макар Владимирович: «Чох-мох», – и все кружилась, кружилась вокруг меня белая земля, откатываясь назад в этом вечном хороводе движения…
И вот стою над кочевьем, над белым столбиком дыма, над звуками, что льдинками раскалываются там, внизу, стою на своих ногах, нет ни автобуса, ни лайнера, ни «ЛИ-2», ни трудяги «Антона», я могу двигаться так, как позволят мне мои ноги, мое сердце. Мое движение подвластно только мне. Я слушаю радостный стук своего сердца. Время поет в нем, отстукивая минуты жизни – радостные минуты.
Что ты стоишь, человек, если ни разу в своей жизни, дерзая, трудясь, мучаясь, любя, негодуя, выдумывая и совершая, строя и руша, ни разу в жизни не вслушаешься в голос сердца, пораженного той красотой и покоем, который окружает тебя на твоей земле с первого твоего крика рождения?
Остановись на миг! Вглядись в добрые глаза земли! Ты прочтешь все в этих глазах! Все, что тебе нужно, ЧЕЛОВЕК!
Макар Владимирович обходит свои угодья. Делает он это не торопясь. Хозяйство у него большое. В верховьях трех ручьев еще с осени сладил привадные амбарчики. Срубики из колотых кругляшей с отверстиями. С осени начал прикармливать соболя. В каждой из таких вот ловушек проквашенное глухариное, заячье или рыбье мясо.
Каждый срубик-амбарчик стоит на высоком месте в верховьях ручья. Так, чтобы запах от привады разносился на многие километры.
Всю осень до снега и потом еще по первому белотропу метался по тайге охотник, подбрасывал в ловушки приваду, выслушивал, выглядывал тайгу.
Сейчас, словно бы к назначенному часу, идет на работу. За плечам – поняжка, капканы, легонький топорик и пальмичка. Груз немалый, но старый охотник идет легко, протаптывая лыжами широкий след. Я, нагруженный тоже капканами, частенько сбиваюсь с шага, то отстаю, то нагоняю Макара Владимировича. Порою, задохнувшись, хватаю ртом воздух, и тогда словно бы каленым железом обжигает горло.
– Пообвыкнешь, однако, – говорит Макар Владимирович мне. – Пообвыкнешь. Шибко здоровый, тяжелый, однако, паря, лишинку сбросишь. Суше станешь. Ого-го-го бегать будешь! – И советует: – Ртом, однако, свет не хлебай – остудишься.
Идем густым, непроглядным урманом, кажется, войди в такую вот темень деревьев – запутаешься, сомлеешь от бесплодной борьбы с колодником, валежником, с зарослями багульника, жимолости, кустовника, еще не укрытого снегом, исхлестают тебя, издерут в кровь ветви, низко припавшие к земле, истыкают всего, как стрелами, острые сучья. Однако идем мы свободно, умно прорубленным путиком.
Сколько раз, попадая в тайге на охотничью тропу, воздавал я в сердце хвалу человеку-первопроходцу. Негромко воздавал, сердцем, душевной, без слов, благодарностью. А сейчас так и хочется крикнуть во все легкие: «Слава тебе, неизвестный человек, проложивший среди векового бездорожья тропу! Поклон тебе, первопроходец!»
На любой, даже очень точной карте не найти предтечи дорог, магистралей, трактов – тоненькую паутинку путика. Именно паутинку, потому что вся тайга, где хотя бы раз ступала нога человека-промысловика, затянута этими ходовыми в один след тропочками. Ту, по которой идем мы, проложил Макар Владимирович. И долго еще жить ей, долго водить тайгой человека, может быть, не раз выручать его, заплутавшегося в роковую минуту жизни. Потому, что все путики Макара Владимировича в конце концов выводят к зимовью, к чуму, к землянке, в которых всегда есть и огонь и еда.
Много за свою долгую жизнь проложил троп в тайге Макар Владимирович. Много. Сложи их все вместе, и получится широкая ладная дорога. На всем нашем пути охотник работает. Он не только приглядывается к следам на снегу, к лункам от упавшей с ветвей кухты, к оспинкам шишек, срезанных зверем или птицей, он нет-нет да и подправит пальмичкой тропу – отсечет разросшуюся ветвь, уберет острый сук, подрежет вымахнувший на тропе куст… Он словно бы хлопотливая хозяйка в своем дому – ни минуты без дела, до всего глаз, до всего руки.
Сегодня мы идем тайгою без собак. В этом урочище Макар Владимирович расставит по звериным сбежкам капканы, установит древние самоловы кулемки, пасти, плашки. Делает он это быстро, словно бы играючи. Легко, с одного удара валит невысокое дерево. Вершинка его на снегу, комель на пеньке. В комле в один миг высек площадку, быстро протер сохатиной печенью прокаленный на огне еще в чуме капкан. Рассыпал вокруг перья птицы, подвесил приманку. Комель и пенек тоже протер печенью, ловко припорошил все вокруг снежной кухтой, стряхнув ее с деревьев, и заспешил дальше.
Целый день без отдыху, без привала бродим мы тайгой, медленно замыкая круг своего пути. Как ни проворно работает Макар Владимирович, а за день не управились со всеми капканами и ловушками. Заночевали в белом чуме. Возник он неожиданно среди темных таинственных елей. Маленький, заброшенный белым наволоком снега, с черной дырой входа, был он полон какой-то тайны, словно бы возникшей по сказочному велению. Удивительное это чувство – встретить вдруг среди глубокого безлюдья, неожиданно так, словно бы крик, человеческое жилище. И обрадует оно тебя и вселит в сердце тревогу, страх даже, своим молчаливым, да что там молчаливым – каким-то мудрым, хранящим в себе великую тайну, видом. И покажется вдруг, что из черного провала лаза, из каждого уголка жилища смотрит на тебя дремавшее тут время. Словно бы все, кто жил или отдыхал в нем, присутствуют здесь в нежилой холодной темноте. Но, пересилив это чувство, устало затянешься под крышу, чиркнешь спичкой, запалишь бересту, в каменке ли, в печурке или просто в обложенном камешником кострище, бросишь на рыжие лоскутки пламени одну-другую грудечку сушняка, подкинешь сухого, лученого смолья, и запляшут вокруг теплые всполохи, засветится, заиграет в тысячи ярких звездочек-блестинок иней на стенах, пахнет в лицо таким милым в дороге дымом – хорошо станет. Жарко палит в Белом чуме кострище. Дым покружился над устланным лапником полом и разом вдруг завис над полымем, метнулся в черный пятачок хонара, в студеное небо, в ночь. Смыло жаром белую бахрому инея, высушило влагу, пришло тепло. Жильем запахло в Белом чуме, домом.
Макар Владимирович туго набил чистым снегом котелок, повесил его над огнем, придвинул ближе к кострищу сложенные у входа промерзшие шкуры – отогревает постель. Я вышел из чума за дровами и замер. Глубокая ночь лежала уже над землей. Звезды осыпали небо, и черная хвойная тайга в белом убранстве первой, еще нетяжелой опуши снега показалась вдруг мне светлым, насквозь проглядным веселым березняком. И за этой вот легонькой ситцевой рощицей, то затухая, то снова набирая силу, бродили в недосягаемом пространстве пожиги северного сияния.
Второй рассказ Ганалчи, услышанный мной в Белом чуме
Приближалась осень. Она шла с Севера с едва уловимым дыханием студеного моря, с первой хрусткой изморозью по утрам, с тоненьким звоном белых заберегов на озерах, с запахом отживающей листвы и с одиноким криком кедровки.
Чуть озолоченные березы, багровые фонари черемушника, первые лодочки листьев на воде и все еще по-летнему жаркие солнцепеки.
С каждым днем, с каждым восходом солнца краски и запахи становятся гуще.
Свежий запах трав и прели, стоялой воды и родников, запах хвои и смол, сырости и солнца неудержимо бродит по тайге.
Порой по Авлакану за сотни километров потянет едким дымком пожара. И тогда замрет у водопоя сохатый, принюхиваясь к воде, роняя с теплых губ синие капли влаги, вздрогнет, поведет большими волглыми глазами, насторожится и тяжело поднимет бока, вдыхая только ему ощутимый запах далекой беды.
Маленьким комочком живого солнца юркнет в чаще колонок, едва уловимо цокнет белка да вздохнет где-то тяжело, с отрыгом сытый хозяин тайги – медведь.
Безбедное выпало лето. Уродилось достаточно и ягод, и орехов, и травы. Птица и звери сыты, добродушны, примолкли, затаились беззлобно.
С густых горушек сладко потягивает малиной – лакомился хозяин. Он сейчас тоже добрый перед сном, нагнал жира, на весь мир вприщур смотрит. Ради шалости попугает важенок, согнет березку, срубик с подкормкой для соболя поворочает и успокоится, довольный.
Идет человек по тайге, видит все, слышит, каждый запах чувствует. Родился в тайге, вырос, стареть начал. Вот уже и внуки в охотники выходят. Хорошие охотники будут, уж он их научит, как белку добыть, соболя, как сохатого выследить, как на амаку ходить.
Идет охотник по тайге, все видит, все слышит.
Может быть, затаился, пошутить хотел, может, о чем задумался и человека не учуял, только встал вдруг перед лицом в дыбки сам хозяин – сытый да гладкий – амака.
Замер охотник, зверь замер. Стоит на задних лапах, покачивается. Протяну к нему руку – в брюхо упрешься. Глаза в глаза, грудь в грудь. Человек и зверь.
Мысли быстрые: «Стрелять? Не успеть – сомнет. Пальма-рогатина за спиной… Прыжок в сторону…. Успею…»
Не успел. «По-доброму» обнял амака за плечи, охнул, обжигая лицо влажным паром, запахом малины. Чмокнул в губы, в щеки, в лоб, в глаза… Осел, наткнувшись на острое жало пальмы.
…Душно пахнет малиной, свежей травой, черемушником пахнет, огнем… Солоно.
Солнце сваливается за тайгу, кричит кедровка, белка цокает, торопко перебирая лапками, пробежал соболь, дохнуло далекое студеное море, изморозь на землю пала. И снова солнце, снова запах малины. Густая, липкая, запеклась она на траве, на пальцах, на плечах, в горле. Красно, все красно.
Опять сваливается к верхушкам деревьев солнце, опять кричит кедровка. Голубой клочок неба почему-то внизу, и деревья вниз верхушками опрокинулись, а солнце, величиной с колонка, плавает внизу, в густой малиновой кашице. Солоно, огнем жжет…
Уперся человек руками в землю, родная она, земля, добрая. Кругом пошли деревья, корнями вверх растут…
Нет лица у человека – сплошная рана, кровь запеклась, слезой блесткой – сукровица.
Чмокнул амака, поцеловал, снял лицо, как и не было лица. Там, где скулы, были живыми капельками глаза. Видят глаза, только деревья теперь макушками вниз растут.
Однако ниточка конопляная в кармане тонкая-тонкая…
Чумка собак погубила, не дали бы в обиду собаки. Собака – друг. Помнит он, как вот так же Загрю – мудрого пса – амака чмокнул. Выкатились глаза у собаки. Он тогда ему конопляной ниточкой зашил рану. Враг Загри – Полкан (раньше на дню десять раз дрались), а тут неделю глаза ему зализывал. Выжил Загря, охотился… Дружба.
…Только бы ниточку достать. Пальцы двигаются… Сначала один глаз… потом другой. За горушкой, однако, родники бьют… Только бы ниточку достать.
Уперлись руки в землю, родная она… Охнул. Сел, привалился спиной к бугру холодному. Не бугор это – амака. Не ушел – так с пальмой и завалился рядом.
Вот она, ниточка, – в кармане, в тряпице завернутая.
Зубами скрипнул. Целы челюсти – нитку перекусить надо.
Однако жив охотник и жить будет, вот только глаза бы видели, шибко в тайге они нужны, ух, шибко…
– Дело, паря, вот так было, – говорит Макар Владимирович. – Человек тот, брат мой, Егор, домой добрался. Лечили, шибко лечили. В Иркутск возили, в Красноярск – шибко большой город. Врач – ай-ай-ай кричал, руками махал. Ты, говорил, паря, кирурга. Глаза сам себе сделал. Шибко Егор серчал, паря. «Не кирурга я – охотник», – говорил…
Тогда прожил я у Макара Владимировича Почогира весь зимний сезон охоты. Вышли мы из тайги только в марте. Ослепительно белели снега по Авлакан-реке. Стояли еще довольно сильные морозы, но солнце уже играло вовсю, сочно бронзовели сосны, чуть-чуть заалела березовая кора, лиловыми стали тальники, словно бы чуть припухли стволы лиственок. Мир просыпался, сбрасывал с себя тяжелое покрывало безмолвности. Шла весна света.
Наш аргиш прибежал в Буньское одним из последних. Так велось исстари: Почогиры возвращаются к самому открытию Праздника охотника.
Шумное, необыкновенно людное село встречало Макара Владимировича.
Мы шли улицей впереди оленьих упряжек, отвечая на рукопожатия, улыбки, добрые слова.
– С окончанием промысла тебя, отец, – сказал Иван Иванович Ручьев и обнял старого охотника. Они расцеловались троекратно, по-русски. – Как добыча? – спросил секретарь.
– Помаленьку, – улыбнулся Макар Владимирович и добавил: – Не обидела тайга.
– Спасибо, – Иван Иванович снова обнял охотника, и я услышал фразу, предназначенную только для него: – Как здоровье, бойе? Давай-ка после праздника махнем в город, полечимся, а?!
– После, после, бойе. Макар еще побегает, – тоже в полушепот ответил охотник.
Чувствовал тогда себя Макар Владимирович плохо. Об этом знали я, Дарья Федоровна, Степан и Гошка. Приступы боли пришли в конце февраля. Болезнь снова начала наступление. Ганалчи не сдавался.
Прошел Большой праздник охотника. Я попрощался с друзьями. Они провожали меня до самолета. Десятки нарт выкатили на взлетное поле. Десятки людей в неуклюжих оленьих парках неуклюже, но искренне обнимали меня, жали руки, желали всего доброго.
Вся громадная семья Почогиров пришла проводить гостя. Может быть, были тогда среди них и Петр Владимирович, и Биракан, и Асаткан, Тураки, Агды, Алексей. Может быть. Я не запомнил их тогда в коротком и суетливом времени прощания.
Запомнил Макара Владимировича. Он подошел к самолету, без шапки, желтолицый, похудевший, спокойный и мудрый. Подал руку.
– Прощай, сынок. Приезжай к нам. Твой дю[25]25
Дю – чум, дом.
[Закрыть] всегда в нашей тайге. Люди тебя не оставят, не оставляй и ты их. Прощай.
Я ничего не сделал для них, ничего. Я просто жил с ними, ел их трудный хлеб, стараясь отплатить его неумелым для меня таежным трудом. Я учился тому, что для них составляет жизнь, слушал их речь, старался понять и полюбить то, что любят они.
Чем же я заслужил их уважение, их искренние объятия, простые, как реченье птичьих стай, слова Старого Охотника? Чем же?.. Неужели тем, что четыре месяца из своей жизни жил их жизнью, их заботами? Был агиканом – таежным жителем. Но это так мало, чтобы принимать как должное их доброту и заботу о себе.
«Одному человеку мало надо. Людям – много. Шибко много. Потому и каждый должен жить для других. Тогда хорошо будет», – вспомнилась мне фраза Макара Владимировича. Обронил он ее в разговоре, как всегда, походя. А вот вспомнилась, из души откуда-то всплыла.
– До свидания, Макар Владимирович! До свидания, друзья!
– Прощай, бойе!..
Самолет ушел в небо. Но долго еще виделись на белом пологе Авлакан-реки люди, олени, нарты.
Виделся Макар Владимирович, вот так же, как сейчас, – живой, без шапки, в сединах и шрамах, с добрым и мудрым взглядом чуть раскосых глаз.
Кон-ги-лон. Кон-ги-лон. Кон-ги-лон.
Стучатся в сердце воспоминания.
Вот так было.
Бур-бу-лен. Бур-бу-лен. Бур-бу-лен.
Мы идем на Балдыдяк, на могилу, где покоится в тяжелой сибирской земле прах Макара Владимировича, Стрелка из лука, Ганалчи.